Повседневная жизнь Вены во времена Моцарта и Шуберта [Марсель Брион] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Марсель Брион Повседневная жизнь Вены во времена Моцарта и Шуберта






Наталья Бакши Просто Вена
— Глубину следует прятать. — Где? — На поверхности. Гуто фон ГофманстальПеред читателем одна из тех странных книг-«обманок», названия которых привлекают громкими именами, якобы не имеющими никакого отношения к тому, о чем в них говорится. «Ну хорошо, — скажет иной въедливый читатель, — понятно, почему Моцарт, но почему именно Шуберт, а, например, не Бетховен?» Возможно потому, что Бетховен не писал вальсов — тех самых вальсов, страстной любовью к которым столь знаменита австрийская столица. Но окончательное решение этого вопроса остается все же за читателем, поскольку автор в этом смысле никаких объяснений и не предлагает. Эта книга написана в свободной манере, и вы не найдете в ней научной строгости изложения, призванной подтвердить ученость автора. Но это отнюдь не умаляет богатой эрудиции Марселя Бриона и его знания многих тонкостей венской жизни. Не сомневаюсь, что читателя неизбежно заинтересует, что венцы думали о самих себе, как себя представляли и как трогательно обошлись со своей историей, кое о чем позабыв, а кое-что старательно выпятив и усилив, словом, все то, что составляет мифологию города и ту особую атмосферу, которая поддерживает эту мифологию и развивает ее.
* * *
Прежде чем сказать несколько слов о мифологии, начнем издалека и возьмем одну, на первый взгляд простую и вполне понятную фразу: «Посетитель сидит в кафе и пьет кофе». Однако так ли она понятна? В конце концов мы осведомлены лишь о действии, происходящем в данный момент, и не имеем представления о главном: 1. Кто этот посетитель? 2. В какой кофейне он сидит? 3. Что за кофе пьет? Последний вопрос кажется наиболее простым, но лишь для людей несведущих. Ибо давно известно, что в венском кафе невозможно заказать просто «чашечку кофе». Там необходимо выражаться точно, иначе можно потеряться в числе сортов, способов приготовления, оттенков цвета и вкуса, из которых придется выбирать. Помимо обычных «эспрессо» и «по-турецки» вы найдете знаменитые «меланш», «капуцин», «коричневый», «Мария Терезия» — местные обозначения видов этого волшебного напитка, в различных пропорциях смешанного с молоком. В начале прошлого века венские кафе были знамениты тем, что столики в них были с покрытой лаком цветовой шкалой, отображавшей до 20 возможных оттенков цвета кофе, и заказы, а также жалобы кельнерам поступали в следующей форме: «Мне, пожалуйста, номер 12» или: «Я же просил 8, а Вы мне принесли 13». В то время были еще и рецепты, известные лишь узкому кругу завсегдатаев: например, «быстрый Нойман», изобретенный неким Нойманом, который настаивал на том, что особый вкус напитку придает порядок его смешения с кофе и что для получения этого особого вкуса следует в налитые прежде сливки «быстро» вылить горячий кофе. Но настало время перейти к более серьезным вещам и вспомнить еще одну простую и ясную фразу: «Я не немец, а австриец, человек из Нижней Австрии, и прежде всего венец». Так писал австрийский классик XIX столетия Франц Грильпарцер. Это — самое лаконичное, самое емкое и… очень австрийское определение. Что же означает «не немец, а австриец» и «прежде всего венец»?.. Сегодня Австрия — маленькая страна в сердце Европы, а прежде она была Великой империей Габсбургов, той самой Австро-Венгрией, которая до 1918 года объединяла земли не только нынешних Австрии и Венгрии, но еще Чехии, Словакии, отчасти Югославии, Румынии, Польши и Италии. Это страна всемирно известных композиторов и почти никому не известной австрийской литературы, самая уютная страна Европы… с наивысшим процентом самоубийств. Одним словом, это страна контрастов, где каждое понятие немыслимо без своей противоположности. И ключевое для нее слово — «миф». Современный австрийский писатель Фридрих Торберг в одном из эссе сказал о Вене: «Это город действующих легенд. Злоумышленники считают, что легенды — вообще единственное, что функционирует в Вене». И далее: «В Вене никогда не бывает, чтобы реальный факт постепенно поблек и превратился в легенду. Здесь легенда превращается в действительность». Один из всемирно знаменитых австрийских мифов — миф о трагической картине похорон Моцарта, классическое изображение которого мы находим в дневниках дворника Йозефа Даймера: «Ночь, когда умер Моцарт, была темной и бурной. При его отпевании также разыгрались непогода и буря. Одновременно шел дождь со снегом, как будто природа прониклась ненавистью к современникам великого поэта звуков, которые так скудно собрались на его погребение. Лишь немногие друзья и три женщины провожали тело. Супруги Моцарта не было среди них. Эта небольшая группа лиц стояла с зонтами вокруг гроба, который затем повезли по Гроссе Шул-лерштрассе на кладбище св. Марка. Непогода становилась все злее, и около Штубентор даже эти немногие друзья решили вернуться и направились в „Серебряную змею“».[1] Миф о непогоде и братской могиле так прекрасно вписывался в австрийские сентиментальные представления о том, как все должно было происходить, что никого не заботило, как это было на самом деле. Однако нам придется добавить несколько слов, которые вернут читателя к действительности: «Йозеф II ввел в Австрии строгую регламентацию ритуала похорон. У него были для этого серьезные основания. Еще жива была в памяти страшная эпидемия чумы, унесшая сотни тысяч жизней… Регламентация похорон была призвана воспрепятствовать возможному распространению эпидемии или возобновлению ее. С этой целью тело умершего стремились изолировать, а само захоронение делалось так, чтобы ускорить гниение трупов. К соображениям гигиеническим присоединялась боязнь похоронить человека, долгое время находящегося в бессознательном состоянии или заснувшего летаргическим сном… Это наложило весьма своеобразный отпечаток на похоронный обряд в Вене в восьмидесятые — девяностые годы XVIII века. Тело умершего отвозили в церковь, там происходили отпевание и последнее прощание с умершим. Но хоронить можно было лишь спустя двое суток с момента смерти: специальный указ не делал исключения даже в случае смерти от черной оспы или чумы. Поэтому покойника оставляли до наступления темноты в специально для того отведенном месте храма. Затем возница погружал тело или тела, если их было несколько, на дроги и отвозил на кладбище, вынесенное далеко за городскую черту. Сопровождать умершего на кладбище было запрещено. Погребение также совершалось без присутствия близких или каких-либо других людей, кроме могильщиков… Обычным явлением были похороны нескольких умерших в одной общей могиле».[2] Самым знаменитым австрийским мифом стал миф габсбургский, в котором реальность незаметно переплелась с иллюзией, прославление реальных ценностей — со сказочными.[3] Начало габсбургского мифа относят к 1806 году, когда император Священной Римской империи Франц II стал австрийским императором Францем I. Через габсбургский миф проходит вся своеобразная история Австрии, тесно связанная с христианской католической культурой и пережитой этой страной эпохой великих преобразований, эпохой Просвещения, в честь императора Иосифа II получившей здесь название «эпохи йозефинизма». Основными компонентами этого мифа были отсутствие национальной замкнутости и даже чрезвычайная открытость австрийского общества, приверженность бюрократии и гедонизм. Об истоках «открытости» убедительно написал известный австрийский писатель и публицист рубежа XIX–XX веков Герман Бар, который в своей книге «Вена» попытался разложить на составляющие так называемый австрийский характер и определить меру влияния на его формирование осевших на территории Австрии многочисленных племен и народностей: кельтов, римлян, германцев и славян. «Кельты — это основа венцев, — пишет Бар. — Сами люди не сильные, не своенравные и не настойчивые, но с какой-то удивительной расположенностью по отношению к другим, в которых они только и могут раскрыться, всегда готовые от себя отказаться, всегда готовые уступить, отступить, воспринять, привлечь к себе, ассимилироваться самим или раскрыться для других. Они готовы к постоянному становлению. У них нет никакого характера, один лишь контур. Это народ, который содержит в себе только форму. Это народ великих актеров». «Двенадцать разных голосов шепчутся в дунайской крови расположившегося здесь народа, и кто является истинным австрийцем, у того двенадцать и более душ», — отмечал исследователь австрийской литературы Бауманн. Что же до бюрократии, то венцы культивировали ее прежде всего из приверженности к порядку, иерархии. Не случайно в творчестве классика австрийской литературы Грильпарцера наиболее часто встречающееся слово — «порядок»; каждый из его героев готов умереть за «порядок», который они воспринимают как божественный, данный свыше. Однако у приверженности к порядку есть и оборотная сторона: это стремление приводит к тому, что отдается предпочтение не нарушающей порядка посредственности, к отказу от любых перемен, к политической, а также и душевно-духовной иммобильности. Любимым героем австрийской литературы той эпохи был старый, трудолюбивый чиновник, «который стремится сдержать штурмующие ветры скрепами деловых бумаг — как в канцелярии, так и в жизни». Третьим компонентом габсбургского мифа, который наиболее полно раскрыт в книге «Повседневная жизнь Вены во времена Моцарта и Шуберта», был гедонизм, культивирование чувственных развлечений. К нему же относился миф о «прекрасном голубом Дунае» и «венской крови». В это же время родился и миф о Вене как городе вечного праздника. Стефан Цвейг писал: «Было потрясающе жить в этом городе, который гостеприимно принимал все чужое и с радостью отдавал себя… Вена была, как известно, городом наслаждений, где очень заботились о кулинарии, хорошем вине и терпком свежем пиве, а также о выпечке и сладком. Но в этом городе были взыскательны и к утонченным удовольствиям — музыке, танцам, театру, ведению беседы. Умение вести себя любезно и со вкусом рассматривалось здесь как особое искусство». Марсель Брион подробно рассказывает и о гурманстве венцев, и об их приверженности музыке, а также об особой любви к театру. Целый пласт австрийской культуры связан с народным театром. Как мы уже говорили, Австрия — страна, соединившая в себе не только различные народности, но и различные культуры. Театр здесь складывался из элементов орденского, а именно иезуитского и бенедиктинского театров, школьной драмы, испанского театра, а также итальянской оперы, комедиа дель арте и бродячих английских трупп. Театром увлекались все — от последнего башмачника до императора. Известно, что особенно расцвела венская опера после окончания 30-летней войны, благодаря покровительству жены Фердинанда II Элеоноры Мантуанской. Фердинанд II и сам был очень музыкален, сочинял, рисовал и писал музыку вместе с женой. Так что не зря знаменитый Монтеверди посвятил государю своего «Одиссея». На рубеже XIX–XX веков, в эпоху модерна, любовь к театру выльется в особую эксцентричность венцев и стремление к театрализации жизни. Таковы истоки габсбургской политической мифологии, развившейся и укрепившейся благодаря обоюдному согласию «верхов» и «низов». К этой же мифологии относится и беспрецедентная забота венцев о своих монархах и одновременно детская доверчивость к тому, что они делали и говорили. Нигде так, как в Австрии, от монархов не требовали в первую очередь проявления высоких нравственных и душевных качеств. Не случайно в центре Вены поставлен памятник Марии Терезии в окружении четырех аллегорических фигур — Мягкости, Мудрости, Силы и Справедливости. Этот обычный для классицистического стиля антураж приобретает в Вене дополнительный оттенок. А напротив памятника Марии Терезии в народном парке можно увидеть статую хрупкой императрицы Элизабет, супруги императора Франца Иосифа, трагически погибшей в 1898 году. В отличие от Марии Терезии ее окружают лишь две собаки… «Она очень любила собак», — с трогательной серьезностью объясняют эту «аллегорию» венцы. Мария Терезия вошла в историю как «мать своих подданных». Вольтер в «Краткой истории столетия Людовика XV» описал, как, держа на руках малолетнего сына, Мария Терезия в трудную минуту обратилась за помощью к венграм, не устыдившись прилюдно заплакать. Результатом этого проявления слабости стали преданность подданных и их горячая симпатия, завоеванная ею на всю жизнь. В отличие от своего сына, императора Иосифа II, Мария Терезия прекрасно чувствовала обстановку и умела идти на компромисс. В своих реформах она стремилась соблюдать «золотую середину» и не затрагивать исконно сложившихся порядков, как то: привилегий старых аристократических родов, отношений Церкви и государства. Зачинательница основных реформ Австрийской империи Мария Терезия придерживалась консервативных взглядов не только в политике, но и в быту. Наследнику престола Иосифу удалось уговорить мать сделать прививку от оспы лишь после того, как эпидемия унесла жизни первой жены самого Иосифа и одной из дочерей Марии Терезии, а также навсегда изуродовала дочь Елизавету, по общему признанию самую красивую девушку в семье. Иосиф II активно взялся за дело, в отличие от матери не идя на компромиссы и не считаясь с общественным мнением. Он правил всего 10 лет (1780–1790), и именно это время вошло в историю под названием «эпохи йозефинизма». Иосиф II покусился на святая святых тогдашнего общества: на привилегии дворянства и Церкви. В целях «гигиены и оздоровления» своих подданных он запретил ношение корсетов и корсажей, ввел прививки от оспы, а также, как мы уже говорили, запрет на пышные похороны. Венские монастыри его решением стали больницами, министерствами или тюрьмами, а некоторые и вовсе были упразднены. Всеобщий утилитаризм был тогда не внове и ни у кого не вызывал удивления. Поразительно было то, как Иосиф II распорядился культурными богатствами, хранившимися в тех монастырях. Многие библиотеки и собрания картин пошли с молотка или были расхищены, а то и уничтожены. Все это было сделано в духе отнюдь не просвещения, но варварства, которому всегда находилось место, независимо от эпохи, страны и ее культуры.* * *
В Австрии сложилось особое восприятие личности, так что ей не грозили максимальная субъективизация и индивидуализация, а следовательно, и кризис замкнутого на самом себе мироощущения, как это было в Германии. Личность здесь никогда не была развита настолько, чтобы ощущать себя независимой и оторванной от мира, напротив, она была неотъемлемой частью заданной иерархии мира. Отсюда — откровенное неприятие Наполеона, глубоко чуждого австрийской ментальности. Грильпарцер называл его «сыном судьбы», «ничего не видящим вокруг, кроме своих идей, и готовым всем ради них пожертвовать». При этом под «судьбой» он подразумевал политику, точнее, тотальную политизацию жизни. Политик пытается занять место Бога, взять в свои руки то, что изначально ему не подвластно, — саму судьбу. В этом писатель видел опаснейшую болезнь времени, ярчайшим носителем которой стал Наполеон. В противоположность другим европейским странам, восхищавшимся масштабом личности Наполеона, Австрия, любившая все маргинальное, скромное, неброское, именно эту мощь воспринимала как нечто невыносимое и непростительное. Фигура Наполеона была глубоко чужда австрийской, и в частности венской, культуре, как чужд был ей романтизм с его мировой скорбью, бунтом против всего мира и бесконечным одиночеством. В этой стране вообще не нашли своего выражения те направления, которые господствовали в то время в европейском искусстве, — классицизм, романтизм. Австрии словно неведомо историческое развитие, время в ней остановилось, и старое преспокойно соседствует рядом с новым, Средневековье и барокко — рядом с реализмом, классицизмом и сентиментализмом. И такое смешение стилей получило одно имя «бидермайер», став отдельным, самостоятельным направлением. Бидермайер обычно понимают как крайне ограниченный, бюргерский стиль, как символ ограниченности. Таково господствующее мнение, и Брион здесь не исключение. Идилличная статика, скопление вещей, фотографическая, почти навязчивая четкость изображения — во всем этом сказывается размеренный стиль жизни, порядок, разрушаемый изнутри собственной гротескностью. В этой гротескности уже заложена несвобода, грозящая в любой момент выйти из-под контроля. Таков скрытый пара-доке как бидермайера, так и всей общественной жизни Австрии первой половины XIX века.[4] Тот, кто принимал правила несвободы, мог наслаждаться всеми преимуществами уютной, легкой жизни, фотографической копией реальности. Эта копия как две капли воды была похожа на подлинник, и лишь очень чуткий глаз мог уловить подмену. Известный писатель и поэт Игнац Франц Кастелли (1781–1862), беззаботно проживший жизнь, легко расстававшийся с жизненными принципами, не отягчавший ни себя, ни других лишними заботами, являет собой именно такой поверхностно бидермайеровский тип, тот тип, который принимает картину за реальность. Но было и другое. Для многих мыслящих людей того времени Вена представала двуликим Янусом. В ней царили уют, всеобщее дружелюбие и мягкость, все были довольны и счастливы, и однако двое самых известных представителей австрийской культуры, Раймунд и Штифтер, покончили с собой; Шиканедер, создатель и директор Театра-ан-дер-Вин, либреттист «Волшебной флейты» Моцарта, сошел с ума, Грильпарцер всю жизнь страдал от одиночества, так и не прижившись в обществе, не создав семьи. Бидермайер коллекционирует вокруг себя давно отжившие вещи, как бы пытаясь тем самым остановить время, вернуть ушедшее, но также и заполнить образующуюся вокруг пустоту. Такая тщательно заполненная старыми вещами пустота таит в себе взрывоопасное начало. Вещи запечатлены до карикатурности четко и ясно, поскольку именно в этот миг как никогда приходит осознание их конечности и непостоянства, их ускользающей сущности. В бидермайере, с виду таком гармоничном и безобидном, заложены все основные противоречия и трагедии эпохи — в сглаженной форме, в оставляемом им ощущении едва ощутимого напряжения. Гладкая гармония бидермайера в конечном счете оборачивается иронией — иронией вещей, которые, с одной стороны, избегают полутеней, а с другой — совершенно аллегоричны и подразумевают нечто более значительное, чем они собой представляют. Обратная сторона бидермайеровского реализма — мифологизация вещей. Вещь теряет свое утилитарное значение, взамен приобретая значение эстетическое и мифологическое. Как ни странно, именно в этой подмене функций вещи скрыты истоки модерна с его театрализацией, эстетизацией жизни и относительностью ценностей. Самое, казалось бы, традиционное течение уже несет в себе основы собственного разложения. В бидермайере заложена даже некоторая доля трагизма — в его нежелании и неспособности к самореализации. Наиболее ясно это видно на примере творчества Штифтера и Грильпарцера. Один из героев Штифтера всю жизнь пытается изобразить на бумаге одно и то же болото и так и не преуспевает в этом, неожиданно бросив рисование и найдя цель жизни в чем-то совершенно ином. Другой его герой, барон фон Ризах («Бабье лето»), всю жизнь собирает и реставрирует старинные вещи, пытаясь сохранить их красоту. И хотя сам коллекционер вызывает у читателя явную симпатию, нельзя не признать, что в самом принципе коллекционирования уже таится и насильственная упорядоченность и некоторая омертвелость. О неспособности выразить себя повествуется и в одном из лучших рассказов австрийской литературы — в «Бедном музыканте» Грильпарцера. Музыкант, претендующий на то, чтобы «играть Господа Бога», а не «Моцарта и Баха», не способен извлечь из своей скрипки даже «простейшего вальса». Заметим в скобках, что вальс, прославляемый Брионом в настоящей книге, для Грильпарцера является синонимом самого вульгарного и грубого искусства. При этом характерен сам масштаб проблемы: высшим мерилом не только в жизни, но и в искусстве для австрийского писателя остается Бог. Брион воспринимает австрийскую революцию 1848 года как некое недоразумение, не очень-то вписывающееся в четко и гладко выстроенную им историю «прекрасной эпохи», или «Золотого времени», Вены. По глубокому убеждению Бриона, эта революция нелогична, неоправданна, немотивированна, нехарактерна для милого и безобидного австрийского характера. Но здесь мы перестаем углубляться в особенности так и не понятого Брионом странного господина Бидермайера, опровергать одни факты и приводить другие, делать строгий научный разбор, а последуем примеру самого Бриона, назвавшего свою книгу по ему одному известным причинам «Повседневная жизнь Вены времен Моцарта и Шуберта». Не следует быть чересчур дотошным и задавать слишком много вопросов, долой излишнюю серьезность, ведь Вена — это просто Вена! Наталия БакшиГлава первая СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД ВЕНА
Вена и римляне. Город-космополит. Царство гармонии. Смешение всех европейских народов. Политический квиетизм. Гурманство. Свадьба нищих. Творцы предметов роскоши. Мария Терезия и Иосиф II. Франкмасонство и Церковь. Просвещенное самодержавие. Пасквили и памфлеты. Папа в Вене. Нерешительный император. Удивительные красоты Вены. Дворцы и замки. Мода и элегантность. Этикет и простота
Судьба любого города и характер его жителей заложены изначально в его географическом положении, в окружающем его пейзаже, в том, как этот город «открывается» или, наоборот, «сопротивляется» внешним влияниям. Влияния же эти, со своей стороны, проявляются более или менее последовательно и явно в зависимости от того, насколько проницаемы внешние границы, насколько подвержена воздействию внешних факторов ментальность народа и насколько, наконец, благоприятствует либо противостоит космополитизму царящий в городе политический режим. Любой город подобен живому организму: он состоит из тела и души, которые активно действуют и взаимодействуют между собой. Город подчиняется общему для всех живых существ закону, у него есть свои периоды роста и упадка, но все испытания, которые могут его ожидать, будь они ему на пользу или во вред, определяются географическим фактором. Как и всякому биологическому организму, городу свойственно извлекать наибольшую выгоду из тех преимуществ, которые предоставил ему случай или, точнее, воля и интуиция его основателей, наметивших место для первого поселения. И различные эпохи, или различные возрасты, через которые пройдет этот город в ходе естественного расширения и внутреннего созревания под воздействием внешних событий, лишь подтверждают постоянство этого долговременного фактора.Вена и римляне
Когда римляне — а они были озабочены прежде всего сложными стратегическими задачами расширявшейся империи, в число которых входили обеспечение надежных баз для армий, снабжение отправляемых в далекие вражеские земли легионов, обеспечение свободного проезда курьеров и передвижения войск во время войны, а также доставка всевозможных товаров по ее окончании, — приняли решение построить свой город Виндобону в чрезвычайно удобной, раскинувшейся на берегу Дуная плодородной долине, окруженной невысокими горами — скорее холмами, — и устроили там узел коммуникаций, обеспечивающий надежную связь между западом и востоком, севером и югом, — они на долгие столетия и даже на тысячелетия определили судьбу города, которому было суждено стать Веной. Вена многим обязана римлянам, и хотя там нет эффектных памятников древности, которые можно увидеть в Арле или в Трире, раскопки постоянно подтверждают существование здесь в прошлом обширных римских поселений. Город стоит на развалинах жилых домов, храмов, дворцов, и, как в Риме, здесь есть свои катакомбы. Возможно, судьбу этого города, которому предстояло стать столицей империи, предугадали уже те полководцы, которые превратили простой укрепленный лагерь, некогда предназначенный только для противостояния стремительному натиску квадов и маркоманов, в крупный политический и экономический центр, эмпориум, куда начала стекаться продукция плодороднейшего из всех регионов, благодаря чему он быстро превратился в многонаселенный город. Равнина, на которой, выйдя из своей романской колыбели, выросла и расцвела Вена, отличалась исключительным плодородием. Здесь в изобилии произрастали зерновые культуры, на залитых солнцем склонах вызревал виноград, из которого делали легкое вино, дарующее душе веселость, легкомыслие и даже беспечность. Поросшие лесом холмы изобиловали дичью; высота наиболее значительных из них не превышала шестисот метров (Каленберг — 483 метра, Херманнскогель — 543, Леопольдберг — 433…), они как бы «притворялись горами», что вполне устраивало горожан, которые сделали их излюбленным местом отдыха, ибо там было легко представить, что ты уже очень далеко от города со всей его суматохой и толпами людей. Пересекавший эту равнину Дунай во все времена был судоходным, с оживленным движением судов, и это позволяло совершать путешествия в дальние края и возбуждало воображение домоседов-горожан. Черное и Средиземное моря, соединявшиеся таким образом с венской равниной, привносили в город тот дух экзотики, который всегда был одним из очарований Вены, а мощный приток влияния различных цивилизаций, постоянно присутствовавший благодаря этой благодатной водной артерии, содействовал обмену идеями, манерами, обычаями, разнообразию языков и даже моды и не мог не сделать австрийскую столицу в высшей степени космополитическим городом.Город-космополит
Впрочем, следует сразу договориться о понимании слова «космополитический» в применении к городу. В других странах оно обозначало бы нечто вроде караван-сарая, куда съезжаются иностранцы, чтобы развлечься или заключить сделку, но, приезжая, они не могут укорениться, ибо не имеют ничего органически общего с местной почвой, и остаются случайными людьми, приезжающими сегодня, уезжающими завтра; город на них никак не влияет, и сами они никак не изменяют его. Во всех крупных древних, как и в современных, городах всегда были и будут люди, которых греки называли «метеками»;{1} они могли жить в каком-то городе на протяжении жизни нескольких поколений, оставаясь совершенно чуждыми городу: таковы, например, европейцы, работающие на концессионных предприятиях в Шанхае или в Гонконге. Характер города, пейзажа и горожан привел к тому, что в Вене таких метеков никогда не было; обосновывавшиеся там иностранцы немедленно ассимилировались. При этом они не утрачивали своих расовых или национальных особенностей; совсем наоборот, они привносили их в то национальное многообразие, из которого в течение столетий и сложилось венское население, неоднородное, но представляющее собой некое гармоничное смешение. Будучи сообществом, чрезвычайно чувствительным ко всему приходившему с севера и юга, с востока и с запада, Вена стала своего рода плавильным тиглем, в котором постоянно происходило объединение людей самых разных национальностей; они, казалось бы, могли оставаться изолированными друг от друга в собственной самобытности, но сам дух венского пейзажа, мягкость климата, а, возможно, также и некая тайная магия, свойственная этому городу, каким-то непостижимым образом способствовали их удивительному слиянию. Формированию единого, достаточно однородного целого из самых разнообразных элементов способствовали также исторические события. Став крупным центром военной экспансии на восток и одновременно постоянной ярмаркой, на которую съезжались торговцы из всех подвластных Риму стран, Вена на протяжении всего Средневековья постоянно утверждалась в своем поистине имперском предназначении. Империя Габсбургов придала окончательную форму — окончательную, увы! — лишь до того момента, пока война и националистские устремления после Первой мировой войны не разрушили этот мир, эту гармонию, эту двуединую империю, — итак, империя Габсбургов только придала официальный статус и политически сцементировала смешение народов, инстинктивно выбравших Вену местом постоянного проживания и прижившихся здесь настолько, что в конечном счете все они слились в некое австрийское «целое», не знавшее ни принуждения, ни произвола, ни конфликтов.Царство гармонии
В своей очаровательной книге Европейские столицы[5] Вильгельм Хаузенштайн отдал справедливость этому своеобразному центростремительному процессу, сделавшему Вену уникальным городом благодаря ее исключительной способности, не обезличивая, ассимилировать всех, кто вновь селился на ее земле, и подчинять их стихийной силе местного климата и пейзажа. Эту стихийную силу, сравнимую с силой роста растительности, Хаузенштайн обнаруживает даже в архитектурном облике города. «Сам вид города, — пишет он, — говорит о том, что „растительное“ начало здесь преобладает над структурно-организационным». Это означает, что Вена развивалась естественно и свободно, как живое существо, как дерево, пускающее свои корни там, где ему нравится, и вдыхающее своею листвой живительное дыхание космоса. Коллективная организация застройки города никогда не доходила здесь до тиранического подавления инициативы, и только в нашу эпоху стремление к урбанистическому упорядочению стало проявлять свой деспотический характер. Ранее же, вплоть до середины XIX века, когда были снесены старинные городские укрепления и на их месте разбиты бульвары, образовавшие так называемое Кольцо (Der Ring), кольцо в полном смысле слова, что можно сравнить с осуществленной бароном Османом{2} перепланировкой Парижа, — вплоть до этого времени город разрастался стихийно, черты прошедших эпох накладывались друг на друга, сочетаясь и переплетаясь самым естественным и гармоничным образом. Слова «естественный» и «гармоничный» приходят в Вене на ум на каждом шагу, потому что необычная гармония этого города обусловлена полным согласием с природой, той органической гибкостью, в условиях которой растет и развивается этот коллективный организм. Старый город, насыщенный историей и рассказывающий вам истории из своей жизни, сохраняет стариковское добродушие и простоту. Но это вовсе не город-музей. Прошлое здесь присутствует как неотъемлемая составляющая живого настоящего и само остается живым именно благодаря этой тесной связи с настоящим. Одна из улиц города, носящая имя великого императора-философа, напоминает о том, что сюда когда-то пришел и жил здесь Марк Аврелий, что он победил маркоманов, спустившихся с богемских гор на Маркхельдскую равнину между левым берегом Дуная и правым берегом Марка, равнину, ставшую в 1260 году роковой для короля венгров Белы IV, которых наголову разбил король Богемии Оттокар II, в свою очередь позднее разгромленный и убитый Рудольфом Габсбургом; здесь же 21 мая 1809 года наполеоновские войска сражались в знаменитой Эсслингской битве. Когда Вильгельм Хаузенштайн говорит нам о том, что Вена зиждется на римском фундаменте, речь идет не только о фундаментах собора Св. Стефана или о катакомбах, но в большей степени о том имперском предназначении, которым город был отмечен с самого начала своего существования. Это предназначение было воплощено в жизнь династией Габсбургов и выполнялось вплоть до падения империи в 1918 году — падения, подведшего итог, символизировавшего и предвосхитившего разрушение старой Европы, той самой Европы многовековых монархий и казавшихся несокрушимыми империй, падение которых привело к воцарению убийственных форм национализма и бессмысленных революций, заменивших довоенные гибкие и гармоничные политические сообщества искусственными объединениями народов. Облик Вены складывался так же, как формировалось ее население. Вплоть до момента, когда градостроительное планирование пришло на смену свободной застройке, допускавшей индивидуальный выбор форм и материалов, архитектурные стили смешивались, подобно национальностям, и уживались рядом друг с другом как добрые соседи; между ними существовало нечто вроде биологической гармонии. Даже после колоссальных разрушений, причиненных двумя мировыми войнами, Вена и в наши дни представляет собой естественное целое, вобравшее в себя настоящее и прошлое, свободно сложившееся единство счастливым образом сочетающихся элементов, одновременно разнородное и единое, подобное симфонии, в которой партии различных инструментов сливаются в единое звучание ансамбля.Смешение всех европейских народов
Что представляло собой население Вены в интересующий нас период, скажем, с 1780 по 1850 год (впрочем, эти даты не имеют никакого формально ограничительного значения и выбраны лишь для определения временного «поля действия»)? Если уж придавать значение каким-то датам, то решающими в истории частной жизни венцев являются: как исходная точка — приход к власти Иосифа II,{3} а как завершающий момент — революция 1848 года. Перед смертью Марии Терезии в империи господствовал достаточно формалистический и негибкий самодержавный режим, почти средневековый по характеру и внешнему облику. В результате революции возникает глубокая, готовая в любой момент расшириться пропасть между различными категориями населения; эта заря классовой борьбы одновременно знаменует собой упадок исполненного взаимного доброжелательства сосуществования аристократии, буржуазии и пролетариата, достигшего наиболее яркого выражения именно в период, о котором мы будем говорить. В конце XVIII и начале XIX века не было и речи о «национальных противоречиях» среди жителей Вены, как ни различно было их происхождение. Люди общались друг с другом на равных, неизменно пребывая в хорошем настроении, а если порой и подшучивали — то в песенках, то на театральной сцене или в опереттах — над особенностями характера какого-нибудь венгра или над акцентом уроженца Чехии, то это никак не подрывало естественно сложившегося единства горожан, подобно тому как, скажем, во Франции никого не задевают традиционные шутки по поводу акцента марсельцев или жителей Оверни. И если когда-либо какое бы то ни было государство объединяло в себе представителей почти всех европейских национальностей, то это, несомненно, была империя Габсбургов! Немцы, итальянцы, поляки, венгры, цыгане, словаки и словенцы, сербы и хорваты, иначе говоря, все разнообразие германских, романских и славянских народов, а также немало евреев стекались сюда с востока, запада, севера и юга и основательно укоренялись благодаря уму, мастерству и сноровке. Евреев никто не загонял в гетто, как это бывало в очень многих других городах, и если они группировались предпочтительно в Леопольдштадте, расположенном на острове между Дунайским каналом и главным руслом реки, то поступали так, следуя традиции, восходящей к 1622 году, когда первые их соплеменники стали строить здесь свои склады и синагоги, и потому, поселяясь здесь, они сразу оказывались среди своих. Вот некоторые имена представителей крупной венской аристократии: Лобковицы, Паллавичини, Кински, Лихтенштейны, Гаррахи, Чернины, Эстерхази, Шварценберги — сами имена говорят о происхождении этих семейств. Оставим в покое знать и обратимся к коммерции. Вот какие имена записал Вильгельм Хаузенштайн, глядя на вывески магазинов из окна трамвая на коротком отрезке пути по улицам города: Деметриадес, Апфельгрюн, Трнка, Шварцброд, Бенвенисти, Срп, Цукеркандль, Витлацил, Вертери фон Вертесалья — Венгрия, Чехословакия, Италия, Восток, Германия… И все это, пишет он, в основном и определяет общий местный стиль, «венский стиль». Не будем настаивать на случайности образования таких многоплеменных сообществ. У государств, как и у городов, свои судьбы, и австрийскому государству было предначертано судьбой стать космополитическим. Такой Вена и осталась даже после того, как Австрия была в политическом смысле низведена до статуса небольшой республики, увы, совершенно отличной от того, чем когда-то была двуединая монархия Марии Терезии и Франца-Иосифа. И если Австрия, прошедшая свой тернистый путь от катастрофы к катастрофе, в наши дни уже не та, что в пору расцвета империи, то Вена, этот двухсотлетний плавильный горн, хотя и изменила облик, но сохранила свою душу.Политический квиетизм
Анализируя венский характер, можно, наверное, возвести каждый из составляющих его элементов к характерным чертам представителей разноплеменного населения Вены, но процесс сплавления этого населения воедино был столь совершенным, смешение столь однородным, что определение «венский» является единственно возможным. Совершенно очевидно, что в формирование этого характера внесла свой вклад политическая жизнь страны; абсолютная монархия времен Марии Терезии, великой императрицы, прекрасно сознававшей свои права и обязанности, не могла не внедрить в сознание жителей Вены — по крайней мере в рассматриваемую нами эпоху — своего рода политический абсентеизм, безразличие и пассивность, впрочем, оправданные безопасностью и благополучием, которые империя обеспечивала своим подданным. Жители Вены не были политизированными людьми в том смысле, что они не выдвигали требований о своем участии в обсуждении и разрешении проблем общеимперской жизни. Их идеологическая позиция в целом была примерно такова: Бог в своем Провидении дарует нам монархов, наделяя их всеми качествами, необходимыми для того, чтобы правильно управлять нами. Таким образом, нам остается лишь играть роль детей, обязанных уважать родителей, а поскольку монархи и есть наши родители, мы должны подчиняться им и принимать их решения как наиболее отвечающие благу страны. В то время как католицизм, приверженцами которого были почти все жители Вены, постепенно приводил к квиетизму путем умиротворения душ, монархия зиждилась на квиетизме политическом. Жителю Вены, мало склонному к отстаиванию чисто теоретических и абстрактных требований и желавшему прежде всего благополучной и комфортной жизни, были чужды мятежные настроения, и если уж они проявлялись, то крайне редко. Жители Вены не видели ничего зазорного в некотором конформизме, ограничивавшем их социальную философию принципом: «Живи хорошо и давай жить другим», а этот принцип не слишком располагает к дискуссиям о политических системах. Социальные проблемы практически не возникали. Получившие столь бурный отклик в Германии «идеи 1789 года» Австрию отнюдь не потрясли по той простой причине, что здесь не существовало никакого предлога для революционного противостояния. Богатство страны позволяло всем наслаждаться полным изобилием. Плодородие почвы обеспечивало избыток основных высококачественных продуктов питания, разнообразие национальных традиций сыграло большую роль в становлении превосходной венской кухни; другие территории империи также производили все необходимое в количествах, превышавших потребности. В результате всего этого жизнь в стране была крайне дешевой, и даже мелкий ремесленник зарабатывал достаточно для того, чтобы при желании устроить друзьям настоящий пир. Такие желания возникали и выполнялись достаточно часто, так как поводов было предостаточно: религиозные праздники, торжества по поводу дней рождения и других семейных дат, крупные события при дворе, паломничества и загородные прогулки…Гурманство
Житель Вены всегда был гурманом. Он любит хорошую кухню, и в особенности легкие блюда, которые подают после жаркого, перед десертом, а также кондитерские изделия, прославившие Вену на весь мир. Кое-кто из иностранных путешественников, желчных или склонных — как, впрочем, большинство туристов — критиковать и осуждать все, что попадается им на глаза за границей, с неодобрением относился к венскому чревоугодию: наряду с местными блюдами на основе сахара, муки и сливок, огромные количества которых постоянно потреблялись как в бесчисленных кафе, так и в частных домах, здесь всегда охотно готовили традиционные блюда всех провинций империи. Так австрийская гастрономия стала своего рода синтезом славянской, венгерской, итальянской, немецкой и чешской кухонь к величайшему наслаждению любителей покушать. Берлинский книготорговец Кристофер Николаи, посетивший Вену в 1781 году, не переставал ругать подряд все, что видел и слышал; любивший и сам помузицировать в часы досуга, он с большим апломбом брался судить об операх и концертах, и даже Орфей Опока не удостоился его одобрения. Этот Николаи откровенно грубо отзывается о том, что называет обжорством жителей Вены, ответственность за которое ему, верному подданному Фридриха II Прусского, угодно возлагать на католицизм и австрийскую монархию. Католицизм представляется ему «мнимой религией, отличающейся низкой культурой и отвратительным корыстолюбием» — это его собственные слова, — следствием чего, по его мнению, является «состояние худшее, нежели язычество древних времен». Священники и монархи поощряют склонность народа думать только о том, чтобы хорошо жить и досыта есть. Прусский путешественник со злобной горечью говорит о множестве заплывших жиром праздных лиц, встречающихся ему на улицах, и с тайным удовлетворением отмечает, что в Вене много не по возрасту располневших молодых людей, чей слишком явственный румянец убеждает его в том, что этот народ обречен судьбой на смерть от апоплексии. Тот, кто желал посвятить себя гурманству, мог заниматься этим без труда и без усилий, потому что за невероятно скромную сумму, например крейцеров за тринадцать, в 1786 году можно было получить обед из двух мясных блюд, супа и овощей, с неограниченным количеством хлеба и с литровой кружкой вина. Такая еда была доступна практически всем. Люди в этом счастливом городе не только не страдали от голода, но буквально все, за исключением нескольких неисправимых лентяев или беззастенчивых мотов,могли за небольшие деньги от души наедаться в свое удовольствие. Однако если Вена практически не знала нищеты, откуда там взялось столько нищих? Может быть, причиной этого было то, что, как с горечью замечает Николаи, «венцы совсем не склонны к упорному труду»? То ли из-за нужды, то ли из-за нежелания трудиться в Вене, как и повсюду, действительно были нищие, но к их ремеслу относились по-доброму: горожане проявляли щедрость, и даже рабочие допускали, что кому-то может больше нравиться просить подаяние, чем работать. Это знаменательным образом проявилось в начале XIX века, когда император учредил комиссию по оказанию помощи неимущим. Войны, а также зловещая череда неурожайных лет привели к общему подорожанию жизни, и комиссия решила организовать раздачу «народных супов», следуя инициативе американца Ремфорда, считавшегося в то время крупным специалистом по борьбе с нищетой. Ремфорда пригласили в Австрию и направили его таланты на строительство приютов для стариков и неимущих. Он разработал также законодательство о нищенстве, но главные его усилия были направлены на организацию питания, а также на использование продуктов, которыми раньше пренебрегали: кореньев, древесной коры, трав и даже костей, которые, по мнению изобретательного американца, обладали питательными свойствами. В Австрии он так хорошо поработал, что в 1792 году ему пожаловали баронский титул. «Народные супы» дали превосходные результаты в менее гурмански настроенных городах, а также, например, в Швейцарии и Германии, в Вене же они не получили широкого распространения. Когда на Випплингерштрассе открыли благотворительное заведение, где за один крейцер, то есть практически даром, нуждавшиеся получали полную тарелку еды, поначалу туда из любопытства, а может быть, и прельщенные дешевизной устремились толпы людей. К сожалению, так называемый «суп Ремфорда» оказался совершенно непривлекательным для людей, привыкших к вкусной, питательной пище. В похлебке из капусты, фасоли и репы в лучшем случае можно было выловить крошечный кусочек копченого мяса. Проницательная и умная современница этих событий Каролина Пихлер[6] в своих «Знаменательных событиях моей жизни» (Denkwürdigketten aus meinern Leben) сообщает, что ресторан на Випплингерштрассе действительно кормил супом Ремфорда нескольких неимущих, но при этом рестораны и кабаре в предместьях и в окрестностях Вены — в Хитцинге, Гринцинге, Лерхенфельде, — а также кабачки в той части Пратера, которая называлась Вурстельпратером, были, как всегда, полны простонародья, разодетых по-праздничному рабочих, которые обжирались наперегонки, не заботясь о цене яств.Свадьба нищих
Бойерле{4} рассказывает в своем дневнике забавную историю времен своего детства, прекрасно иллюстрирующую социальное положение различных слоев населения Вены. Однажды отец взял его с собой в одну из пригородных пенцингских пивных, где к удивлению их обоих царило необычное оживление: в зале, полном гостей, ярко освещенном многочисленными люстрами, во всю силу гремел оркестр. На вопрос отца Бойерле о том, кто эти богачи, устроившие столь пышное празднество, хозяин заведения ответил, что собравшиеся празднуют свадьбу нищих. В городе хорошо знали родителей юной невесты: постоянное место ее отца было у Каменного моста, и откликался он на прозвище Дуккерль,{5} а жена его просила милостыню подле ворот Хофбурга, и промысел их был настолько доходным, что с этих доходов они не только жили на широкую ногу, но, откладывая ежегодно по нескольку сотен флоринов, скопили для дочери приданое не в одну тысячу, да еще и устроили пышную свадьбу. В пенцингской пивной, как пояснил хозяин, они собрались потому, что были слишком хорошо известны в самом городе и только здесь могли «развернуться», не вызывая удивления, зависти, а может быть — кто знает? — и скандала, хотя обычно венцы отнюдь не питали склонности к возмущению чем бы то ни было. В предместьях же дело другое: такая публика нередко отправлялась в колясках в кабачки, раскиданные по Венскому лесу, где никто никого не знал и при встрече предпочитал не узнавать, и пировала там в свое удовольствие, как благородная, с музыкантами и певцами. Отец Бойерле поинтересовался занятиями новобрачных: следовали ли они примеру почтенных родителей невесты? «Не совсем», — ответил хозяин пивной и пояснил, что молодая женщина роется в мусоре, который выбрасывают из домов, и нередко находит попавшие туда по небрежности владельцев ценности: золотую монету, серебряную ложку, а иногда и какое-нибудь ювелирное украшение, и этот промысел с лихвой обеспечивает жизнь подобных добытчиков. Что же до супруга, то он торгует костями, которые извлекает из кухонных отбросов и продает пуговичным мастерам. Бессмысленного ремесла не бывает… Этот промысел не считался зазорным. Комедиограф Шильдбах сочинил о процветающих нищих пьесу Миллионер, выдержавшую сотню постановок в театре Шиканедера, того самого, который сотрудничал с Моцартом при создании Волшебной флейты и был одним из самых оригинальных и интересных театральных деятелей Вены того времени. «Гвоздем» этого спектакля была свадьба нищих в пригородном ресторанчике. Реалистичность постановки вполне соответствовала тому, что Бойерле с отцом видели в Пенцинге. Со своей стороны Райхсль[7] в своей книге, где описана эта история, сделал любопытную попытку классифицировать венских нищих и изобразить их иерархии в нисходящем порядке. Совершенно очевидно, что Дуккерль с женой относились к самой высокой категории нищих, имевших постоянное место промысла, общепризнанное и всеми уважавшееся. Бедолаги самой низшей категории старались разжалобить прохожих на улицах и проезжих на дорогах, выставляя напоказ свои реальные или искусно нагримированные язвы. Другие усаживались на землю, спрятав ноги в ловко вырытое незаметное углубление, и изображали безногих калек, а рядом с ними обычно торчал ребенок, дополнявший их жалобные сетования своими; он то и дело подбегал к дверцам колясок и дилижансов и не отставал от пассажиров, пока не получал подаяния.Творцы предметов роскоши
Хотя жители Вены уделяли праздному фланированию не меньше времени, чем работе, это все же был город с развитой промышленностью. Присутствие императорского двора и аристократии благоприятствовало главным образом производству предметов роскоши: процветали портные, вышивальщики, позументщики, ювелиры, седельные мастера. Ограничительные законы Иосифа II не были столь мудрыми, какими казались поначалу, так как били по многочисленным мелким семейным предприятиям, в которых была занята значительная часть ремесленного населения. Вена всегда была столицей редких, утонченных изделий, ценность которых определялась не только материалом, но и искусством мастеров, и роскошь аристократии, отнюдь не вызывавшая, впрочем, ни зависти, ни ревности, была законным источником доходов для всех. Поскольку австрийский характер отличался естественной простотой и отсутствием притворства, вполне можно сказать, что расходы знати на празднества, на роскошную одежду и мебель в конечном счете шли на пользу народу в большей мере, нежели жесткие меры экономии Иосифа II. И даже если допустить — что, впрочем, далеко не очевидно, — что не было никакого позерства в привычке этого императора прогуливаться и даже отправляться в театр в поношенной одежде, протертой до дыр на локтях, и в выцветшей шляпе, вернее, в каком-то странном подобии фуражки, которую император считал особенно «демократичной», привычка эта все же не принесла ему ожидаемой любви и признательности подданных, потому что экономия при дворе оборачивалась нищетой города, жившего главным образом за счет расходов этого самого двора. И венцам оставалось лишь поздравить себя хотя бы с тем, что чрезвычайные меры Иосифа II ненадолго пережили самого императора.Мария Терезия и Иосиф II
В течение всех сорока лет своего правления Мария Терезия придерживалась принципов самодержавия в испанском духе, то есть самодержавия строгого и требовательного. Это, несомненно, было необходимо, так как сплоченность империи была далека от монолитности. Приходилось постоянно опасаться пробуждения национально-освободительных движений, сохранялась угроза со стороны турок, а война с Пруссией[8] исчерпала казну. Императрица отлично сознавала свой долг и ответственность, которую возлагало на нее положение правительницы, и никогда о ней не забывала. Кроме того, подобно всем по-настоящему великим людям, она отлично умела окружать себя нужными людьми. Она нашла «своего человека» в лице канцлера Кауница,[9] разумеется, не лишенного недостатков, но достаточно умного для того, чтобы понимать личную политику императрицы, и посвятившего все свои силы реализации этой политики. Несмотря на войны, в которые, к сожалению, очень часто оказывалась втянутой австрийская корона, Вена всегда оставалась процветающим городом, а численность ее населения за период правления Марии Терезии выросла с 80 тысяч до 175 тысяч человек, что, впрочем, создало проблему жилья, особенно острую в городе, окруженном оборонительными сооружениями: застройка непрерывно выходила за их пределы, растекаясь во всех направлениях в виде предместий, где селилось растущее население. С другой стороны, как мы увидим ниже, это скопление людей в городе достаточно скромных размеров стало одной из причин той любви к природе, тяги к зелени, которая всегда была одной из самых постоянных черт венского характера начиная с XVIII века. Дочь Карла VI несмотря ни на что сумела извлечь пользу из всех этих слишком часто угрожавших ей порой весьма опасных обстоятельств. Она проявляла великодушие и незаурядный ум, помогавшие ей уравновешивать трезвым здравомыслием свою природную смелость и мужскую волю, без которых не могла бы обойтись женщина, получившая согласно Прагматической санкции[10] право на корону, поскольку у Карла VI не было наследников мужского пола. Несмотря на абсолютизм и суровость, на стремление к тому, чтобы все ее правление было отмечено величием, особенно перед лицом иностранных монархов и их послов, тогда как внутренняя жизнь в Хофбурге и Шенбрунне была очень простой (как часто тосковала об этой простоте Мария Антуанетта в хитроумных лабиринтах Версаля, где многочисленные враги делали все, чтобы она в них окончательно запуталась), несмотря на свой величественный и властный вид, а возможно именно благодаря ему Мария Терезия пользовалась огромной популярностью у венцев, гораздо большей, чем ее сын Иосиф II с его несколько демагогическими программами. Умный и проницательный народ не поддавался на демагогию, и как бы венцы ни были доброжелательны и лояльны, они уважали Иосифа II, но любили его гораздо меньше, чем его мать. Здесь неуместно описывать политическую историю дома Габсбургов, но эта история все же должна нас интересовать хотя бы в свете того влияния, которое она оказывала на частную жизнь венцев. Очевидно, что реформы Иосифа II, независимо от того, служили ли они пользе дела или были простым прожектерством, не могли не изменить в значительной степени привычки и поведение населения, а потому нам следует принять их во внимание и посмотреть, как они изменили облик города и саму жизнь Вены. Идя навстречу новым идеям и сознавая, что упрямо защищающий в эпоху Просвещения свои иллюзорные и отжившие привилегии абсолютизм устарел, Иосиф II хотел быть «современным» королем. Пораженный достижениями Петра Великого в России, он надеялся сравняться с ним в «реализме» и, предчувствуя неизбежность революции, догадывался, что она сможет оказаться эффективной и спасительной, только если придет сверху. Эта идея была широко распространена во франкмасонстве того времени, и это также было одной из причин того, что ложи в тот период объединяли многих выдающихся людей, посвятивших себя благу народа, в том числе людей искусства — таких, например, как Гёте и Моцарт, — а также крупных вельмож и даже монархов, ожидавших от этого движения обновления общества, подлинной революции, но революции, не нарушающей порядка, не прибегающей к жестокому свержению властителей и при этом руководимой элитой мыслящей Европы. Идеальный «просвещенный самодержец» должен был окружать себя представителями всех классов, отбираемыми на основе правильно понимаемого демократизма, искренне преданными новым теориям и, самое главное, бескорыстными… Таким образом, объединение «лучших» на всех ступенях социальной лестницы путем кооптации, требовавшей «испытаний» вроде тех, что символически показаны в Волшебной флейте, должно было привести к постепенной революции под контролем той европейской, откровенно космополитичной элиты, которую являло собой франкмасонство. Мария Терезия была слишком верна старой самодержавной Европе, чтобы разделять эти идеи, и запретила масонские ложи в своей империи, что, как можно догадаться, не мешало им тайно распространяться и объединять в своих рядах все большее число единомышленников. В венские ложи вступали такие известные люди, как Игнац фон Борн, оказавший сильное влияние на взгляды Моцарта.[11] Фон Борн охотно вербовал новых приверженцев, но мог делать это лишь с крайней осторожностью, так как этот ученый геолог, исповедовавший смелые взгляды на природу и на свойства металлов, слыл, кроме всего прочего, еретиком. Он написал памфлет под заглавием Монахология, направленный против религиозных орденов, и было известно, что он находился в близких отношениях с иллюминатами[12] Адама Вайсгаупта, к которым Церковь проявляла откровенную враждебность.Франкмасонство и Церковь
Для более полного представления об умонастроениях в Вене в конце XVIII века необходимо напомнить о том, что, несмотря на искреннюю и горячую приверженность населения католицизму, авторитету Церкви и религиозным обрядам и вопреки наложенным императрицей запретам, франкмасонство получило огромное распространение. Что касается набожности венцев, то некоторые иностранные путешественники расценивали ее как вульгарный предрассудок. Как мы уже видели, таково, в частности, мнение прусского книготорговца Николаи, но он настолько враждебно настроен по отношению ко всему, происходящему в Австрии, что даже само это ожесточение может показаться подозрительным. Другие авторы считали, что большое число религиозных праздников, отмечавшихся в Вене, было не более чем предлогом для того, чтобы ничего не делать, а лишь праздновать и развлекаться; так думал и граф Фекете де Таланта, осуждавший чрезмерную любовь к удовольствиям, с которой он встретился во всех классах венского общества. Жизнерадостностью, легкостью и доброжелательством венского характера объясняется и то, что паломничество к городским или деревенским святыням никогда не сопровождалось аскетической сдержанностью. Угрюмая, мрачная религия не была популярна, и в любви к Святой Деве и к другим святым, которых почитали и молили о помощи во время этих паломничеств, следует видеть наивное, почти детское доверие, такое же искреннее и трогательное, как доверие ребенка к своим родителям. Этот безыскусный, почти «свойский» характер австрийской религиозности был основой духовной жизни этого народа. Не следует забывать, что католицизм после Тридентского собора,{6} влияние которого на искусство так обстоятельно описал Эмиль Маль, благоприятствовал этой «дружеской» набожности, этой непосредственности отношений между человеком и божеством. Трудно представить себе Австрию пуританской или янсенистской: свойственные этим системам взгляды были бы для нее крайне неестественны. Принадлежность к франкмасонству легко совмещалась с приверженностью католическим обрядам и вере, что подтверждает пример Моцарта, который не уклонялся от паломничества и проявлял большую и искреннюю набожность на протяжении всей своей жизни. Это не мешало ему принадлежать к двум ложам — Увенчавшейся надежды и Гастрономов. Музыковед Эйнштейн даже высказал мысль о том, что католицизм и франкмасонство у Моцарта были подобны двум концентрическим сферам. В XVIII веке франкмасонство не представлялось антихристианским движением. И если Церковь с беспокойством смотрела на распространение иллюминатских сект, растущее влияние которых могло в один прекрасный день подорвать ее собственный авторитет, то монархи выказывали в этом отношении в целом большую терпимость. Самые проницательные и осторожные люди десятилетий, предшествовавших Французской революции, понимали, что единственным способом помешать революционной катастрофе, которую многие считали, по всей вероятности, неизбежной, было не противопоставление ей изживающего себя самодержавия, а, наоборот, готовность возглавить ее, чтобы направлять, контролировать и вести к умеренным полезным результатам. Именно из этих соображений Франц Лотарингский, муж Марии Терезии, в 1731 году во время пребывания в Гааге принятый во франкмасонство английским послом лордом Честерфилдом, отказался применять в империи запрещавший масонство декрет папы Климента XII от 1738 года. И только после смерти мужа императрица, более послушная церковным постановлениям и в принципе отвергавшая все, что могло бросить тень на монархический абсолютизм, поспешила подчиниться понтифику и стала преследовать адептов франкмасонства, которым пришлось прибегнуть к глубокой конспирации, чтобы продолжать свою деятельность подпольно. Но она не смогла помешать своему собственному сыну, эрцгерцогу Иосифу, будущему Иосифу II, вступить в запрещенное общество, на которое, взойдя на престол, он не мог не распространить свою благосклонность, тем более всеобъемлющую, что сам был одним из его «братьев».Просвещенное самодержавие
Благоприятные для Вены социальные реформы, проведенные в период правления «просвещенного самодержца» Иосифа II, совершенно естественным образом вписываются в программу масонского идеализма того времени. Эти реформы, противоречившие традиции предшественников, твердо следовавших самым строгим монархическим и аристократическим принципам, пойдут дальше всех реформ того периода в других европейских государствах. Иосиф II слишком нетерпеливо желал прогресса, чтобы задаваться вопросом о своевременности и уместности своих реформ. Не отступая перед враждебным отношением тех, чьи интересы эти реформы затрагивали или ущемляли, он продолжал свое дело с такой строгостью и упорством, что принц де Линь[13] в письме Екатерине II, извещая государыню о смерти императора, написал следующие слова: «Его больше нет, Мадам; он умер, этот государь, прославивший имя человека, этот человек, прославивший имя государя». К сожалению, такого мнения придерживались не все, и краткая надгробная речь, произнесенная канцлером Кауницем: «Было время…», выражает недоверие, опасение и раздраженность, которые знать испытывала по отношению к монархии, так сильно ударившей по ее привилегиям. Что же до того, как сам Иосиф расценивал свою политическую линию, то это самым трогательным образом раскрывается в его последних словах: «Я оставляю трон без сожаления. Единственное, что меня печалит, это то, что, несмотря на все усилия, я сделал счастливыми так мало людей». Он, несомненно, с грустью предчувствовал, что после его смерти его дело продолжено не будет. Будущее подтвердило это предчувствие: его преемники Леопольд II и Франц I принялись целеустремленно разрушать достигнутое покойным, сделавшим для счастья и благополучия венцев гораздо больше, чем любой из предыдущих и последующих императоров. И если поспешными и смелыми реформами он раздражал свою любимую Австрию, подозрительную, откровенно враждебную по отношению к нему Венгрию и самолюбивую, всегда готовую взбунтоваться Богемию, то лишь потому, что горячее желание делать добрые дела заставляло его действовать слишком быстро и заходить слишком далеко. При этом он страдал от горького одиночества в окружении двора, подсмеивавшегося над простоватостью манер императора и обвинявшего его в демагогии. В действительности же у него было много великих, благородных и новаторских идей, но он был вынужден упорно, без передышки бороться за их претворение в жизнь — бороться со своей матерью, с канцлером Кауницем, со знатью, с духовенством. Австрийскому народу, в интересах которого он действовал, слишком недоставало политической зрелости, и потому народ оставался слишком равнодушным к государственным проблемам, чтобы по заслугам оценить его реформы. Жители Вены были благодарны императору главным образом за сиюминутные решения, например за то, что в 1775 году он открыл для народа и предоставил в его распоряжение все сады Аугартена, а превратив в общественный парк Пратер, с давних пор служивший императорским охотничьим угодьем, не удовольствовался просто передачей его венцам, но повелел его благоустроить, вплоть до посадки там уже взрослых деревьев, чтобы гуляющие горожане могли как можно скорее насладиться тенью и красотой зеленых насаждений. Император и сам любил там прогуливаться, но, чтобы не стеснять своим присутствием простую публику, запретил приветствовать свою особу, желая оставаться незамеченным. Фактически ни в его манере одеваться, ни в поведении не было ничего императорского, и, когда он смешивался с толпой буржуа на улицах своего доброго города, было вполне простительно, если кто-то по рассеянности задевал локтем этого плохо одетого человека. Он не позволял преклонять перед собою колено во время официальных церемоний или целовать себе руку, как это предусматривал старинный ритуал королевских дворов. Однако, вопреки тому что он по этому поводу думал, непритязательность одежды императора вовсе не импонировала народу, привыкшему восхищаться внешним великолепием своих монархов. Его обвиняли в скаредности и мелочности, и никого не трогало, ни у кого не вызывало одобрения желание императора показать свое осуждение роскоши. Венгерский писатель Ференц Казинци, оказавшийся однажды за одним столом с императором, писал: «Я с удивлением увидел заплаты на локтях его зеленого камзола с красным воротником. Пуговицы были желтыми, жилет и короткие штаны лимонного цвета, колени покрывали гетры из белой ткани… Он ненавидел расточительство и роскошь и считал, что подает пример простоты, надевая штопаный камзол». Он приказал сшить для себя фуражку с верхом, обтянутым навощенной тканью; этот головной убор ему совсем не шел, но он предпочитал его любому Другому и ходил в нем даже в театр, выглядев при этом отнюдь не по-королевски. Он был поистине демократом, в котором не было ничего от демагога. Его социальные убеждения весьма точно выражаются надписью, которую по распоряжению императора начертали у главного входа в парк самого любимого им замка «Фаворита», подаренного им народу Вены 30 апреля 1775 года; с тех пор этот парк стал называться Аугартеном: «Это место отдыха преподнесено в дар всем жителям Вены тем, кто их уважает». Он уважал этих людей, что гораздо важнее, а иногда и труднее, чем их любить. Каждый из его поступков отражал это уважение, и если он по-прежнему позволял привлекать к очистке улиц проституток, замеченных в приставании к прохожим, то только потому, что Вена была городом серьезным, хотя и далеким от притворной добродетели, и здесь следовало соблюдать дисциплину. Зато он отменил пытки, применение которых в период правления его матери было еще настолько обычным делом, что при жизни Марии Терезии даже была опубликована официальная инструкция об использовании и дозировке различных способов пыток с приложением наглядных иллюстраций.Пасквили и памфлеты
Все жители Вены одобрили такие либеральные меры общего характера, как отмена смертной казни и крепостничества, но когда император пожелал регламентировать внутренний режим корпораций, ремесленники решили, что он вмешивается в то, что его не касается. Свобода мысли и пера обеспокоила консервативные умы, поскольку этой свободой стали немедленно злоупотреблять авторы пасквилей и памфлетов. Вену наводнили брошюры, ставшие настоящим бедствием. Их писали на самые разнообразные темы, и в особенности на те, которые, по мнению авторов, должны были развлекать публику и разжигать ее злорадное любопытство. Гёте, несомненно, проявил разумную сдержанность, когда писал в Тьерфуртер журналь: «Все последние новости, приходящие из столицы нашего отечества,{7} убеждают в том, что там начинает заниматься заря самого прекрасного дня, и, хотя мы живем довольно далеко оттуда, мы склонны этому верить. Мы желаем ей этого самого прекрасного дня, понимая, что переживаемые теперь моменты похожи на утренние часы, когда поднимающийся над долинами и реками туман предвещает сияние солнца». Судить о приходивших новостях можно по следующим нескольким заголовкам, которые цитирует Кралик:[14] «За десять крейцеров можно было получить сведения о чем угодно, о малом и великом…: Горничные; Девушки из буржуазии; Придворные фрейлины; Венские девушки; Высшая знать Вены; Врачи, хирурги и фармацевты; Венские коммерсанты; Щеголи; Портные; Булочники; Пастижеры; Парикмахеры; Словечко на ухо хозяевам дома; Господину Зонненфельсу, магистру Ложи Зевак на Грабене; Трапезы в Шенбрунне; О злоупотреблении словами „фон“ и „Ваша Светлость“; Поздравления; Несколько слов о жительницах Вены, носящих пучок; Какого цвета Антихрист: голубого или зеленого? Чудотворные мощи и иконы…» В 1782 году среди множества других вышли в свет следующие брошюры: Что такое Император? (автор — Фесслер); Прав ли Император? Монахи и Дьявол; Путешествие в Ад; Что такое Церковь? Письма монахинь; Упадок белого духовенства; Что такое индульгенция? Защита Папы протестантом; Конец безбрачия; Сможет ли Император ввести веротерпимость? В 1783 году вышли: Что такое каноник? Заметки о Зеефельдском дьяволе в Тироле; Путешествия пап; Проповеди священника Императору; Размышления о веротерпимости; Капуцинский монах, вмешивающийся в политику, или Близкое пришествие Антихриста; О беседующих серебряных ангелах в Мариацеле;{8} О Чистилище и т. п.; Мама хочет, чтобы я ушла в монастырь; в 1784 году вышли в свет: Тайны духовенства; Об исповеди на ухо; О почитании Марии и святых; Чудеса и мощи; в 1785 году вышли: Нужно ли читать вслух? Нечестивая книжица для добрых государей; Где доказывается, что Иосиф II протестант; Лик римской монахини и восхищение немецкого отшельника; Касается ли еще христиан Шестая заповедь?.. Один каталог брошюр, изданных в эти годы и свободно продававшихся повсюду, составляет целый том; он поучителен в том смысле, что показывает, как сразу же после предоставления венцам права на свободную критику они широко воспользовались этим правом, чтобы фрондировать и власти, и Церковь.Папа в Вене
В отношении Церкви Иосиф II стал первым показывать пример проведения откровенно антиримской политики, что пугало многих его подданных. Несмотря на то, что он преследовал еретиков, иллюминатов, а также тех, кого называл «деистами»,{9} многие сомневались в его правоверности. Заметим, что наказания, которые он назначает деистам — двадцать ударов палкой или кнутом по заду, — применяются не за упущения в вере, а за незнание, и чтобы эта мера не провоцировала запрещенной «охоты на ведьм», император решает, что «деиста следует так наказывать не за то, что он деист, а потому, что он называет себя деистом, не зная, что такое деизм. Следует также наказывать десятью ударами палки того, кто публично осуждает деиста».[15] Противники «просвещенного самодержца» обращали внимание на то, что либерализм, который он афишировал, когда речь шла о разрешении распространять антиклерикальные пасквили, не относился к религиозным публикациям, поскольку он запретил пересмотр житий святых, содержащихся в Acta Sanctorum болландистов{10} под тем предлогом, что то были всего лишь «романы о канонизированных лицах», содержащиеся в «невразумительном и глупом произведении». Уже самый этот исходящий из Хофбурга антиклерикализм сильно обеспокоил папу, который, опасаясь увидеть, как традиционно католическая Австрия сползёт к неверию вслед за своим монархом, лично прибыл в Вену на радость и для поучения венцев, разумеется, не упустивших ни одного высказывания и ни одного жеста этого блистательного гостя. Вена на некоторое время стала вторым Римом, внезапно превратилась в место паломничества. Иосиф не стал изолировать папу; он писал своей сестре Марии Кристине: «В последние дни к его окнам стекались огромные толпы людей. Это было прекрасное зрелище, нечто такое, чего я никогда не видел раньше и не увижу впредь. Невозможно сказать, сколько там было народу». Некий протестант, по фамилии Бургоинг, писал: «Присутствие папы произвело невероятное действие. Я не католик, да и взволновать меня нелегко, но должен признаться, что это зрелище растрогало меня до слез». На площади собралось больше пятидесяти тысяч человек, говорит он; все они одержимы одной и той же мыслью; на лицах читаются сосредоточенность и восторг; в толпе так тесно, что люди едва могут дышать, но они этого словно не замечают. И вот появляется папа, «он склоняется перед собравшимися, воздевает руки к небу с глубокой убежденностью в том, что представляет Богу чаяния всего народа, и взгляд его выражает пламенное желание удовлетворения этих чаяний». А когда толпа опускается на колени и получает благословение, наблюдатель добавляет: «Эта сцена произвела на меня неизгладимое впечатление».[16] При невиданном стечении охваченного благоговением народа Святой Отец отслужил литургии Страстной недели, омыл ноги двенадцати нищим, заменившим ему апостолов, а венцы шутили (ибо венская ироничность не отступает даже в подобных обстоятельствах), что ему следовало бы поступить так же с двенадцатью апостолами австрийской политики, в числе которых Кауниц представлял св. Петра, Зонненфельс[17] — Фому Неверующего, а Эйбл — Иуду. Но я думаю, что в глубине души народ Вены в течение всего времени, которое понтифик прожил среди него, был на стороне папы, против своего императора.Нерешительный император
Иосифу II были свойственны чрезмерно смелые претензии, так часто характеризующие нерешительных людей. Неуверенный в себе, он оставался таким же неуверенным прежде всего в отношениях с женщинами и, вероятно, также со своими подданными, несмотря на постоянное горячее желание действовать на благо народа. Во время поездки в Париж он не преминул посетить аббата де л’Эпе и побывать в его учебном заведении, куда принимали для обучения глухонемых: ему очень хотелось создать нечто подобное в Вене. Он следил за тем, чтобы крестьянские дети, выказывавшие способности к учению, могли посещать школу наравне с детьми знати и буржуа. Во всех обстоятельствах император при невозможности уравнять сословия, о чем он напрасно мечтал, стремился хотя бы уравнять условия жизни всех классов и сблизить их между собой. Однако он не был так любим, как того заслуживал, даже теми, в чьих интересах неустанно работал, именно по причине, порождаемой нерешительностью неловкости, ведь известно, что никто не сеет вокруг себя такой неопределенности, как нерешительный человек. За несколько дней до смерти он сам написал себе надгробную эпитафию: «Здесь покоится монарх, имевший наилучшие намерения и переживший провал всех своих планов». Так оно и было. Прав был Гербер, писавший в своих Письмах о человечестве: «Не зная императора лично и не получив от него ничего хорошего, я едва не разрыдался, узнав о подробностях последних дней его жизни. Девять лет назад, когда он взошел на трон, его обожали как божественного ангела-хранителя и ожидали от него самых великих свершений, самых полезных и почти невозможных дел; теперь его опускают в могилу как жертву времени. Был ли когда-либо на свете другой император, другой смертный, который имел бы более великие замыслы, принял бы столько мук, положил бы столько сил на их достижение и работал бы с большим рвением и пылкостью? И что за рок преследовал этого монарха, которому перед лицом смерти пришлось не только отказаться от достижения поставленной перед собой цели, но и формально отречься от главного дела своей жизни, торжественно поставить на нем крест и отойти в мир иной?!»Удивительные красоты Вены
Благодаря реформам Иосифа II или, может быть, несмотря на них, Вена в последние десятилетия XVIII века достигла такого великолепия и такого блеска, которых до того никогда не знала. Впрочем, уже в эпоху Средневековья ее красоту часто воспевали поэты и путешественники, в частности миннезингер Вальтер фон дер Фогельвайде,{11} а возможно, еще до него — народная песня, в вольном переводе звучащая так: «Есть в Австрии город с мраморными стенами; он весело украшен синими цветочками; его окружает зеленый лес, есть зеленый лес и в самом городе, и соловей воспевает там нашу любовь». Итальянец Антонио Бонфини, официальный историограф венгерского короля Матьяша Хуньяди, уже в 1485 году восторгался редкими достоинствами самого драгоценного из всех городов. Его, привыкшего к красотам своей родной страны, больше всего поражала величественность и изысканность венской архитектуры. В старой Вене вплоть до середины XIX века сохранялось несколько домов времен Средневековья и Ренессанса, столь очаровавших этого путешественника своею блистательной новизной, что он описал их следующими словами:«Сам этот город выглядит, как королевский дворец, выросший посреди окружающих его предместий, многие из которых соперничают с ним красотой и величием. Когда вы идете по улицам, вам начинает казаться, что вас обступают строения огромного королевского замка, — столь тщательно продумано расположение каждого дома. Повсюду чарующая красота. Для каждого дома выбрано место, на котором он смотрится наиболее впечатляюще. Приходится останавливаться на каждом шагу, чтобы насладиться видом каждого такого творения. Особенно похожи на дворцы особняки знати. Почти за каждым таким особняком, выходящим фасадом на улицу, имеется заднее строение с большой открытой или крытой колоннадой, защищающей от холодного ветра с окружающих гор. Столовая часто облицована деревянными панелями из хвойных пород, и ее обычно украшает большая печь. Все окна застеклены, иногда красиво раскрашены и защищены железными решетками. В таких домах имеются ванные комнаты, кладовые, спальни, которые могут сдаваться внаем. Во всех магазинах имеются погреба для хранения вин и продуктов. Роскошь окон и зеркал соперничает с античным великолепием. В клетках поет столько птиц, что кажется, будто вы гуляете в прекрасной роще».Густонаселенная, вероятно, даже перенаселенная, если учесть занимаемую городом небольшую территорию, Вена представляла собой лабиринт узких улочек, где дома жались друг к другу, а сами улицы извивались, уклоняясь от холодных ветров, — прием, о котором не следовало бы забывать нынешним градостроителям, строящим города наподобие шахматных досок. Старая часть города была защищена крепостными стенами, охватывавшими ее неприступным поясом, и каждый раз, когда турки или венгры угрожали безопасности города, горожане имели возможность оценить пользу этих солидных укреплений. Вплоть до ужасного опустошения австрийской столицы и непоправимых разрушений времен войны 1939–1945 годов, несмотря на кольца, пробитые через городские кварталы в середине XIX века конкурентом барона Османа, здесь можно было найти уголки, не претерпевшие изменений с тех пор, как на них стала откладываться патина столетий, и с этими домами, освященными славой исключительных событий, связывались многие исторические воспоминания, что можно было сказать, например, о «доме со слоном», в конструкции которого скульптор воспроизвел в натуральную величину удивительное животное, подаренное в 1552 году турецким султаном императору Максимилиану. Не менее знаменит был находившийся неподалеку Закованный ствол (Stock im Eisen), напоминавший неосторожным об опасности вступления в переговоры с дьяволом.[18] Первый значительный этап преобразования города ознаменовался расцветом венского барокко, сопровождавшимся мощным всплеском патриотического энтузиазма и гражданской эйфории после ухода турок в 1683 году; город тяжело пострадал от нападений мусульман, а в период с 14 июля по 14 сентября пережил жестокие артиллерийские бомбардировки. Предместья были сровнены с землей, бастионы частично разрушены вражескими ядрами, а прорытые противником подземные ходы проникли под самый город. Наступивший мир стал поводом для обновления и украшения имперской столицы, и действительно, принцы состязались в роскоши и великолепии с самим императором, возводя новый город в самом сердце старого. Случаю было угодно, чтобы в Вене в этот период нашлись талантливые архитекторы, понимавшие дух эпохи и возводившие город, руководствуясь самыми современными концепциями. Фишер фон Эрлах, Хильдебранд, Габриэлли де Роверто, Монтинелли включились в строительную лихорадку, охватившую аристократию. Все дворяне, в том числе и жившие в дальних провинциях империи, захотели иметь в Вене свой дворец, который свидетельствовал бы об их могуществе, богатстве и престиже.
Дворцы и замки
Таланту Фишера фон Эрлаха Вена обязана, кроме церкви Св. Карла Борромейского, Шенбруннским дворцом, восхитительный вестибюль которого является совершенным образцом смешанного стиля барокко-рококо, господствовавшего в начале XVIII века, а кроме того: канцелярией по делам Богемии, датируемой 1714 годом, Бреннерским дворцом с барочным фасадом 1730 года, дворцом Шварценберг на Реннвеге, сады которого, как известно, должны были соперничать с садами Бельведера, известного шедевра Хильдебранда. Строительство изящного и классически элегантного Бельведерского замка началось в 1713 году, и французский сад между двумя зданиями по праву считается образцом венского барокко, лишенным всякой напыщенности, всякой тяжеловесности, живописным, пикантным и полным сюрпризов. Дворец в стиле барокко или рококо порождался в Вене пристрастием к зрелищам, пристрастием, разделявшимся всеми общественными классами и заставлявшим знать и богачей располагать свои жилища, как театральные декорации, оценить красоту и наслаждаться видом которых, по крайней мере снаружи, мог каждый. В этом стремлении к пышности не было никакой показухи, но зато присутствовала память о былом величии, равно как и похвальное желание радовать взгляд окружающих великолепными зданиями. Именно по этой причине наряду с внутренними вестибюлями, праздничными залами и лестницами, свободные пространства которых гармонично соответствовали широкому размаху светской жизни, архитекторы выполняли фасады зданий, стремясь создавать «шедевры красоты», открытые взорам публики и способные стать для нее источником «неисчерпаемой радости». Таким образом, «демократическая» сторона декора барокко и рококо существовала вполне реально и превосходно соответствовала венской доброжелательности и простоте нравов, которая отнюдь не противостояла роскоши, а, наоборот, прекрасно с ней уживалась. Эпоха барокко была поистине золотым веком Австрии. Такие замки, как Шенбрунн, Эберсдорф, такие монастыри, как в Мельке, Гёттвайе, монастырь Св. Флориана, Клостернойбургский монастырь, расцветают новыми красотами в этом грандиозном стиле, то драматичном, то живописном, а чаще всего в живописном и драматичном одновременно. Император Карл VI пожелал превратить расположенный неподалеку от Вены Клостернойбург в нечто вроде «своего Эскориала». В 1730 году он повелел приступить к работам по возведению великолепного монументального здания, а незадолго до своей смерти заперся в нем, чтобы поразмышлять о конечном предназначении человека и подготовиться к уходу из этого мира. Кто-то может посчитать профанацией приложение несколько театрального величия барокко к религиозным постройкам, но этот стиль точно отвечает духу австрийской религиозности, склонному к тому, чтобы литургические церемонии проходили в окружении роскоши, сравнимой с пышностью приемов в Хофбурге. Старый Хофбург, построенный в 1221 году герцогом Леопольдом VI Бабенбергом, за время правления Карла VI также чудесным образом преобразился в соответствии с духом XVIII века благодаря таланту Фишера фон Эрлаха, этого космополитического гения, стремившегося соединить в прекрасном эклектическом сочетании германское величие с итальянским изяществом и французским классицизмом. Такой синтез, присущий венскому барокко, особенно узнаваем в великолепном парадном зале здания Академии наук, построенного между 1753 и 1755 годами по проекту француза Жадо де Вилль-Исси. Над Зимним дворцом принца Евгения Савойского работали вместе Фишер фон Эрлах и Я. Л. фон Хильдебранд, которые, объединив свои архитектурные концепции, вкусы и таланты, создали поистине удивительное здание на Химмельпфортгассе, совершенный синтез всех красот барокко, ставшего национальным искусством и особенно ярко проявившегося в гармоничной законченности широкой лестницы с совершенно фантастическими переходами. Перечисление венских дворцов, построенных в XVIII веке, превращается в парад самых громких имен австрийской, венгерской и богемской аристократии: это Зичи, настаивавшие на своем турецком происхождении, Лобковицы, владевшие почти королевским замком в окрестностях Праги, Шварценберги, пришедшие из Франконии несколько столетий назад, уроженцы Италии Коллоредо, потомки старинной чешской фамилии Коловраты, Виндишгрецы, богемцы, как и Гаррахи, чье дворянство восходит к XI веку, тогда как предки Лобковицев были знамениты уже в IX столетии; Кински, для которых Хильдебранд построил дворец с превосходным фасадом на Геренгассе, Чернины, Пальфи, Лихновские. Что касается русского посла Разумовского, который сыграл впоследствии такую важную роль в жизни Бетховена, то он построил себе поистине княжескую резиденцию, где игралисамые великие музыканты того столетия, богатого музыкальными шедеврами и виртуозами-исполнителями.Мода и элегантность
Формирование вкусов в области моды во многом напоминало развитие архитектурных стилей. Известная романистка и мемуаристка Каролина Пихлер, которая подробно познакомила читателей с Веной своего времени, описывает дам-аристократок, направляющихся в церковь в больших черных накидках, отделанных польским мехом, отороченных красным атласом и голубым песцом и украшенных золотыми кистями. Мужчины носили черные бархатные фраки на подкладке из розового атласа, открытые на уровне расшитого жилета из золотого сукна. На голове у них был парик, подвязанный лентой на затылке, на ногах — белые шелковые чулки и туфли с красными каблуками и с пряжками, украшенными бриллиантами. Эти аристократы, жившие в пышных дворцах, прогуливались в роскошных экипажах, которыми с начала той эпохи славилась и впоследствии будет славиться Вена. Представьте: впереди едут гайдуки в венгерках, и бегут одетые по-турецки, в чалмах с султанами и в сапогах с загнутыми вверх носками, согласно веянию того времени, когда мода знаменовалась тягой ко всему восточному, курьеры с посланиями своих хозяев в золотой шкатулке на длинной палке, пользуясь которой они прокладывают себе дорогу через толпу. Все это придавало городу праздничный вид: подобно тому как дворцы часто вырастали посреди мешанины жилищ обычных горожан, а то и просто бедных лачуг, эта аристократия, так гордившаяся своими древними корнями и могуществом, не чуралась общения с простонародьем, когда в тысячах жизненных обстоятельств все собирались вместе.Этикет и простота
При дворе и в аристократических салонах строжайшим образом соблюдалось местничество, при почти суеверном следовании правилам этикета, являвшегося, по всей вероятности, наследием испанского духа. Зато когда те же самые аристократы прогуливались в парках или просто по улицам, даже самые выдающиеся из них старались остаться незамеченными и смешаться с толпой, как если бы сами к ней принадлежали. Граф Сент-Олер, бывший послом в Вене в первой трети XVIII века, очень реалистично описал это в своих Мемуарах, изданных Марселем Тьебо.[19] Этому французскому дипломату довелось сопровождать эрцгерцога Карла и герцога Орлеанского в загородной прогулке. «Под вечер мы вернулись в город, — пишет он. — В общественном парке нам предложили изысканный легкий завтрак под открытым со всех сторон навесом. Вокруг прохаживались многочисленные горожане. Не было никакой охраны — ни одного солдата, ни полиции; ящики, полные столового серебра, подносы, заваленные фруктами, были в полном распоряжении этого доброго народа. Когда мы там появились, люди молча расступились, чтобы мы могли сесть. Вместо шумных приветствий, без которых не обошлось бы в Париже, мы встретили лишь дружелюбные взгляды и уважительную непринужденность. Оркестр под управлением Штрауса играл национальные мелодии. Погода была теплая, небо безоблачное. Этот настоящий праздник, к которому нечего было добавить, продолжался для нас до десяти часов вечера». Даже сама императорская семья отказывалась от строгого соблюдения протокола, участвуя в народных развлечениях, при этом отмечалась все та же деликатность с обеих сторон, одинаковая готовность не стеснять друг друга. Привязанность народа к монархам выражалась не радостными возгласами при виде императора, а скорее своего рода почтительным дружеским расположением, как если бы такое событие было вполне естественным, повседневным. Представлялось само собой разумеющимся, что монарх запросто прогуливается среди своих подданных. Для графа Сент-Олера, привыкшего к французской толпе, прогулки императора по Пратеру или по Аугартену почти без всякого эскорта и без полицейской охраны были «любопытным зрелищем», но ведь отцу нечего бояться, когда он находится среди своих детей, от них не должно ожидать дерзостей и бесцеремонности. Каждый раз, когда посол описывает взаимоотношения между монархом и венцами, он использует слово «дружелюбие»: действительно, можно говорить о реальном и глубоком взаимном уважении между правителями и подданными. Как мы уже сказали, Иосиф II предпочитал, чтобы люди не замечали его присутствия и вели себя так, как если бы он был невидимкой. Фердинанд I Великодушный не претендовал на это. Его непринужденность была проще и естественней, потому что сам он был менее робок, чем Иосиф, а значит, менее скован и меньше стеснял людей. Когда его узнавали, он отвечал на приветствия, как ответил бы любой другой прохожий. Эта деталь позволила графу Сент-Олеру, описавшему ее в своих Мемуарах, отметить присущую венскому характеру особенность: непринужденность венцев никогда не угрожала превратиться в неуважительность. «Обе стороны на равных обменивались приветствиями с дружеской улыбкой. Император знал поименно множество людей и часто обращался к ним с несколькими дружелюбными словами, которые всегда принимались с искренним уважением и никогда не вызывали бестактных ответов. Если он останавливался во время своих частых прогулок, вокруг, на почтительном расстоянии от него, постепенно собиралась толпа; никому и в голову не приходило как-то определять границу, которую не следовало переступать. При таких встречах стирались любые различия, так подчеркнуто соблюдавшиеся при других обстоятельствах. Первая дама Вены не осмелилась бы оттолкнуть женщину из простонародья, чтобы подойти ближе к монарху. Сам же он в присутствии народа служил примером уважения к равенству и импонировал людям скорее своею стеснительностью, нежели пренебрежением правилами, тщательно разработанными полицией для простых граждан». Несмотря на общие бедствия — войну, чуму, наводнения, а также на личные невзгоды (ведь от всего этого Австрия не была застрахована, как и любая другая страна), благополучие жителей Вены было обусловлено «искусством жить», которое выработалось у них самопроизвольно и органически, правда, при благоприятных материальных условиях, но также и в особенности благодаря естественной предрасположенности к благополучию, являющейся чрезвычайно важной чертой характера, без которой эти честные люди, вероятно, стали бы чувствовать себя жестоко угнетенными своими монархами и принимали бы их непринужденность и простые добрые намерения за скрытый «патернализм», чреватый посягательством на их естественную свободу. Народы, как и отдельные люди, одни больше, другие меньше, наделены способностью «строить свое благополучие», пользуясь средствами, предоставленными судьбой в их распоряжение. Никто не отрицает, что в распределении земных благ, на которых, в частности, зиждется благополучие, играют свою роль внешние события. Но блистательное великолепие, которым Вена украсила себя после страданий под турецкой осадой, энергия и смелость, с которыми она восстановилась после катастрофических разрушений войны 1939–1945 годов, с пронзительной очевидностью свидетельствуют о волшебном даре жителей Вены: об умении улыбаться как благополучию, так и несчастью.Глава вторая ПОРТРЕТ ВЕНЦА
Йозеф Рихтер, Грильпарцер, Адальберт Штифтер — создатели образа венца. Влюбленные в природу. Религиозность венцев. Святая Бригитта. Городские развлечения. Прогулки. Музыка
Если нелегко создать портрет города, то еще труднее написать портрет его обитателя. В особенности когда речь идет, как в данном случае, о космополитическом центре, где за многие столетия смешались все европейские расы. Совершенно очевидно, что абстрактного понятия «венец как таковой» не существует. Поэтому как физический, так и нравственный портреты жителя Вены рискуют оказаться в равной степени произвольными. Кого можно назвать венцем в полном смысле этого слова в городе, население которого в интересующий нас период продолжало разрастаться с колоссальной быстротой, потому что туда из всех княжеств империи устремлялись самые выдающиеся люди? Сколько времени нужно было прожить в этом городе, потомком скольких поколений «истинных венцев» следовало быть, сколько нужно было иметь за спиной поколений дворянства, приобретенного гражданской службой, чтобы получить право называться венцем? И если бы мы наугад остановили свой взгляд на любом жителе этого города, вполне вероятно, он мог бы оказаться либо совсем недавним иммигрантом, либо человеком, откровенно не поддающимся ассимиляции. Существует всего один надежный или, скорее, относительно надежный критерий — считать настоящими венцами только знаменитостей, родившихся в этом городе, например таких, как Шуберт, Грильпарцер, Штифтер. Но можно ли позволить себе такое явно неправомерное обобщение и распространить на всех жителей города признаки, присущие, возможно, всего нескольким исключительным личностям? Нет сомнений в том, что, учитывая господствующую в наше время тенденцию к обобщению всего и вся, можно было бы составить некий, как теперь это называют, «портрет-робот», наложив один на другой множество образов и выделив из них лишь общие для всех черты, но подумать только — что представлял бы собой подобный образ: это был бы портрет всех горожан, то есть ничей портрет… И все же веками существует некий виртуальный персонаж, который называется венцем, — это член общности индивидов, обозначаемой именем «венцы», и этот типаж вполне имеет право на существование. Нам следует также помнить, что лучший способ кого-то узнать — это увидеть его в повседневной жизни: поступки, поведение, реакции, вкусы и антипатии раскроют наблюдателю его характер. В этом смысле мы вполне можем доверять превосходному романисту Адальберту Штифтеру, обратясь к его книге Вена и венцы,[20] которая познакомит нас с его соотечественниками.Йозеф Рихтер, Грильпарцер, Адальберт Штифтер — создатели образа венца
С высоты причудливого дома в виде башни на Ад-лергассе, который был жилищем Парацельса в венский период pro жизни, и из своей квартиры на последнем этаже дома на Зайтенштеттергассе, где Адальберт Штифтер поселился позднее, его взору открывалась панорама города и окрестностей. Этот писатель и одновременно живописец, входивший в число лучших художников-романтиков, мог вволю любоваться пейзажем равнины и лесов и одновременно изучать поведение и манеры, быт и образ жизни как своих соседей, так и прохожих на улице. Подобно Грильпарцеру, Штифтер любил Вену с истинной страстью — да и кто ее так не любил? — что, впрочем, не позволяло ему закрывать глаза на ее мелкие недостатки. Читая его романы о жизни соотечественников, мы особенно хорошо представляем себе облик города, каким он был в начале XIX столетия (Штифтер родился в 1805 году), но при этом убеждаемся в том, что одни и те же постоянно действующие факторы заставляют народ столетиями оставаться самим собой в своих основных проявлениях. Так, комические черты жизни Вены периода до 1800 года, о которых мы узнаем от персонажа Йозефа Рихтера, уроженца деревни Айпельдау, сохраняются на всем протяжении XIX века, и мы обнаруживаем множество их даже в наши дни. Романы Штифтера по-своему столь же документальны, как и письма рихтеровского «человека из Айпельдау», и дневник Бойерле, и мемуары Каролины Пихлер, мы с одинаковой уверенностью в надежности информации узнаем из них многое не только о жизни действующих лиц, но и о самих авторах. Это относится также и к романам Артура Шницлера, в которых с удивительной точностью, с трепетным волнением и иронией воспроизводятся картины Вены начала XX века. Письма «человека из Айпельдау» очень своеобразны; они мало понятны читателю, не знакомому с венским диалектом, но само воспроизведение в них народного языка со всей его сочностью, насмешливостью, необычностью, простодушной ироничностью и здравомыслием кажется читателю бесконечно привлекательным, и благодаря этому изобретательный прием Йозефа Рихтера вызывает ощущение подлинности. Письма были написаны между 1785 и 1794 годами, и для тех, кого интересуют венская мода, политические идеи, театральный репертуар, публичные развлечения, они представляют собой почти неисчерпаемый источник информации. По замыслу Йозефа Рихтера эти письма шлет своему провинциальному кузену крестьянин из окрестностей Вены, решивший обосноваться в столице. Оглушенный совершенно новой для него действительностью, он относится к ней подозрительно и оценивает с основательной крестьянской мудростью. Он и есть «человек из Айпельдау», неотесанный мужик из деревни, которую на протяжении столетий называли то Ойпольтау, то Эльпельтау и даже Альпильтове. В Айпельдау конца XVIII века было сто тридцать три дома и восемьсот семьдесят один житель. «Человек из Айпельдау» традиционно воспринимался горожанами как напуганный туповатый недотепа, одетый кое-как, с молочным поросенком под мышкой и с гусем под другой, растерянно бродящий по улицам, оторопевший от городского шума; его то грубо отталкивают с дороги спешащие рассыльные, то едва не давят экипажи, несущиеся галопом, как это принято у самых рисковых и ловких в мире венских кучеров. Этот ежедневно узнававшийся на площадях и рынках города типичный образ, который обессмертил Йозеф Рихтер, не мог не занять своего места также и на театральной сцене. В 1805 году актер Таддаи, одевшись как «человек из Айпельдау», впервые ввел его в поставленную Йозефом Эльменрайхом оперу Капельмейстер Доменико Чимарозы. «Человек из Айпельдау» фигурировал также в 1809 году на сцене Леопольдштадтского театра в комедии Кайнгштайнера Ганс в Вене. Ему посчастливилось участвовать и в балете Шуберта Сезоны любви в 1814 году. Известна также целая серия фарсов, в которых этот комический персонаж выступал героем самых разнообразных приключений, он даже проник в круг императорского двора в буффонаде Фердинанда Эберля Человек из Айпельдау в Хофбурге. Чрезвычайно уморительна неловкость, с которой этот «тупица» коверкает бывшие тогда в моде иностранные имена и французские выражения. Полные блистательного остроумия Письма человека из Айпельдау сегодня читаются с большим интересом как свидетельства из первых рук о жизни различных классов общества, о моде и об убеждениях конца венского века.[21] Если бы венцы однажды пожелали взглянуть на то, что стоит за издавна известным призывом memento mori, отвлекшись от предпочитаемого ими девиза memento vivere,[22] им следовало бы лишь пройтись по катакомбам, простирающимся под частью внутреннего города и восходящим, вероятно, к римской Виндобоне; их взорам представилось бы полное трагизма зрелище, мастерски описанное Адальбертом Штифтером в одной из самых любопытных и захватывающих глав его книги Вена и венцы. В катакомбах собраны тысячи трупов, защищенных от полного разложения уж и не знаю какими химическими процессами, одни из них свалены во внушающие ужас кучи, другие заботливо уложены вдоль стен или прислонены спинами к стенам извилистых проходов. Блики света факелов таинственно мечутся по их скалящим зубы лицам, по телам, на которых еще держатся лохмотья одежды, словно оживляя их для участия в некой иллюзорной пляске смерти. В противоположность древним римлянам, в конце своих пиршеств пускавшим по кругу изображения трупов и скелеты на шарнирах, чтобы путем такого торжественного предупреждения пробудить в пировавших радость жизни и наслаждения всеми земными удовольствиями, житель Вены не нуждается в напоминании о неотвратимом конце: оно скорее портило бы ему радость, нежели побуждало к сиюминутному наслаждению; оно омрачило бы ту невинную, наивную и почти детскую удовлетворенность, которую венец испытывает, живя на этом свете и умеренно пользуясь утехами, которыми его ежеминутно щедро одаряет жизнь. Его характеру чужда дюреровская меланхолия, ставящая под вопрос решительно все и прежде всего ценность и значение самой жизни. Венская меланхолия, такая, например, какую мы порой находим у Моцарта, у Шницлера, мимолетна и легка, это скорее тень от тучи, нежели сама туча, она никогда не гнетет человека и не приводит его в уныние, а тем более в отчаяние. Превосходный анализ венского характера являет собой описание Грильпарцером своего родного дома, своей семьи, условий, в которых прошло его детство. Грильпарцер родился 15 января 1791 года в изысканном и печальном доме на Бауернмаркте, полном бесконечных вестибюлей, ведших неизвестно куда, и громадных комнат, почти лишенных мебели: его родители постоянно испытывали нужду в деньгах. В своей автобиографии он нарисовал щемящую сердце картину старого дома, запущенного, почти заброшенного, признаки былого великолепия которого постепенно стирались по мере того, как он плачевно ветшал. «Лишь самыми долгими летними днями, — пишет он, — в рабочий кабинет отца около полудня прорывалось всего несколько лучей солнца, и мы, дети, с восхищением созерцали хилую полоску света, медленно двигавшуюся по паркету. В самом расположении помещений было что-то таинственное. Например, рядом с кухней находился дровяной сарай, такой большой, что в нем поместился бы целый дом; входить туда можно было не иначе как с фонарем, свет которого едва достигал стен. Ничто не мешало нам воображать, что в подобных местах жили разбойники, цыгане и даже привидения. К этим источникам воображаемых и настоящих страхов добавлялся еще один, и притом весьма реальный: неисчислимое количество кишевших там крыс, порой добиравшихся до самой кухни». Царская пышность фасада, вызывавшего восхищение у прохожих, не допускала и мысли о том, какое уныние, какое безденежье, какая тревога могли скрываться за ним в доме адвоката Венцеля Грильпарцера, который стремился создать впечатление изобилия и роскоши, в действительности его семье недоступных. Стремление жить не по средствам, жертвовать многим ради внешнего вида не столько из пустого хвастовства, сколько по причине наивного честолюбия, заставлявшего быть на виду и таким образом издали участвовать в величии двора и князей, было бы недостатком венцев, если бы они не вкладывали в презрение к бедности столько мужества, веселости, изящества и даже дендизма. Нарисованная Грильпарцером картина семейной жизни в великолепном доме на Бауернмаркте очень характерна для светского уклада венцев той эпохи. В народе придерживались правила считать все происходящее в высших классах «благородным»; это слово было заимствовано из французского языка (noble), произносили его как нобель, и оно постоянно фигурирует в литературных произведениях этого периода, в том числе и в «Письмах человека из Айпельдау». Благородно все то, что отвечает народному критерию величия, изысканности, богатства, хороших манер, элегантности одежды. Благородство — это смесь Терезианского величия, господствовавшего в XVIII столетии, с германской задушевностью. Одновременно с внешним аспектом классового благородства существует благородство внутреннее, определяемое главным образом тонкостью ума, деликатностью чувств, утонченными вкусами и вежливо сдержанными манерами. Человеку с благородной физиономией присвоят титул «превосходительства» или графа, даже если он таковым не является, и охотно присоединят «фон» к его фамилии, невзирая на все геральдические правила, — я имею при этом в виду метрдотелей, кучеров, официантов кафе, парикмахеров. В те годы, когда Грильпарцер проводил свое детство в мрачном, запущенном родительском дворце, а именно — в самом конце XVIII столетия, у разоренного дворянина не было никаких оснований выдавать себя за богача, если только он не был авантюристом, и лишь в начале следующего века и особенно в период бидермайера[23] хвастовство деньгами впервые стало считаться одним из критериев благородства. Держаться за свой ранг, делать благополучный вид, даже если приходится изобретательно выворачиваться, чтобы заплатить самые неотложные долги, — вот императивы, которым были вынуждены подчиняться родители Грильпарцера, принадлежавшие, по всей вероятности, к достаточно многочисленному классу. Из прислуги у них были кухарка, помощница по кухне, метрдотель, лакей, который нес молитвенник, когда Мадам ходила в церковь, и учитель музыки. У них было загородное имение в Энцерсдорфе, где они летом справляли праздники и устраивали утонченные балы на открытом воздухе. В результате у них не оставалось ни гроша для встречи с кредиторами. Отец был человеком не энергичным и большим лентяем, мать хорошей музыкантшей, но не приспособленной ни к какой домашней работе; дети, как могли, воспитывались самостоятельно, читая все, что попадало под руку в богатой родительской библиотеке. Биографы поэта видят в условиях, в которых проходило его детство, символ Вены того периода, когда уже заявлял о себе «закат монархий», против которого отчаянно боролся Меттерних, но эта смесь фантазии и смирения, «хорошего-настроения-несмотря-ни-на-что» и фактической бедности, выставлявшегося напоказ родителями Грильпарцера безразличия к материальной стороне жизни наряду с организацией театральных постановок и концертов — все это как раз и есть доведенная до крайности реальная черта истинно венского характера, и именно в этом качестве мы хотим ее особо отметить. Бауернмарктский дворец, где среди волшебных сказок и историй о привидениях и разбойниках в полумраке громадных пустынных гостиных расцвело воображение писателя, не был исключением в этом старом, перенаселенном городе. Всего за несколько десятилетий число его жителей выросло с восьмидесяти тысяч до ста девяноста тысяч человек. Весь этот народ селился как мог, и в результате такого столпотворения людям приходилось разбредаться все дальше и дальше от центра в поисках зеленых рощ, лужаек, цветущих кустов, певчих птиц, становившихся все более и более редкими, однако без них венцы не могли обходиться. Этому народу, любившему свободно отдыхать и развлекаться на открытом воздухе и в неограниченном пространстве, было нужно, было жизненно необходимо общение с природой.Влюбленные в природу
В Вене не было окна без горшков с цветами, без карабкающихся вверх вьющихся растений, без клетки с певчей птицей, но все это нельзя было считать природой, и из возвышавшихся над крышами мансард взгляды венцев меланхолично обращались к холмам, на склонах которых раскинулся Венский лес, воспетый множеством поэтов и музыкантов — от Вальтера фон дер Фогельвайде до Шуберта и Штрауса. Какое счастье для города иметь буквально под боком настоящий лес с редкими деревушками, затерявшимися среди деревьев, лес, гуляя по которому не встретишь ни единого человека. Лишь вспугнутые олени грациозно разбегались при приближении людей. Любовь венцев к природе отнюдь не является, как это, возможно, имеет место в других местах, свидетельством нелюдимости их характера. Гуляющие по Венскому лесу горожане не избегают общества себе подобных; после прогулки они охотно встречаются в каком-нибудь пригородном кабачке или в расположившемся прямо в чаще леса ресторанчике; порой собирается целая толпа гуляющих, и чем она многочисленнее, тем веселее проходит прогулка. Житель Вены не желал ничего лучшего, чем, прихватив корзины с провизией, забраться в коляску и отправиться на пикник в лес. Малейшего повода было достаточно для того, чтобы провести день за городом. Перечень официальных религиозных праздников венец охотно дополнял днями почитания местных святых-заступников, чудотворных икон, чудесных явлений святых и пользовался любым поводом или предлогом для ревностного паломничества. Добавим к этому дни рождения и дни тезоименитства императора и членов императорской семьи, которые надлежало проводить в радости, а также все традиционно нерабочие дни, освященные многолетней практикой при всей сомнительности их законности. Например, одним из очень старых и очень любимых всеми венских обычаев был «голубой понедельник». Психологически необходимый в этом городе больше, чем где бы то ни было, если учесть венский характер, «голубой понедельник» был продолжением воскресенья и спасал от меланхолии воскресных сумерек последних летних дней, навеваемой самой мыслью о том, что завтра придется снова приняться за повседневную работу. Мысль о том, что завтрашний день также будет днем отдыха, сохраняла неомраченной всю полноту радости воскресного дня, а предвкушение «голубого понедельника» лишь усиливало прелести воскресенья, становившиеся, таким образом, одновременно достоянием сегодняшнего дня и обещанием предстоящих удовольствий. Все это представлялось настолько бесспорным, что придет время — и венские рабочие совершат революцию, когда правительство весьма неосмотрительно попытается отменить «голубой понедельник»[24] в целях повышения производительности труда.Религиозность венцев
Отношение венцев ко всему тому, что касается религии, немногим отличается от их политических убеждений. Реформация не затронула или почти не затронула их традиционно основательного католицизма. Подобно тому как монарх был избран Богом, чтобы заботиться о безопасности и благополучии народа и считался истинным земным Провидением, чьи приказания надлежало принимать и уважать, поскольку они отдавались в интересах подданных, так и Провидение небесное стояло на страже физического и нравственного здоровья христиан. Кроме того, это Провидение возложило на многих святых обязанность оказания помощи людям в их борьбе со злом. Все Четырнадцать Заступников, которым было посвящено множество церквей в Австрии и Германии, жили в тесном общении с городом и деревней, защищая их от пожаров, наводнений, эпидемий, от молний и других бесчисленных бедствий, угрожающих человеческому роду. У каждого из заступников была своя функция, с незапамятных времен возложенная на них верой и народным доверием; свои функции они старательно выполняли, разумеется, при условии, что люди отдавали им справедливую дань в виде молитв и приношений. Поскольку величие Бога было устрашающим, вызывающим робость и дистанцировалось от просителей, опасавшихся обращаться непосредственно к Нему, они имели возможность призвать своих заступников, которые некогда были людьми, совсем такими же, как мы с вами, и, следовательно, хорошо знали нужды людей и грозящие им опасности. Барочные живопись и скульптура превосходно изображали этих заступников с атрибутами их функций наподобие того, как это делалось во времена Средневековья, и в их образах неизменно присутствовали доброжелательный жест и улыбка, обращенные к коленопреклоненному перед ними просителю. Естественным следствием культа святых заступников было то, что в их дни праздничные церемонии и паломничества привлекали толпы верующих. Эти религиозные торжества вызывали в каждом приходе столь же радостное, сколь и набожное воодушевление, и если какой-нибудь особо почитаемый образ святого находился в ближайшей пригородной или сельской церкви, то это становилось поводом для семейных походов туда, в ходе которых веселье сочеталось с благочестием и находился предлог для деревенских пирушек, отнюдь не компрометировавших популярность святого, а, напротив, укреплявших ее. Выше заступников, рядом с Богом, сидела Святая Дева, Мать, которую не оставляла равнодушной ни одна молитва: обращение к ней никогда не бывало напрасным. К ней иногда возносились самые неуместные жалобы, настолько народная набожность была уверена в безграничной терпимости Матери к человеческим слабостям. Природная сентиментальность венцев привела к тому, что культ Девы Марии, развившийся в XVII и XVIII веках, приобрел в Австрии большие масштабы, нежели даже в Италии, и еще совсем недавно можно было наблюдать трогательные примеры ее почитания. Перед войной 1939 года в Вене была церковь (не знаю, существует ли она доныне, так как Вена стала поистине мученической жертвой ужасных разрушений), владевшая, помимо прочих, весьма почитаемой статуей Святой Девы. Стены часовни, в которой находилась эта статуя, были испещрены карандашными надписями, выражавшими смиренные и наивные просьбы: в большинстве случаев это были мольбы какой-нибудь супруги, просившей Марию вернуть ей неверного мужа, но была там, например, и надпись, выражавшая нежную и обезоруживающую тревогу женщины, желавшей удержать любовника, или обращенная к Мадонне мольба юной девушки о том, чтобы Святая Дева направила на нее взгляды некоего равнодушного красавца. Все это было бесконечно трогательно и в высшей степени поучительно для понимания сентиментальной психологии венок Эти надписи, которые невозможно было читать без того, чтобы на глазах не выступили слезы, содержали исключительно мольбы женщин; я не видел ни одной надписи, с которой к Богородице обращался бы мужчина, и, вероятно, не потому, что мужчины не верили в Деву Марию, а, скорее, по той причине, что они больше рассчитывали на самих себя и на собственный талант соблазнителя или же шли молиться и писать свои послания в какую-нибудь другую, неизвестную мне церковь. Я отнюдь не гарантирую абсолютной достоверности одной истории, которую рассказывали в Вене. Она имеет достаточно близкое отношение к традиции набожных надписей. В один прекрасный день молодая девушка, почувствовавшая, что от нее отворачивается жених или, может быть, любовник, пошла помолиться в эту церковь, но намеренно ли или же случайно, вместо того чтобы преклонить колена перед Девой Марией, она распростерлась у подножия Распятия. Какая-то старая дама, услышав ее рыдания, в сознании своих лет и опыта спросила о причине такого отчаяния. Девушка все ей рассказала; тогда старуха подняла ее с пола и отвела к часовне Девы Марии, где и оставила одну, пробормотав следующие слова: «Вот к кому следует обращаться, дитя мое, а мужчины — они все заодно…» Женский город, город-женщина, Вена совершенно естественно должна была почитать Святую Деву больше любой другой сверхъестественной силы, и Богоматерь всегда защищала ее в течение многих веков существования, полного опасностей и случайностей. Именно Святой Деве, не меньше чем принцу Евгению, были венцы обязаны разгромом турок; именно она уже в 1715 году прогнала чуму, успевшую унести великое множество жизней; именно она уняла ярость холеры. Свидетельством признательности венцев Великой Помощнице, той, мольба к которой никогда не остается напрасной, идет ли речь об изгнании врага или об удержании ветреного мужа, стала воздвигнутая в ее честь Колонна Марии — Mariensäule. Понятно, что паломничества в церкви, носившие имя Девы Марии, были наиболее частыми и восторженными, а число храмов, как городских, так и сельских, названных «Марияхильфе»,[25] свидетельствует о благоговейном почитании народом Вены той, которую каждый чтил, как собственную мать. Кроме паломничеств, в которые каждый отправлялся вместе с семьей, в компании друзей или сослуживцев, устраивались также большие и торжественные религиозные процессии, восхищавшие и приводившие в восторг жителей Вены. Действительно, в такие дни все духовенство в пышном облачении выходило на улицы, размахивая кадилами и поднимая над головами красочные хоругви и золоченые кресты; представители каждого религиозного разряда выступали в одеждах соответствующего цвета — коричневого, черного и белого. Пели певчие, из-под пурпурного балдахина сверкало облачение епископа. Бывало, что в таких шествиях принимали участие рыцарские ордена, и тогда можно было видеть, как в полном церемониальном облачении, украшенном перьями, с цепями и при шпагах, проходили мальтийцы, тамплиеры, госпитальеры, рыцари орденов Сантьяго и Калатравы. Но самая пышная из таких процессий была посвящена дню Тела Господня, потому что обычай требовал, чтобы в этот день все сановники двора, императорская семья и сам император совершили обряд святого причастия. По этому случаю из сундуков доставали самые красочные одежды, драгоценные шубы, отороченные мехом и усыпанные драгоценными камнями мундиры венгерских князей, и каждый национальный костюм на дворянине высокого ранга символизировал во время этого благочинного парада бесконечное внешнее разнообразие жителей империи и уникальность ее души. Естественная набожность венцев и их истинный, пылкий католицизм, разумеется, придавали этим процессиям в целом характер религиозного праздника, но немалую роль играла в них и любовь к зрелищам. Было просто невозможно представить себе ничего более тщательно организованного, вообразить более роскошное действо, нежели эти кортежи, предоставлявшие горожанам возможность с удовольствием, вдосталь насмотреться на своих монархов и имперских вельмож, находясь совсем рядом с ними, так как процессия дефилировала с величавой медлительностью, и каждый чувствовал, что объединяется в единой вере с хозяевами его земной судьбы. В почитании, с которым Вена преклонялась перед своими святыми, ощущалось наследие древних обычаев и представлений, истоки которых теряются во тьме веков. Почему же некоторые из этих святых были более популярны, чем другие? Это предстоит определить агиографам и специалистам по религиозной психологии. По установившемуся обычаю каждый квартал города особо почитал святого, считавшегося покровителем местного прихода, и традиция требовала отмечать его день с такой же пышностью и торжественностью, как дни святых покровителей императорской семьи. Однако при этом послушное инстинкту народное рвение, по-прежнему вдохновляемое древними традициями, происхождение да часто и сам смысл которых давно забыты, выбрало двух святых, чьи дни ежегодно становились поводом для безудержного праздничного веселья, — святую Анну и святую Бригитту. День св. Анны праздновали в Вене с таким же блеском, как в Англии празднуют день св. Валентина. Имя Анна было чрезвычайно распространено среди населения и часто объединялось с именем Мария, что породило такие очаровательные уменьшительные формы имен, как Наннерль, Мариандель, Марианнерль. Девушек, носивших это имя, в день св. Анны осыпали подарками, а их возлюбленные даже сочиняли для них серенады. В начале XIX века было принято посылать знакомым Аннеттам поздравительные открытки, в трогательном вкусе 1830-х годов украшенные изображениями перьев и кружев, с пикантными, а порой и пылкими изречениями. Им дарили также веера, вышитые носовые платки, коробки конфет. Торговцы соревновались в изобретательности и изяществе подарочных коробок, «украшенных подобающими случаю надписями, с именем именинницы, гирляндами цветов и настоящими жемчужинами».[26] В такой день венцы отправлялись на танцы либо в бесчисленные кабачки, либо в пышно разукрашенные народные бальные залы, потому что танец всегда был неотъемлемым и необходимым элементом всех религиозных праздников. Отстояв святую мессу, в ожидании вечерней молитвы люди располагались на лужайках вокруг традиционно «своих» церквей, которые все или почти все обычно стояли на границе между предместьями и сельскими окрестностями города. Из корзин извлекали принесенную из дома еду, всегда обильную и очень вкусную: даже в дни религиозных праздников венцы, любившие вкусно поесть, охотно устраивали веселые пирушки. Потом молодежь танцевала, а родители дремали, переваривая поглощенные сладости, пока звон церковного колокола не призывал к послеобеденной молитве. В этот день каждый надевал национальный костюм провинции, из которой был родом. Множество красочных костюмов, разноцветных лент, увлекаемых в пестрый водоворот в ритме танца, являло собой очаровательное зрелище, которое не преминул описать граф де Ла Гард, участвовавший в Венском конгрессе и ставший его историографом. Именно здесь де Ла Гард впервые увидел тирольцев. Одетые в национальные костюмы, они исполняли танцы своих гор, восхитившие графа. Эти тирольцы, переехавшие в столицу, занимались там ремеслом часовщиков. Они всегда оставались тесно сплоченной общиной и собирались по субботам, чтобы попеть и потанцевать. В дни св. Анны и св. Бригитты они в массе других танцующих исполняли свои туры и прыжки, сопровождавшиеся пронзительными выкриками и пением. Красота их голосов, своеобразие альпийских мелодий и пикантность любовной мимики, служившие фоном для тирольских танцев, однажды в день паломничества привлекли внимание постановщика зрелищ, владельца большого увеселительного заведения под названием «Аполлон», куда каждый вечер спешили тысячи желающих потанцевать. Постановщик постоянно искал новые аттракционы для привлечения и удержания публики. Тирольцев пожелал заполучить также Театр-ан-дер-Вин.{12} Их ввели в состав исполнителей одной сельской оперы, которая после этого стала пользоваться огромным успехом. Народ очень хорошо знал тирольцев, и, когда тем случалось петь хором, проходя по улицам, за ними следовала такая толпа, что «обеспокоенная полиция издали следила за нею, опасаясь возможных нарушений порядка». Самые блистательные салоны оспаривали между собой и у театров право пригласить их к себе. Тирольцев, ставших последним криком моды, пригласили на гастроли в Англию, где были высоко оценены их талант и скромность. Рассказывают, будто одна из певиц была настолько растрогана любезными поздравлениями короля Георга, что радостно бросилась на шею Его Британскому Величеству и расцеловала его в обе щеки.Святая Бригитта
День св. Бригитты всегда становился поводом для еще более многочисленных и разнообразных — если это вообще было возможно — развлечений, чем день св. Анны. «Есть люди, — пишет австрийский романтический[27] писатель Адальберт Штифтер, — которые, не выходя целый год за пределы своего квартала, считали бы себя обездоленными, если бы не пошли в парк Пратер 1 мая, в день св. Бригитты, готовые ради этого, если бы понадобилось, заложить свою постель и нижнее белье». День св. Бригитты был таким же большим весенним праздником, как день св. Анны — летним. Эти праздники пользовались неизменной любовью венцев по той причине, что приходились на самое прекрасное время года и служили поводом для столь любимых венцами загородных прогулок, а для них был хорош любой предлог, позволяющий вырваться на просторы полей. Жителям Вены не приходилось уходить слишком далеко от города, чтобы насладиться прелестями сельской природы. Они раскрывались перед ними прямо за городскими воротами, и невысокие холмы Венского леса были легко доступны даже самым ленивым. По какому неписаному закону, источник которого никому не известен, все венцы, кроме разве что прикованных к постели больных, устремлялись 1 мая каждого года к Пратерской дороге, в гущу толкающих друг друга людей, рискуя быть раздавленными колесами мчавшихся во весь опор экипажей, если только и экипажи не застревали в сплошной лавине горожан, в которой не было никакой возможности двигаться вперед самостоятельно? В самом начале своей превосходной повести Бедный музыкант[28] Франц Грильпарцер, этот венский писатель, настолько одержимый страстью к своему городу, что воспевает даже его недостатки, рисует картину праздника св. Бригитты, с точностью воспроизводящую атмосферу этого дня, поздним вечером которого каждый венец возвращался к себе домой разбитый, в запыленной, испачканной, а то и порванной одежде и, падая в постель со смешанным ощущением усталости, сожаления, что все уже закончилось, и тоски, которая овладевает человеком после того, как в небе померкнут звезды последнего залпа фейерверка, тут же начинал с нетерпением ждать наступления 1 мая следующего года и нового праздника св. Бригитты. То ностальгическое веселье, которое пронизывает всю австрийскую музыку и живопись, а также австрийскую литературу, — это и есть та самая атмосфера окончания праздника, предчувствия завтрашнего дня без праздника, неизбежности возвращения к банальной повседневности после угасания его очарования, после того как сон снова уступит место реальной действительности. Именно потому, что праздники св. Анны и св. Бригитты приходились на восхитительно прозрачные весенний и летний дни, вокруг них создавался некий ореол, сотканный из магии солнечных лучей и из сочетания волшебных элементов с реальными страстями и чувствами людей. За внешней обывательской вакханалией религиозных и сельских праздников, которыми наслаждались венцы, таилось какое-то тревожное возбуждение, и далеко не одна девушка поддавалась ему и, забыв о строгости святых Анны и Бригитты, падала в объятия какого-нибудь говоруна-студента или красавца-офицера, с молчаливого согласия венской ночи, разливавшейся в воздухе музыки и самой нашей матери-природы — самого древнего и самого нерушимого из всех божеств. Йозеф Рихтер шутливо говорит нам в комических письмах Айпельдауэра: «Каждый год одно и то же: шумная, обезумевшая толпа, безудержное веселье, а под конец почти всегда небольшая попойка, в которой женщины играют более заметную роль, чем мужчины». Айпельдауэр, разумеется, хотел сказать, что женщины бывали главной причиной опьянения и что их изящество, соблазнительность и красота кружили головы их компаньонам больше, чем гринцингский спотыкач или венгерский токай. Анонимный автор Одной недели в Вене в 1830 году оценил число участников праздника в Бригиттенау{13} в сорок тысяч человек.[29] На празднике были представлены все классы, все возрасты, и каждый находил развлечение по своему вкусу. Один замирал на месте, глядя на то, как вертятся волчком тирольцы в коротких юбках, другой вальсировал до потери дыхания, третий устраивался перед ларьком сладостей и одно за другим уплетал пирожные. Воздух гудел от самой разнообразной музыки, от шарманки до жалкой скрипки захудалого скрипача — полувиртуоза, полунищего, спешившего заработать несколько флоринов на пропитание. На эстраде гримасничали карлики, резвились обезьяны и «служили», становясь на задние лапы, собаки. Изобретательные дрессировщики демонстрировали ученых птиц, раздававших гороскопы юным воспитанницам приютов. Создавалось впечатление, что на этой громадной ярмарке назначили друг другу свидание цирки и зверинцы: они так тесно жались один к другому и их было так много, что глупые шутки клоунов сталкивались в воздухе над головами оглушенных горожан. В толпе сновали ловкие воришки, ощупывавшие чужиекарманы и запускавшие руки в сумки, пока их наивные владельцы пялились с открытым ртом на какого-нибудь пожирателя огня, шпагоглотателя или на построенную акробатами человеческую пирамиду, на вершине которой размахивал флагом бесстрашный ребенок. Предприимчивые хозяева развлекательных заведений не преминули понастроить вокруг Бригиттенау целые парки постоянных аттракционов, которые после праздника действовали в течение целого года. Самым монументальным из них — он вполне заслуживал свое название — был Колизей, колоритное описание которого, воспроизведенное позднее Райхльсом,[30] оставил нам в 1834 году Берман; на работу Райхльса постоянно ссылаются все, кто изучает Вену эпохи бидермайера. За десять крейцеров — а это была вполне умеренная цена — каждый получал право на посещение сорока аттракционов Колизея: русских горок, каруселей, качелей, тиров для стрельбы по птицам, всякого рода игр, требовавших ловкости, на лодку для катания по пруду и на верховую прогулку. В Колизее было все для удовлетворения любых фантазий и для осуществления любых желаний: театр марионеток, клоуны, зверинец. Любители сверхъестественного могли при желании проконсультироваться у оракула, облаченного в монашескую рясу старика с большой бородой, или пострелять из арбалета, принадлежавшего самому Вильгельму Теллю. Одержимые любовью к вальсу теснились в громадном танцевальном зале, построенном в виде бочки, а к услугам любителей бильярда были многочисленные столы. В 1840 году ко всем этим чудесам добавилась миниатюрная железная дорога. Фанатики св. Бригитты отводили на праздник два дня. Они располагались лагерем на лужайке или в соседних парках, и было невозможно представить себе более красочного и более очаровательного зрелища, чем эта радостная толпа, укладывавшаяся спать под звездами, но засыпавшая с трудом из-за не прерывавшихся всю ночь пения, смеха и звуков танцевальных мелодий. Праздник обходился без драк и вообще без малейших беспорядков. Умение наслаждаться жизнью, доведенное жителями Вены до утонченного совершенства, неведомого другим городам, позволяло громадному количеству людей, собиравшихся для развлечений и далеко не пренебрегавших возможностью выпить и закусить у стойки трактира или пивной, всегда оставаться в рамках приличия, взаимоуважения, веселости самого хорошего тона, что делало их самым цивилизованным народом Европы. Потребовался глубокий раскол в характере и поведении венцев, который вызвала революция 1848 года, чтобы власти «в силу новых и исключительных обстоятельств» положили конец этим озаренным набожностью гуляньям в день св. Бригитты, столь веселым и, вероятно, столь необходимым для самой жизни Вены. Понятно, что никому не хотелось в день 1 мая отказываться от посещения Бригиттенау, где можно было либо самому принять участие в развлечениях, либо просто полюбоваться колоритным зрелищем. Бедный музыкант Грильпарцера находит себе место у дороги, забитой экипажами и пешеходами, чтобы собрать в старую шляпу несколько грошей, и созерцает вереницу катящихся перед ним экипажей всякого рода; пассажиры самых скромных из них, стараясь не поцарапать самых роскошных при случайном соприкосновении, не бросают на них ни единого ревнивого или завистливого взгляда. Классовая ненависть была незнакома Вене вплоть до революции 1848 года, которая своими бесчинствами и жестокостью репрессий начала прокладывать пропасть между бедными и богатыми; пока же, если и случалось, что экипажи сталкивались или даже сцеплялись друг с другом, это не приводило ни к чему другому, кроме доброй улыбки потерпевшего и извиняющегося жеста виновника происшествия. В худшем случае кучера недолго и словно шутя переругивались без особой горячности, скорее просто по привычке. Легко представить себе, насколько трудно было сдерживать разгоряченных лошадей в такой густой толпе и как медленно приходилось двигаться процессии, состоявшей из верующих и зевак, из людей и лошадей. Как говорят в Вене, в этом городе кучера гонят лошадей во весь опор, на что пешеходы не обращают внимания и не проявляют никакой осторожности, но, несмотря на это, здесь никогда не бывает несчастных случаев. Это был счастливый город, где жизнь текла гармонично, как музыка, в атмосфере доброжелательства, предупредительности, хорошего настроения.[31] Здесь не было места озлобленности, и каждый искал своих удовольствий, предоставляя соседу возможность развлекаться по-своему. Эта мудрая и гибкая «наука развлечений», основанная на девизе «живи и дай жить другому», как говорят англичане, была самым лучшим способом сделать всех счастливыми; но если англичанам это удавалось за счет эгоизма, отнюдь не предполагавшего навязывания своей воли другому, но и мало озабоченного тем, чтобы чем-то ему помочь, то венцы инстинктивно воспринимали жизнь как некий балет, где движения всех согласуются с совершенством каждого и с равновесием всей массы. В других городах огромные сборища людей в дни св. Анны и св. Бригитты провоцировали потасовки и даже бунты, в Вене же все недоразумения разрешались с улыбкой, после чего возобновлялось беспрепятственное течение жизни. Толпа, двигавшаяся по узкой Пратерской дороге вместе с экипажами, устремляясь к Бригиттенау, была доброжелательной, общительной и приветливой. Поскольку все шли туда с намерением развлечься, нужно было всячески избегать того, что могло бы омрачить удовольствие как самому себе, так и другим.Городские развлечения
Если венцы и устремлялись при первой возможности за город, то надо сказать, что и в самом городе было много привлекательных возможностей развлечься, и наибольшей популярностью пользовались бесчисленные кафе, прекрасно отвечавшие потребности взаимного общения людей, для которых в равной степени чуждыми были как стадность, так и нелюдимость, они охотно искали общества других, делая тем самым удовольствие более полным для каждого. Кафе сильно отличалось от великосветского салона, где приличия требовали всеобщего подчинения законам, навязывающим обязательные «фигуры светского балета»; здесь в любой момент можно было при желании погрузиться в одиночество, изолировавшись ото всех за чашкой кофе мокко или за бокалом вина, или же разделить беседу с соседями, переброситься в их компании картами либо сыграть партию в шахматы. Кафе — это такое место, где человек чувствует себя безгранично свободным, прежде всего свободным от семейных обязанностей, а потом уже и от светских. Именно для того, чтобы как можно полнее почувствовать эту свободу, житель Вены и отправляется в свое любимое кафе. Он идет туда не для того, чтобы выпить или, лучше сказать, если он там и пьет, то лишь потому, что ему нравится хорошее вино и что, по его мнению, легкие и светлые вина из винограда, выросшего на склонах австрийских холмов, оживляют беседу и способствуют веселому настроению. В том, чтобы напиться допьяна, он не находит никакого удовольствия. Все, что ему нужно, это легкое опьянение, снимающее ощущение тяжести, прибавляющее яркости фонарям и живости застольным беседам. В некоторых кафе запрещалось курение табака, словно хозяева заведений опасались, как бы дым от сигар и трубок не затуманил мозги посетителям. Из двух популярных уже в то время восточных продуктов с восторгом принимался кофе, также способствовавший легкости настроения и трезвости суждений; что же касается табака с его тяжелым ароматом, то курение еще долго будет находиться под запретом, в первую очередь, разумеется, в обществе дам, а также везде, где табачный дым может создать неудобства. Однажды, когда княгиня Меттерних ехала в поезде, один из ее соседей по купе, хотевший раскурить сигару, спросил, не будет ли это ей неприятно. «Я ничего об этом не знаю, — холодно отвечала она, — так как до сих пор никто не осмеливался курить в моем присутствии». Курить было запрещено на улицах и в ресторанах. И только в самых заштатных кабачках любители трубок и сигар могли свободно предаваться своей страсти. Тем не менее австрийское государство было заинтересовано в том, чтобы не ограничивать курение табака, так как государству принадлежала монополия на его производство и сбыт при запрете на импорт любой иностранной табачной продукции, что, в частности, навязывало находившимся под властью Австрии итальянским провинциям курение австрийских сигар, которые очень не нравились пьемонтцам и ломбардцам. Именно бойкот австрийских табачных изделий будет одним из первых проявлений свободомыслия и возмущения этих провинций. Эта исключительность, сохранявшаяся за сигарами отечественного производства, часто стесняла иностранцев; такой вывод можно сделать, читая, например, произведения Генриха Лаубе. Это хорошо отражено в его Дневнике путешествия по Бидермайеру.[32] В Вене ему нравилось все, кроме тяжкой необходимости отказаться от своих любимых гаванских сигар. «Мне очень хотелось бы знать, каким будет позднее мое мнение о Вене, об этом городе, являющемся земным раем, причем без фиговых листков, без Змия и без Древа познания. Можно думать, что все мои воспоминания будут весьма благоприятными, так как мой желудок все это время был в прекрасном состоянии. Я думаю, что стану мучеником — останусь в Вене и стану мучеником, — потому что тогда мне придется отказаться от спирта, от либерализма и от гаванских сигар, ведь ничего этого здесь нет. Но смысл крылатой фразы „Вена есть Вена“ в том и состоит, что уже через несколько недель вы больше не желаете ничего иностранного и ни в чем не испытываете нужды». Первое публичное заведение, в котором любому посетителю подавали кофе и которое по этой причине назвали «кафе», было открыто в 1683 году — то был год осады Вены турками. Заведение очень быстро приобрело большую популярность. Кафе множились и становились городской достопримечательностью, что, несомненно, отвечало потребностям и желанию венского населения; пережив все социальные преобразования, кафе и поныне остаются одними из самых характерных элементов города. Можно было бы издать небезынтересную Характерологию столиц, описав в ней природу кафе каждой страны, и получить одновременно значительный источник информации о психологии, нравах и чувствах различных народов, изучая значение кафе в жизни каждого из них. Скажи мне, какое кафе ты посещаешь, и я скажу, кто ты. В равной мере обеспечивая клиенту как обособленность, так и общение, венское кафе, естественно, отражает все изменения вкуса и образа жизни. Оно становится более роскошным с точки зрения меблировки и декора, когда его начинают посещать представители высших классов общества. За исключением некоторых очень редких в этой музыкальной столице кабачков, завсегдатаями которых являются не меломаны, в нем обычно звучит музыка. Категория, к которой относится каждое кафе, определяется тем, какие в нем подают напитки. Наиболее заурядными считаются обычно пивные погребки. Я имею в виду не крупные пивные, располагающие великолепными залами, садом с оркестром и аттракционами, а кабачки в населенных простонародьем кварталах, посещаемые матросами с бороздящих Дунай судов и рабочими. Рангом выше считается кабачок, в котором продают вино. В большинстве случаев житель Вены является любителем вина: вкус к пиву развился здесь довольно поздно и не составил опасной конкуренции австрийским и венгерским винам. Однако винные или пивные погребки привлекают клиента тем, что он знает, какой напиток ему подадут, и идет туда главным образом с намерением получить удовольствие именно от него. Такой клиент готов терпеть неудобства из-за шумного соседства, ссор между захмелевшими матросами и табачного дыма, сквозь который мало что видно. В противоположность этому посетитель кафе хочет найти тихое место, где его ждут «удобство, покой и наслаждение». Разговоры в кафе никогда не выходят за границы тона доброй компании. После того, как гарсон принесет вам чашку мокко, стакан воды и целую пачку газет, вы можете сидеть там хоть весь день, если это вам заблагорассудится, вплоть до самого закрытия заведения. Согласно ритуалу двухсотлетней давности, без которого Вена не была бы Веной, гарсон ненавязчиво позаботится о том, чтобы перед вами всегда был полный стакан воды и свежие газеты. В прежние времена были в Вене и знаменитые, особо выдающиеся кафе. Некоторые из них давно исчезли, другие же долго сохраняли свою заслуженную репутацию. Наибольшей популярностью всегда пользовались те из них, куда люди шли после театра и где можно было увидеть за соседним столиком актера или певицу, игравших героев только что окончившегося спектакля и продолжавших играть великолепные роли в повседневной жизни. Автор остроумных Писем Айпельдауэра Йозеф Рихтер воздал хвалу одному из самых типичных для конца XVIII и начала XIX века кафе Хугельмана, построенному совсем рядом с мостом Фердинанда, соединяющим город с расположенным на дунайском острове предместьем Леопольдштадт. Это кафе всегда бывало полно посетителей, так как по мосту неизбежно проходили все — горожане, направлявшиеся в Пратер или же возвращавшиеся оттуда. Многочисленных посетителей привлекали в кафе Хугельмана и другие его преимущества, прежде всего большой сад, в котором были расставлены столики. Кафе на открытом воздухе имели свою клиентуру, которую привлекала радость любого общения с природой, как это было в случае заведения Хугельмана. Расположенное на берегу реки, оно открывало перед гостями панораму Дуная с плывущими по нему судами, с матросами в греческих или турецких костюмах, а также с купальщиками, на которых не было вообще ничего. Гости Хугельмана смотрели из-за столиков, как от причалов отходят переполненные пассажирами прогулочные лодки и тяжелые шаланды, следили за едва заметными мутными струями воды позади паромов, из последних сил конкурировавших с мостами. В числе посетителей кафе Хугельмана его завсегдатаям случалось видеть поэтов, музыкантов, художников и актеров. Хугельман славился также своей «академией». Она не имела никакого отношения ни к литературе, ни к искусству, ни к наукам, а была просто академией бильярда. Эта игра имела колоссальный успех, и здесь охотно сходились любители, чтобы потягаться друг с другом в своем искусстве. В XVIII веке бильярд в его современном виде, которому, разумеется, предшествовали устаревшие варианты, был в Вене достаточно популярен, во всяком случае настолько, чтобы обеспокоить администрацию, которая своим распоряжением 1745 года запретила открытие бильярдных залов на всех этажах, кроме первого, несомненно опасаясь обвала междуэтажных перекрытий под тяжестью массивных столов и толпящейся вокруг игроков публики. Мастера игры на бильярде пользовались не меньшей известностью, чем выдающиеся артисты, и не будет преувеличением сказать, что они были настоящей приманкой для клиентов Хугельмана, которые знали их всех поименно и расталкивали друг друга в толпе вокруг столов, чтобы посмотреть, как они играют. «У Хугельмана можно было увидеть самых лучших бильярдистов, подобно тому как в Короне можно было увидеть самых выдающихся актеров, — пишет Франц Фреффер.[33] — Там бывали прославившийся на всю страну Рейх и знаменитый Унтель; венгерские мастера играли так блестяще, что за один прием выигрывали три партии. То были допотопные времена, период детской наивности, счастливого неведения, предшествовавший открытию „сухого удара“[34] — приема, которому было суждено покорить мир… У Хугельмана был настоящий университет бильярда. Теперь он переехал к Адами». В другие кафе люди приходили, чтобы услышать музыку. Я говорю «услышать», а не «послушать», потому что удовольствие, которого можно было ожидать от трактирных виртуозов, было несравнимо с тем наслаждением, что испытывали меломаны на утренних концертах в оранжерее Аугартена, где играли Моцарт и Бетховен. Музыканты, игравшие в кафе, во все времена были скорее большими мастерами создания определенного настроения, нежели атмосферы настоящего эстетического наслаждения. Их музыка была чем-то вроде того, что Эрик Сати[35] называл «меблировочной музыкой». Она могла быть и очень хорошей, как, например, вальсы отца и сына Штраусов, но могла быть и избитой до банальности, когда скрипачи извлекали звуки из каких попало инструментов. Кроме того, были и такие рестораторы, которые стремились развлечь своих клиентов концертами, похожими скорее на аттракционы. Так, какой-то трактирщик-француз привез в свое заведение на Пратерской дороге, как редкую диковинку, оркестр парижских арфисток, который и в самом деле привлекал множество посетителей. Были и такие места, куда венцы ходили, чтобы услышать импровизаторов. Одной из специфических особенностей начала XIX века была чрезвычайная популярность поэтов, готовых мгновенно сочинять стихи на темы, предлагавшиеся кем-нибудь из зрителей. Такие произведения часто бывали очень длинными и порой по-настоящему прекрасными, как, например, песни г-жи де Сталь в устах ее Коринны.{14} Из Замогильных записок мы знаем, что Шатобриан приглашал импровизаторов, чтобы придать изюминку вечерам в своем римском посольстве, а Ганс Христиан Андерсен сочинил превосходный роман,{15} главный герой которого был итальянским импровизатором.[36] Италия была родиной этих удивительных виртуозов, от которых изысканное общество было без ума; очаровывали они также и посетителей публичных заведений. Вероятно, успех импровизаторов распространился на Австрию именно из Италии. Они производили настоящий фурор в венских кафе и в пригородных ресторанах, и все мемуаристы того времени не устают прославлять Фердинанда Заутера, восхищавшего слушателей своими ироническими куплетами. Будучи служащим страхового общества и получая за работу очень мало, Заутер решил укрепить свой бюджет, распевая по питейным заведениям блестяще импровизированные тут же злободневные куплеты. Он пожинал при этом восторженные аплодисменты, несколько крейцеров и бесчисленные бокалы вина, за короткое время разрушившие его здоровье. В грязной одежде, почти в лохмотьях, в заляпанной грязью обуви и с какой-то тряпкой на шее вместо галстука, он очаровывал своих слушателей насмешливым добродушием, с которым смеялся над собой и над своим нелепым нарядом. Этому шутнику с причудливо-странной физиономией, напоминавшему своими повадками героя сказок Гофмана, этому неистощимому забавнику было суждено умереть от холеры, унесшей множество жизней в трагическом 1854 году. Большинство его стихов, разумеется, нигде не публиковалось, поскольку рождались они в запале устной импровизации. Некоторое время они сохранялись в памяти слушателей, потом забывались и ими, но все же некоторые из них сохранились, в основном это чисто венские по характеру и талантливости стихи, вдохновленные «кабацкой музой».[37] Певцы и певицы, скрипачи, музыканты, игравшие на цитрах, акробаты и фокусники развлекали посетителей пригородных кабачков и «садовых кафе», где проводили свой досуг добрые венцы. Поскольку комкать свой отдых не было принято, то, не имея времени на отнимавшую целый день поездку в Венский лес, они усаживались под деревьями или в тени увитых зеленью беседок, которые в самых скромных заведениях заменяли цветами в горшках, закрепленных на палках разной длины.Прогулки
Прогулка в общественном парке, неизбежно прерывавшаяся остановками в очередных питейных заведениях, была для венца почти ежедневной потребностью. За отсутствием заросших тропинок Венского леса эту настоятельную потребность австрийцев в общении с природой удовлетворяли посыпанные песком аллеи и лужайки Пратера, Аугартена и Фольксгартена. Отмечая в своих Мемуарах[38] эту характерную привычку, граф де Сент-Олер заносит ее в актив жителей Вены. «Для всех классов населения традиционно привычны прогулка, музыка и танцы на открытом воздухе, всегда сопровождающиеся хорошим столом. По окончании рабочего дня, как бы мало у него ни было для этого времени, каждый ремесленник из пригорода снимает рабочую одежду, надевает приличный костюм и отправляется с женой и детьми в один из бесчисленных ресторанчиков, рассеянных по цветущему раздолью орошаемых Дунаем угодий, чтобы съесть жареную курицу. На городских бастионах и на склонах венских холмов обосновались более ухоженные заведения для горожан среднего достатка и зажиточных рабочих; в общественных парках, охватывающих город зеленым кольцом, вдоль аллей гнездятся ларьки с прохладительными напитками и более солидные заведения, в которых можно перекусить. В центральной части каждого парка имеется обширная танцевальная площадка. Оркестрами, игравшими на таких площадках вальсы и отрывки из опер, не гнушались дирижировать Штраус и Ланнер. Бесконечно очаровательна эта толпа мужчин и женщин всех возрастов, спокойно радующихся жизни и явно довольных судьбой. Никогда никаких эксцессов, ни малейших беспорядков, лишь едва слышен стук ножей о тарелки. Каждый негромко переговаривается с соседом, гуляющие церемонно движутся по двое вокруг ограды танцевальной площадки; время от времени пары, нарушая спокойный ритм этого движения, выходят из стройных рядов и погружаются в водоворот танцующих, чтобы сделать несколько туров вальса с пылкостью, которой окружающие не могли бы ожидать, видя их строгие манеры и серьезное выражение лиц». Это нетерпеливое стремление поскорее уйти из города, поражающее приезжих и владеющее поголовно всеми горожанами, является одной из очень специфических черт характера венцев. Главной причиной этого ежедневного исхода за город или в парки является любовь к природе, а также желание посвятить хотя бы часть дня чему-то, не связанному с профессиональными занятиями, желание разорвать последовательность рутинных дел. Жителю Вены прекрасно удавалось урвать какое-то время для спасительного отдыха, чтобы расслабиться, снять напряжение, для всего того, что психиатры называют «отключением». Венец возвращался домой со своей прогулки в зелени парка освежившимся, с обновленным взглядом, радуясь всему тому, что увидел изящного и прекрасного, вдоволь надышавшись чистым воздухом. Потребность в чистом воздухе была признана настолько законной во всех классах общества, что никакие протокольные условности, никакие приоритеты не влияли на течение этой радостной толпы в направлении Пратера, особенно летом, когда никому и в голову не пришло бы оставаться дома по окончании повседневной работы. В массе пешеходов и экипажей каждый знал свое место. Сент-Олера восхищала эта дисциплина, которой он, вероятно, не встречал больше нигде. «В мае и июне, после пяти часов пополудни, жители этого города, как всегда изменившие на лето время обеда, спешат уйти из своих печальных жилищ; все улицы, кончающиеся у Красной Башни, буквально забиты экипажами, мужчинами и женщинами верхом на лошадях. Вереница колясок, начавшаяся у небольшого моста через Дунай, не прерывается на всем протяжении Егерцайле и кончается только у ворот Пратера. Экипажи двигаются в одну линию со скоростью пешехода, и ни один из них не должен выезжать из колонны. Привилегий нет ни для кого. Я сам видел, как император с императрицей, соблюдая это правило, после долгого ожидания отчаялись попасть до позднего вечера в Пратер, отказались от своих намерений и свернули к Хофбургу». Происшествия, подобные тому, в котором дочь русского посла оказалась виновницей несчастного случая, были настолько редки, что французский дипломат возвращается к нему как к совершенно исключительному событию на протяжении всех своих воспоминаний и рассказывает при этом о необычных перипетиях судебного процесса, восстановившего графа Эстерхази против городского совета. Они скрупулезно изложены в главе его Мемуаров, озаглавленной «Венские развлечения». Берега Дуная, знаменитого «голубого» Дуная, который в действительности является голубым только в воображении Иоганна Штрауса — на самом деле у него, по крайней мере, в части, протекающей через Вену, цвет нефрита, и он довольно илистый, — также очень ценятся горожанами как места для прогулки. В распоряжение желающих совершить речную прогулку предоставлялись парусные или весельные лодки, и на причалах всегда стоял шум и царило возбуждение: в воздух взлетали ленты, слышались радостные возгласы и встревоженные оклики людей, потерявших друг друга в толпе. На других причалах разгружались баржи с телятами из Эннса, насмерть перепуганными за время пути, и с глиной, которая в больших количествах поставлялась на знаменитую венскую фабрику фарфора. Потягивая пиво, отдыхающие наслаждались этим колоритным и постоянно меняющимся зрелищем с балконов пивных. Прогулочные парусники, расцвеченные всевозможными красками, с радостно хлопающими от ветра прозрачными парусами, были введены здесь в моду неким офицером, который, служа в Италии, пристрастился к неторопливому плаванию по озерам Ломбардии, а по возвращении в Вену перевез на Дунай и на Дунайский канал судостроительные мастерские то ли из Коме, то ли из Стрезы. Инициатива увенчалась полным успехом, и автор очень интересного путеводителя, знакомящего туриста с окрестностями Вены в радиусе двадцати лье,[39] сообщает, что число небольших судов и лодок на Дунае непрерывно возрастает, а речные прогулки становятся предпочтительным времяпрепровождением венцев: одни из них скользят по воде, увлекаемые свежим попутным ветром, другие же поднимают бокал вина или кружку пива за здоровье храбрых навигаторов, глядя на них с нависших над Дунаем террас питейных заведений. Ресторан У Золотой Розы в Нуссдорфе специализировался на блюдах из рыбы и раков, подаваемых в самом утонченном и самом впечатляющем виде. В дневнике Бойерле за 1829 год можно прочесть письмо одного читателя, превозносящего наслаждение, полученное им в «Золотой Розе». Он называет себя «другом добрых ресторанов нашей страны» и хвалит два больших возвышающихся над рекой балкона, прекрасный сад, отличную кухню, не слишком дорогое обслуживание и предоставленную посетителям возможность самим, в зависимости от собственной фантазии, выбрать себе на съедение рыб и раков в садке, в котором они плавают живыми. Тот факт, что венцы плохо представляли себе прогулку за город без пирушки, порой удивлял иностранцев. Книготорговец Николаи, чьи резкие суждения мы приводили выше, удивлялся тому, что после пяти часов пополудни все венские парки обычно полны рабочих. Он никогда не видел ничего подобного ни в своем родном городе Берлине, ни в других городах, где ему довелось побывать, и он подчеркивает, что эти славные люди теснятся вокруг играющих в шары, причем только в одном парке он насчитал тридцать восемь мест для этой игры. Собираются ли они вокруг солидного дубового стола или же сидят на корточках на земле перед расставленной на скатерти снедью, пишет Николаи, главное — они всегда здесь, «как если бы Господь создал их только для того, чтобы есть. В Баварии простой человек ест немало; в Швабии он ест много, в Швейцарии тоже, но нигде он не ест так много, как в Вене, где он считает, что достиг своей цели только тогда, когда наестся до отвала».[40] Значение, которое венцы придают застольным наслаждениям, казалось естественным простонародью и горожанам, но иногда раздражало людей искусства, которые с сожалением смотрели на своих сограждан, слишком зацикленных на материальных радостях в ущерб радостям духовным. Англичанин Эдвард Шульц рассказал в лондонской газете Гармоникон о своих встречах с Бетховеном в 1823 году. Вместе с музыкантом он совершал длинные пешие прогулки по окрестностям Бадена, где тот тогда жил, недалеко от Вены, потому что, говорит он, «Бетховен хороший ходок и с удовольствием устраивает многочасовые походы, особенно по диким и романтическим местам. Мне рассказывали, что он гуляет так целыми ночами и что ему даже случалось не возвращаться домой по нескольку дней». Гуляя, они остановились подкрепиться в одном ресторане на открытом воздухе; сам ресторанчик привел Бетховена в восхищение, но вот меню понравилось ему меньше. «Венская еда славится на всю Европу, — пишет Шульц, — и то, что приготовили для нас, было так роскошно, что Бетховен не смог удержаться от замечания по поводу такого расточительства. „Почему так много разных блюд? — вскричал он. — Человек ставит себя ниже уровня животных, если стол является для него главным наслаждением в жизни…“»Музыка
Было бы несправедливо утверждать, будто еда до того владела разумом венцев, что заставляла их недооценивать радости духовные. Музыка всегда занимала в их удовольствиях первое место, и это тем более верно, что сама по себе еда не приносила им полного удовлетворения, если их слух не радовала игра флейтиста, скрипача, музыканта, играющего на цитре, либо какого-нибудь импровизированного трио или квартета. Музыканты располагались на лужайках Пратера так, чтобы музыка была слышна обедающим, и восхищали их мелодиями, заимствованными из опер Моцарта или Гайдна вперемешку с репертуаром из Ланнера и Штрауса. Что касается песен Шуберта, то они так хорошо соответствовали народной сентиментальности, мимолетным влюбленностям и меланхолии каждого венца, что во всей Вене не было юноши или девушки, которые, имея уши и хоть немного музыкального слуха, целыми днями не пели бы его песен. Насколько неполным показался бы нам образ Шуберта, если бы представление о нем не сопровождалось радостными походами в Венский лес, настолько сами эти походы теряли бы свою прелесть, если бы мы не могли представить себе радостных или, наоборот, ностальгических песен, эхо которых разносилось по всему лесу. Потому что, как писал английский путешественник Чарльз Барни, побывавший в Вене в 1773 году, «здесь поют даже каменные скульптуры ангелов над дверями домов».[41]Глава третья СТОЛИЦА МУЗЫКИ
В сердце города. Объединяющая роль музыки. Придворная капелла. «Соловьиная клетка». Атлас знаменитых музыкантов. Великие дни музыки. Вена и ее музыканты
Музыка всегда была для венца чем-то большим, нежели просто развлечение, удовольствие или даже эстетическое наслаждение: она является для него своего рода жизненной необходимостью. Это относится не только к какому-нибудь определенному моменту истории Вены, но верно для всей ее жизни — поскольку каждый город рождается, растет и умирает, как любое живое существо. Индивидуальность Вены настолько пронизана музыкой, пропитана и сформирована ею, что город и его музыканты неразделимо связаны между собой; они понимают друг друга, и если, например, Шуберт и Иоганн Штраус созданы венской атмосферой в самом высоком смысле этого слова и обязаны ей основными чертами своего характера и гения, то в свою очередь и сами они оставили на образе Вены неизгладимый след: невозможно представить себе Вену, не подумав при этом об авторах Незаконченной симфонии и вальса На прекрасном голубом Дунае. Музыка нерасторжимо связана с Веной, потому что она проникает во все классы общества, потому что место для нее есть в каждой семье, потому что она является неотъемлемой частью и домашнего очага, и жизни улицы. Именно поэтому ее воздействие проявляется в непринужденном поведении всех венцев, и этот феномен с таким постоянством проходит через столетия, что его можно по праву считать константой национального темперамента. В истории других городов также были блистательные и плодотворные периоды пышного расцвета музыки, но они были короткими, как всякое цветение. Было также время, когда всей Европе задавала тон неаполитанская опера, и виртуоз, желавший сделать карьеру хотя бы и только в своей стране, должен был непременно ехать в Италию, чтобы заслужить на это право. Во времена Моцарта в Маннгейме был оркестр, не имевший себе равных ни в одной другой стране, и маннгеймский период автора Волшебной флейты был одним из важнейших в расцвете его гения. Дублин во второй половине XVIII века приобрел такую известность и собрал такое множество утонченных меломанов, что там проходили самые блистательные музыкальные премьеры, например, первое исполнение Мессии Генделя. В эпоху романтизма музыкальными центрами были Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, а раньше — также Лейпциг, когда кантором в тамошней Томаскирхе был Иоганн Себастьян Бах. Но, думая об этих городах, мы понимаем, что они всего лишь бывшие музыкальные столицы, как бы ни были хороши их оркестры в период взлета и в наше время.В сердце города
С Веной не произошло ничего подобного: музыка укоренилась в самом сердце города. Она регулирует его пульс, проникает в самые скромные дома и в самые дальние улочки предместий. В принципе то же самое можно сказать почти обо всех городах Германии и Австрии. Нет ни одного германского городка, каким бы крохотным он ни был, где, гуляя вечером после того, как уляжется шум городского движения, вы не услышали бы льющихся из какого-нибудь открытого окна звуков трио Гайдна или квартета Моцарта, а то и септета Бетховена в не слишком точном исполнении собравшихся за одними и теми же пюпитрами родителей и детей, одержимых общей страстью. Речь идет именно о страсти; я прекрасно понимаю, что в венских домах какая-нибудь сведенная до исполнения в четыре руки симфония далеко не всегда звучала безупречно, что, играя иную сонату, фортепьяно и скрипка вдруг выдыхались, силясь не расползтись в разные стороны к концу страницы партитуры; понимаю, что несчастные бродячие музыканты часто уродовали шедевры своими дрянными скрипками, но случалось также — стоит лишь вспомнить прекрасную повесть Грильпарцера Бедный музыкант, — что это были если и не виртуозы в полном смысле слова, то, во всяком случае, вполне приличные скрипачи и хорошие флейтисты, которым не удалось получить место в каком-нибудь оркестре (поскольку как бы много ни было таких оркестров, соискателей вакантных мест было неизмеримо больше), и они, подобно герою Грильпарцера, предпочитали такое существование, полное опасностей, неудобств и неуверенности в завтрашнем дне, городскому комфорту, надежности твердого жалованья, наконец, банальной скуке монотонной, размеренной жизни.[42] Если задаться вопросом о том, какой из многочисленных жанров музыки предпочитали венцы, а жанров этих было много — от жалобных вздохов шарманки до восхитительного совершенства Придворной капеллы, — то надо сказать, что венцы одинаково любили их все. И действительно, оркестр, под который вальсировали сотни пар под люстрами зала Аполлон, освещенного как волшебный дворец, был для венцев столь же необходим, как и трио духовых инструментов в беседках гринцингского ресторанчика, где они потягивали молодое вино. Не менее необходимыми были и большие утренние концерты в Аугартене, и любая партитура, которую пытались освоить родители с детьми, достав из футляров инструменты, едва хозяйка успевала убрать со стола посуду после ужина. Все это было одинаково необходимо, и в этом все дело. В разные часы дня, при разных жизненных обстоятельствах была нужна своя, особая музыка. Был необходим и шагавший впереди блистательных полков военный оркестр в китайских шапках с разноцветными султанами и с позванивавшими колокольчиками, сверкавший украшенными инициалами императора серебряными литаврами, которые несла на себе белая лошадь, гарцевавшая в такт марша, и большой денежный ящик пехотного полка, ехавший за тромбонами и тубами на небольшой повозке, влекомой своенравным прелестным пони, — все это очаровывало и простой народ, и утонченную публику, так как под партитурами военных маршей часто стояли подписи великих музыкантов. Подобно церковной, военная музыка имеет свое назначение; она располагает собственными средствами эмоционального воздействия, как, впрочем, и кабацкая музыка, добавил бы я, если бы не побоялся прослыть неуважительным. Поскольку в Вене XVIII века была только хорошая музыка, венцы никогда не искали удовольствия в вульгарных, грубо чувственных песнях, и объяснялось это той простой причиной, что венскую музыку, идет ли речь о Моцарте, Шуберте, Даннере или Штраусе, никогда не переставал питать народный источник. В ходе всей истории Вены и ее музыки никогда не было проблемы разрыва, который, за редкими исключениями, всегда образуется между народом и тем «утонченным» обществом, которое называет себя элитой. В некоторых странах этот разрыв оказался необратимым, так как музыкальные антрепренеры, призванные поддерживать запросы народа, фактически унижали его и пренебрегали его запросами под тем предлогом, что «массам и так хорошо». В свою очередь элита меломанов замыкалась в своем кругу, ограничиваясь узким кругом приобщенных к искусству, создавая у редких слушателей, получавших доступ на концерты, утешительное ощущение принадлежности к избранным. В Вене ничего подобного не было никогда. Здесь не было места артистическому снобизму, как, впрочем, и снобизму светскому. Да о нем и речи не могло идти в интересующую нас счастливую для города эпоху, когда Вена весело жила под легким скипетром своих императоров; снобизм же создали демократии, а воспользовалась им буржуазия, выставлявшая его вместо недостающих дворянских титулов. Любой князь держится безупречно просто, он доступен всем и любезен со всеми; крупный вельможа отвергает снобизм, воздвигающий произвольные, искусственные стены между различными слоями общества. Совершенно неоспоримо, что именно музыка явилась одним из факторов объединения в однородное целое так называемого «венского народа», и в это целое на равных вошли и члены императорской семьи, и ремесленники из предместий. Девушки-белошвейки и молодые приказчики отправлялись вальсировать во дворец; эрцгерцоги, более или менее инкогнито, садились за столик в ресторанчиках Венского леса, а когда приходило время оплатить счет, им не оставалось ничего другого, как признаться, что у них нет денег, поскольку Их Высочествам, даже не имеющим представления о том, что такое кошелек, не доводилось носить в карманах монеты, — и люди видели в этом подлинную демократию, в основе которой лежали взаимная симпатия и доверие, а вовсе не зависть, ненависть или страх. Наконец, приходится констатировать как единственный в своем роде феномен, что в Вене той поры, в противоположность другим европейским городам, «плохой музыки» вообще не было. Музыка была более или менее утонченной, более или менее сложной, более или менее понятной даже тем, кто не умел ни играть ни на одном инструменте, ни разбираться в партитуре — хотя таких в Вене было немного, — но это всегда была хорошая музыка. Видимо, если музыка популярна и в особенности если ее можно назвать народной, она хороша всегда. Музыка становится плохой тогда, когда ее фабрикуют в вульгарно-претенциозном духе, когда она навязывает народу что-то противоречащее его истинным вкусам. Посмотрите, с какой непосредственностью и гармоничным совершенством сложная и народная музыка соединяются в творчестве таких типично австрийских композиторов, как Моцарт и Шуберт. Они доступны всем, потому что говорят на языке души, а душа-то у всех одна и та же; и если появляются несколько Моцартов, несколько Шубертов, по мере того как слушатель становится в той или иной мере музыкантом, человеком, способным раскрыть для себя и понять мысли гения, знатоки и масса любителей музыки инстинктивно также объединяются и слушают их, ощущая глубокое единство.Объединяющая роль музыки
Нет ничего парадоксального в утверждении, что в эпоху, когда двор все еще жил по правилам самого строгого, удушливого церемониала испанской традиции, в Вене, где простой народ больше чем где бы то ни было добродушен, скромен и приобщен к культуре, но чувствителен к любому посягательству на свою независимость, а в некоторых обстоятельствах и склонен к фрондерству, музыка в еще большей степени, нежели приверженность габсбургской монархии и императорской фамилии, и в гораздо большей степени, нежели верность династическому принципу, служила главным фактором объединения венцев в общественной и политической жизни. Если мы на минуту отвлечемся от занимающей нас середины века и перенесемся в современную эпоху, то вспомним, что открытие Венской Оперы, разрушенной вместе с большей частью этого очаровательного города, непоправимо изуродованного во время войны 1939–1945 годов, стало настоящим национальным праздником, торжественным и счастливым событием, в котором участвовали решительно все, как если бы это был семейный праздник, как если бы Опера была гарантией для всех венцев, а ее восстановление — залогом эры процветания, мира и радости. Я уверен, что вне пределов германских государств такое просто невозможно, за исключением, может быть, Милана с его оперным театром Ла Скала… Улицы были заполнены толпами набожно сосредоточенных, до слез взволнованных людей, истово причащавшихся любви к своему городу и музыке, слушая Фиделио: музыка разливалась из динамиков по ярко освещенным улицам Вены, превратившейся в тот вечер в огромный музыкальный зал. В толпе наверняка были люди, которые ни разу не бывали в Опере и, возможно, никогда туда не пойдут, но и они были твердо уверены в том, что это их Опера, так как это был храм музыки, подобно тому, как собор Св. Стефана — это храм религии; ведь даже те венцы, которые не ходят к обедне, считают собор Св. Стефана, эту древнюю колыбель венского христианства, своим, как если бы они ежедневно ходили туда к заутрене и вечерне. Мы уже говорили о том, каким сложным аспектам венского характера отвечает эта всеобщая страсть к музыке, какие достоинства и недостатки этого города она примиряет. Но главное состоит в следующем: музыка никогда не оказывается дополнением к жизни этого народа, как это часто бывает, например, во Франции или в Англии, несмотря на наличие множества меломанов в этих странах и на замечательную музыку, которую там создают. Когда пожар уничтожал парижскую Оперу — а это случалось несколько раз, — ее возрождение из пепла никогда не приобретало значения незабываемой даты в истории французской столицы, и я не думаю, чтобы, скажем, лондонцы были больше привязаны к своему Ковент-Гардену. В Вене же совсемнаоборот: отсутствие Оперы или способов так или иначе компенсировать ее отсутствие приобретало значение национального траура. Всем, хорошо знавшим австрийцев, не могла не казаться абсурдной мысль о том, что Вена может перестать стоять во главе европейской музыки. И новое подтверждение этого мы видим в том факте, что настоящая революция, обновившая всю современную музыку, серийная музыка и додекафония родились в Вене вместе с Шенбергом, Альбаном Бергом и Веберном.{16}Придворная капелла
В XVIII и XIX веках и вплоть до падения двуединой монархии очагом и вершиной музыкальной культуры венцев была Придворная капелла (Hofmusikkapelle, или оркестр двора), в состав которой входили церковная детская хоровая капелла, симфонический оркестр, музыкальный театр и консерватория. Иначе говоря, она объединяла всех музыкантов, которые играли во время религиозных церемоний в дворцовой церкви и во время торжественных трапез, на праздниках и балах, в оперных спектаклях, а также давали концерты как в частных домах, так и для широкой публики. На обучение принимали одаренных детей, умевших петь, играть на каком-нибудь, а чаще всего на нескольких музыкальных инструментах. Они получали здесь музыкальное образование, играя в концертах с участием виртуозов. Были и «музыкальные школы», славившиеся высоким качеством обучения. Здесь музыкантов, ставших впоследствии очень знаменитыми, таких, например, как Шуберт, учили если не азам музыкального искусства, так как в Придворную капеллу принимали только уже играющих одаренных музыкантов, то, по крайней мере, основным принципам мастерства, развивая у них исполнительскую технику и формируя эстетические взгляды. Придворная капелла была одним из самых прекрасных и наиболее плодотворных свершений династии Габсбургов, известной своей одержимостью меломанией. Ее основание восходит ко временам правления Максимилиана I, утвердившего в 1498 году ее регламент и вверившего управление органисту Георгу Слатконии. С этого момента Придворная капелла приобрела такое большое значение в жизни Вены и двора, что Альбрехт Дюрер изобразил ее в серии гравюр по дереву, представляющей Триумф Максимилиана. Мы видим на великолепно украшенной колеснице хористов, окруживших своих учителей Слатконию и Людвига Зенфля, а на другой — органиста Пауля Хофаймера, сидящего за клавиатурой органа, и его помощника, орудующего мехами. Поэт Вольфганг Шмельцль, преподававший в Шотландском монастыре,{17} в 1548 году сочинил оду в честь Вены, в которой восхваляет Придворную капеллу: «Я воздаю хвалу Вене, единственному из всех городов этой страны, за то, что здесь можно вдоволь слушать певцов и музыкантов, приехавших со всех концов королевства, а часто даже из-за границы. Можно с полной уверенностью сказать, что нигде больше нет такого коллектива музыкантов». Поначалу состав придворного оркестра был немногочисленным, в особенности если сравнить число его музыкантов с тем, все возраставшим количеством инструменталистов и певцов, которых примут в капеллу в будущем Фердинанд III, Леопольд I, Иосиф I и Иосиф II. Задуманная поначалу как детская певческая, одновременно духовная и мирская, эта «капелла» — само слово говорит о ее церковном происхождении — насчитывала сорок семь взрослых певцов и двадцать четыре ребенка. Оркестр ограничивался группой духовых инструментов, плюс шесть труб и один литаврщик. Главную роль, разумеется, играл орган, как и полагалось в период господства голландских органистов, которые тогда задавали тон даже в Вене. Естественный для венцев культ музыки получал новую подпитку с каждым поколением благодаря материальной и моральной поддержке со стороны монархов-меломанов. Уроки игры на одном или нескольких инструментах занимали по нескольку часов в распорядке дня князей, императрицы и даже самого императора. Эти блистательные персоны были не дилетантами и не просто более или менее внимательными любителями; они получали от своих учителей серьезное образование и становились почти профессионалами. Например, Фердинанд I, основной страстью которого была охота, посвящал много времени музыке под руководством итальянца Валентини, которому в 1619 году было поручено руководить Придворной капеллой. Валентини привил императору открытую враждебность к голландскому стилю и живую склонность к итальянской опере. То была эпоха, когда сыновья австрийских императоров женились на итальянских принцессах, говорили по-итальянски и ездили в Италию, чтобы приобщиться к ее культуре. Наследник Фердинанда I, Фердинанд III, сочиняет стихи на итальянском языке и основывает литературную академию по образцу существовавших тогда на Апеннинском полуострове. Брат императора эрцгерцог Леопольд Вильгельм понимал, что не может воздать более высокой хвалы Фердинанду III, нежели написав в своей итальянской поэме в его честь следующие слова: «Его скипетр опирается на лиру и меч». Это соединение материального могущества с духовной силой, представленной музыкой, отлично определяло характерные черты австрийской монархии и оставалось самой прекрасной традицией Хофбурга вплоть до середины XIX века. Однако каковы бы ни были достоинства Фердинанда III как сочинителя религиозных ораторий и опер, далеких от того, чтобы ими можно было пренебречь, и даже отличающихся весьма реальной оригинальностью, ему можно поставить в вину то, что он спровоцировал раскол между музыкой серьезной и музыкой народной уже одними теми мерами, которые принял для защиты музыкантов, проявив враждебное отношение к тем, кого называл «нищими музыкантами», то есть к тем, кто не получил образования в музыкальных школах и не был вышколен суровыми канонами придворной музыки. Леопольда I, при царствовании которого предстояло разыграться войнам против турок, приведшим к осаде Вены, постигла типичная «барочная меланхолия» — меланхолия Гамлета, меланхолия Сигизмунда из Жизнь есть сон,[43] — и он вполне мог бы, подобно персонажу Шекспира, сказать: «Я никогда не чувствую себя счастливым, слушая нежную музыку». Он любил грустную музыку, такой же окраски, как его настроение, что не мешало ему, однако, находить удовольствие в пышности оперы, становившейся все более и более зрелищным театральным действом, и повелеть великому барочному архитектору Бурна-чини построить великолепный большой театр, оборудованный самой хитроумной сценической техникой. Его вкус ко всему грандиозному проявлялся также в расширении финансирования капеллы, которая при нем достигла так и не превзойденной после него численности персонала в сто певцов и двести инструменталистов. В начале XVIII века капелла находилась под почти исключительным влиянием итальянских композиторов и исполнителей; Иосиф I, который взошел на трон в 1706 году, ничего не изменил в положении, установившемся со времен Фердинанда II, когда при дворе возобладала итальянская музыка. Из всей этой династии монархов-музыкантов Иосиф I представляется наиболее всесторонней, наделенной самыми разнообразными талантами личностью. Он очень серьезно занимался математическими науками, учился архитектуре у великого строителя «современной» Вены — Вены после турецкой осады — Фишера фон Эрлаха и работал вместе с ним над составлением проектов Шёнбрунна.{18} Музыка, которую он писал, явно навеяна влиянием Алессандро Скарлатти, господствовавшим в то время во всей Европе, но это было не так уж и плохо. По свидетельству современников, «он превосходно играл на клавесине, ловко управлялся с флейтой и с таким совершенством играл на других инструментах, что профессионалы уже не проявляли к нему снисходительности, и у них было перед ним единственное преимущество — возможность упражняться весь день с утра до вечера, когда это доставляло им удовольствие».[44] И это вовсе не было угодливостью придворных. Даже не имея возможности посвящать целые дни музыке, будучи загружены обязанностями, которые налагали на них власть, тирания этикета и жизнь двора, австрийские монархи ежедневно проводили по нескольку часов за разучиванием арий и партитур, причем вовсе не из тщеславия, а просто из любви к музыке, а также из-за понимания того, что, как бы ни был снисходителен слушатель, музыканту никогда не удается исполнить все одинаково хорошо. Так, Карл VI не пропускал ни одного концерта или оперного спектакля, дававшихся в Хофбурге или в его любимом замке Фаворита, и, как сообщает Апостоло Дзено, ему часто случалось становиться за пюпитр и дирижировать оркестром или садиться за клавесин, что было обычным делом для того времени, к великому восторгу слушателей, восхищавшихся его профессиональным мастерством. Он также аккомпанировал своим дочерям, эрцгерцогиням Марии Терезии и Марии Анне, когда они пели. Прием, оказанный императрицей Марией Терезией и ее двором маленькому Моцарту, когда тот в первый раз приехал в Вену, свидетельствует о том, что интерес к музыке передавался от поколения к поколению и от царствования к царствованию, вплоть до Фердинанда I, который — об этом свидетельствуют его портреты — держал фортепьяно в рабочем кабинете, рядом с письменным столом. Это была одна из самых прекрасных традиций монархии, один из самых благотворных примеров, подававшихся родителями своим детям, и нет ничего удивительного в том, что наряду с природным расположением австрийцев к музыке этот стимул, исходящий от самой вершины власти, придавал музыке исключительное место в занятиях и пристрастиях венцев.«Соловьиная клетка»
Придворная капелла была не единственной консерваторией, где готовили виртуозов или просто хороших музыкантов. Существовало еще одно заведение под названием Городской пансион (Stadtkonvikt), в котором за счет города содержали и обучали множество музыкально одаренных детей. Они получали там всестороннее образование, как в коллеже, но особое внимание уделялось подготовке певцов и музыкантов. Это учреждение, сравнимое с «благотворительными консерваториями», столь многочисленными в Италии XVIII века, и особенно в Неаполе и Венеции, которые в народе называли «соловьиными клетками», ставило своей целью всестороннее бесплатное музыкальное образование детей бедняков, находившихся при этом на полном содержании. Пансион относился к ведению университета; под него было отведено безликое, унылое здание бывшего иезуитского коллежа, упраздненного в пору, когда Иосиф II изгнал из империи этот орден. В летние дни через открытые окна лились такие волны гармонии, что восхищенные прохожие останавливались, чтобы послушать пение и музыку. Эти своеобразные концерты быстро приобрели популярность, и соседи, а также владельцы ближайших лавок даже выносили стулья для удобства слушающих. Ученики пансиона носили униформу, наполовину гражданскую, наполовину военную, отчасти похожую на форму кавалеристов императорского манежа, которому одному разрешалось держать великолепных белых лошадей из Липицких конезаводов. Это был сюртук со сборками на талии, скроенный наподобие нашего фрака и украшенный эполетами, черный, как и жилет, далее — белый галстук, белые штаны до колен, а на голове треуголка, которую некоторые воспитанники кокетливо надевали набекрень, стремясь придать себе воинственный вид. По окончании пансиона дети сразу же получали место в оркестре, что ценилось очень высоко. Пока публичные концерты были еще очень редкими — ведь фактически их начали практиковать лишь при Иосифе II, — каждый слушал только ту музыку, которую играл сам, или ту, которую играл приглашенный за деньги оркестр. Разумеется, имело место своего рода соревнование между спесивыми вельможами, прилагавшими все усилия, соперничая с Хофбургом и между собой в стремлении обзавестись самым большим оркестром или самой лучшей театральной и балетной труппой, которые они держали ради тщеславного эгоистического удовольствия, заставляя артистов служить своим искусством лишь им самим и их гостям. В переписке людей того времени мы читаем о том, что, когда эти важные персоны периодически приезжали в Вену, дабы выполнять свои обязанности при дворе и участвовать в официальных празднествах, они привозили с собой своих музыкантов. Известно, какие конфликты возникали в связи с этим между Моцартом, в отличие от Гайдна не отличавшимся покорностью, и князем-архиепископом Зальцбургским, человеком менее благородным, нежели князь Эстерхази.{19} Многие авторы умалчивают о нередких фактах причисления музыкантов к домашней прислуге, что ставило артистов в унизительное положение. Их покровители не понимали, что это лишает их последнего шанса сохранить стабильное положение, невозможное без регулярной выплаты жалованья и предоставления возможности сочинять, не подвергаясь постоянному риску безденежья. Само по себе то обстоятельство, что музыканты ели за одним столом с прислугой, например, с секретарями, а не с хозяевами, не унижало, поскольку равенство классов еще не стало догмой, провозглашенной Декларацией прав человека, а те, рядом с кем обедали музыканты, несомненно, стоили тех, кто усаживался за стол под искрящимися люстрами господского обеденного зала. Чаще же всего, как из любви к музыке, так и из деликатности и благодаря хорошему воспитанию, благородные покровители старались стереть привычные различия и держали себя на равных с подвластными им артистами, во многом превосходившими своих хозяев. Австрийское дворянство XVIII и первой половины XIX века, известное своими высокими рангами и древностью родов, обессмертило себя именно благодаря общению с артистами. Все эти Лобковицы, Шварценберги, Эстерхази, Лихновские известны нам прежде всего благодаря их общению с Моцартом, Гайдном или Бетховеном, да и память о русском посланнике Разумовском вряд ли сохранилась бы надолго, если бы не была увековечена посвящением этому дипломату знаменитых трио Бетховена. О том, с каким почетом артистов принимали в самых закрытых, самых изысканных аристократических салонах, нам известно по тому, какую роль в жизни Бетховена играли графиня Тун, граф Фрис и графиня Дейн. Именно во дворце графини Дейн автор Фиделио познакомился с той, кому было суждено стать «бессмертной возлюбленной», — с Терезой Брунсвик, а также с графиней Джулией Гвиччарди, которой он посвятил Сонату до минор. Впрочем, биографы композитора расходятся во мнении, к кому относится выражение «бессмертная возлюбленная». Имени Терезы Брунсвик противопоставляются имена ее сестры Джульетты Гвиччарди, другой сестры — Жозефины Брунсвик, певицы Амалии Шальд, Терезы Мальфати и других… Но это уже не имеет значения.Атлас знаменитых музыкантов
Превосходные концерты давались также в салонах «знатных горожан», занимавших со времени правления Марии Терезии и вплоть до прихода к власти Фердинанда I все более и более значительное положение в обществе, сравнимое с положением дворянской знати. Это были прежде всего врачи, становившиеся меценатами, начиная со знаменитого доктора Месмера, открывшего «животный магнетизм», или феномен внушения, и владевшего прекрасными садами под Веной, где однажды чудесным летним вечером оперой Моцарта Бастьен и Бастьенна был открыт зеленый театр. Известных исполнителей и композиторов принимали у себя доктор Генцингер, доктор Франк и в особенности личный врач императрицы ван Свитен, владевший богатейшей библиотекой. Очень хорошую музыку играли в домах друга Моцарта ботаника Жакена, типографа Траттнера, адвоката Зоннлайтнера, чьим постоянным гостем был Шуберт, и в домах издателей, печатавших партитуры композиторов, которые становились не только их гостями, но и клиентами. Такие люди, как Коппи и Артария, своими изданиями сыграли более значительную роль в жизни венской музыки и музыкантов, чем это кажется на первый взгляд. Несмотря на преобразования середины XIX века, на модернизацию города, на прокладку кольцевых магистралей в XX веке, о присутствии знаменитых музыкантов прошлого еще и сегодня напоминают городские кварталы и дома, в которых они когда-то жили. Проходя по улицам старого города или предместий Вены, часто видишь то одно, то другое из таких освященных самой историей мест, где еще живет дух гения. Таковы жилища Гайдна, Моцарта, Вагнера, Листа, Вебера, Шуберта, Бетховена, причем домов, в которых жил последний, особенно много: мрачный нрав композитора, неспокойный характер и постоянная неудовлетворенность, преследовавшая его повсюду, где бы он ни появлялся, толкали его на бесконечные переезды из одного места в другое. Если бы кому-нибудь пришло в голову обозначить на плане города дома, в которых жили известные музыканты, то получился бы своего рода географический атлас музыкальных знаменитостей. Остается лишь удивляться тому, насколько часто они меняли места жительства, отдавая при этом предпочтение пригородам и деревням, где могли воспарять надо всем окружающим и тесно общаться с природой.Великие дни музыки
Составившие славу Вены бесчисленные «великие дни музыки» и премьеры бессмертных шедевров, собственно и делавшие эти дни великими, украшали корону венского искусства жемчужинами этих творений даже несмотря на то, что, как это и бывает в большинстве случаев, композитор слишком опережал время, чтобы снискать единодушные аплодисменты всегда достаточно консервативной публики. Это были такие дни, в которые в музыке свершалось что-то по-настоящему новое, рождались новые средства выражения, открывающие неизведанные пути. Таковы были, например, премьеры опер Спока в Хофбургском театре: Орфея в итальянском оригинале 5 октября 1762 года и Альцесты в 1767 году; премьера Волшебной флейты Моцарта в шиканедеровском Театр-ауф-дер-Виден, который, по описанию современника, представлял собой «длинное прямоугольное здание, походившее на гигантский ящик»; премьера Фиделио 20 ноября 1805 года в Театр-ан-дер-Вин, когда спектаклем дирижировал сам Бетховен, сидя за фортепьяно перед публикой, весьма немногочисленной из-за того, что имперскую столицу заполонили французские труппы; премьера Времен года Гайдна в апреле 1801 года, встреченная такими же теплыми аплодисментами, как и Сотворение мира, сыгранное впервые во дворце Шварценбергов в апреле 1798 года. К великим дням относится и премьера Лоэнгрина в мае 1861 года, ознаменовавшаяся огромным успехом. «Такими непрерывными, восторженными овациями меня встречала только венская публика», — сообщает Рихард Вагнер. Он очень любил Вену. Впервые он приехал сюда, когда ему было всего девятнадцать лет, и сразу же почувствовал себя как дома. «Вена, — писал он, — долгое время представлялась мне совершенно необычным городом, и, несомненно, музыкальные и театральные впечатления, которые я там получил, долго оказывали на меня влияние». В противоположность этому другие музыканты, случалось, чувствовали себя здесь чужаками и неудачниками из-за несовместимости их характера с характером города и его жителей, из-за внутреннего противоречия между природой их искусства и гения, с одной стороны, и музыкальными вкусами венцев — с другой. Это расхождение с очевидностью проявилось во время двух пребываний в Вене Роберта Шумана, не принесших ему ничего, кроме разочарования, горечи и провала с пылкостью взлелеянных планов. Когда он впервые увидел Вену в сентябре 1838 года, ему понравился и сам город, и пейзаж его окрестностей. «Вена и стрела ее собора Св. Стефана, — отмечает он в своем Дневнике, — ее красивые женщины и ее роскошь, Вена, которую обнимает своими изгибами Дунай, которая простирается все дальше, ступенями подбираясь к горам, постепенно становящимся все выше и выше, Вена, вызывающая в памяти образы величайших немецких мастеров, не может не вдохновлять воображение музыканта. Когда я смотрел на город с высоты ближайших холмов, я думал о Бетховене, который, вероятно, часто обращал свой взгляд к далекой линии Альп, о Моцарте, следившем своими мечтательными глазами за тем, как струится Дунай, о Гайдне, запрокинув голову любовавшемся головокружительной высотой стрелы Св. Стефана. Дунай, стрела Св. Стефана и цепь альпийских вершин вдали — вот сокращенный вариант образа Вены. Слушая симфонию Шуберта, я словно снова вижу этот город и понимаю, что в этом обрамлении действительно могут рождаться такие произведения». Шуман был вполне расположен к тому, чтобы сжиться с этим очаровательным городом и обосноваться в нем, но ему не хватало средств к существованию. Он приехал сюда, следуя советам Шамиссо,[45] несмотря на сдержанное неодобрение и предостережения своего друга и советника Веске фон Пюттлингена, более скептически относившегося к приему, который австрийские меломаны могли оказать пылкому романтизму этого саксонца, которого даже соотечественники, в действительности более реальные «романтики», нежели венцы, не всегда понимали и не особенно ценили. И действительно, Шуман быстро разочаровался: «Здесь любят только легкую музыку, старинные ритурнели,{20} музыку для пения и танцев. Серьезная музыка здесь вовсе не ценится». Действительно, как раз в этот период горожанами овладело поветрие вальса, богом которого был Иоганн Штраус, и толпы людей набивались в громадные феерические «танцевальные дворцы», пренебрегая концертными залами и патетической, печальной, волнующей — одним словом, настолько «не-венской» музыкой этого иностранца, что он с каждым днем все больше и больше чувствовал себя здесь чужим. Через несколько лет Шуман снова приехал в Вену с женой Кларой Вик, которая дала там несколько концертов; он по-прежнему надеялся получить место преподавателя консерватории, что обеспечило бы ему постоянное жалованье: это было извечной мечтой всех бедных музыкантов того времени… Но Вена обожала Мейербера, этого пустого, напыщенного, поверхностного композитора, которого Шуман критиковал в своей музыкальной газете. Мейербер был в Вене, его можно было встретить во всех гостиных, и позволительно думать, что он мстил Шуману, понося этого пока еще малоизвестного композитора. Концерты, которые давала Клара, не имели ожидаемого успеха: первый едва покрыл расходы, второй проходил при пустом зале, а на следующих публика была только потому, что в них участвовала певица Женни Линд, прозванная «шведским соловьем». Шуман отказался от попытки укорениться в среде, которая явно не желала его принимать, но она же триумфально принимала Вебера, чья Эврианта с успехом прошла в 1823 году. Восторженно встретила венская публика и Листа, который в 1862 году предоставит прибежище в Вене Брамсу, где тот проживет до самой смерти. Говорили, что вкусы публики изменились в этот период, ознаменованный Венским конгрессом, который довел создававший видимость процветания город до бедности и глубоко изменил нравы. «Высшее общество лезло из кожи вон, стараясь в соответствии с тоном, который задавал Меттерних, поддерживать традиции старой монархии, и считало политически правильным подчеркивать свою приверженность идеологии Священного союза», — пишут Жан Шантавуан и Жан Годфруа-Демомбин.[46] Далекое от сближения с массами, оно создавало пропасть между собой и народом. И лишь в одном меломаны всех сословий действовали в согласии — в наступательном возврате к итальянщине. Оказалось достаточно одного Танкреда Россини, чтобы поколебать все здание венской немецкой музыки. Бауэрнфельд,[47] которого цитирует Эрхардт, отмечает в своем Дневнике следующее суждение, расхожее в венских салонах 1816 года: «Моцарт и Бетховен — старые педанты, они отдают глупостью прошлых времен; только начиная с Россини мы узнали, что такое мелодия. Фиделио — это мусор; непонятно, что заставляет людей идти в театр, чтобы скучать, слушая это произведение». Всегда существовали и всегда будут существовать глупцы, непонятливые люди с претензиями, которые осуждают то, чего не способны понять и полюбить, но с трудом верится, чтобы выродился известный своей тонкостью вкус венцев. Итальянщина, которая царит в 1830-е годы, — это возвращение того, чем вдохновлялась придворная опера до реформы Глюка. Сальери противостоял Моцарту.{21} Шуману предпочитали тех, кого он высокомерно называл «канарейками»; Листом больше восхищались как талантливым пианистом-виртуозом, нежели как автором музыкальных произведений. Преобразования, произошедшие в общественных классах в связи с Наполеоновскими войнами, возникновением буржуазии, развитием промышленности, гегемонией финансистов, мы рассмотрим ниже, но все это вызвало изменения в музыкальных вкусах. Салоны, в которых «музицировали» во время и после Венского конгресса, — это уже не залы княжеских дворцов, а гостиные в особняках буржуазии. Это не значит, что музыка, которую там играли, менее хороша или что тамошняя аудитория обязательно менее компетентна. Банкиры Вюрт и Фелльнер первыми предоставили своим гостям возможность услышать Героическую симфонию Бетховена; музыкальные вечера других финансистов — Перейра, Арнштайнов, Геймюллеров, Геникштайнов — привлекали самых тонких знатоков с самого начала XIX века, и еще больше тридцатью годами позднее. Многих художников, писателей, высокопоставленных чиновников можно было с одинаковым успехом встретить на таких вечерах и у банковского воротилы Вертхаймштайна, и у ориенталиста Хаммер-Пургшталя, в доме Прокеш-Остена или тайного советника Кизенветтера. Фабрикант фортепьяно Конрад Граф, тучный, медлительный, с массивным лицом, неуклюжий с виду, но очень острого ума и тонкого вкуса человек, приглашал самых известных пианистов играть на своих инструментах. То же самое происходило и в домах крупных промышленников, таких, как Шеллер, Хорнбостель, Артхабен, Миллер-Айкхольц, — основателей целых буржуазных династий, в которых из поколения в поколение передавались любовь к музыке и гордость мецената.Вена и ее музыканты
Поэтому было бы несправедливо говорить, будто Вена переродилась и утратила свой ранг столицы музыки; предпочтения публики вполне естественно изменились, но это вовсе не дает оснований считать ее сборищем тупых обывателей. Хотя приход буржуазии и знаменует собой упадок, если не исчезновение, былой аристократической утонченности, но это был общий для всех стран феномен эпохи, неизбежное «скольжение» к демократизации. С другой стороны, хотя и приятно подчеркнуть, и притом с полным основанием, благие результаты меценатства в домах крупных сеньоров XVIII века, при этом необходимо признать, что, несмотря на симпатии этих вельмож по отношению к музыкантам, их щедрость была не всегда достаточной, чтобы уберечь артистов от постоянной тревоги по поводу «денежных вопросов», явно не стоивших того, чтобы они ими занимались. Как бы ни чествовали Бетховена в княжеских гостиных, он никогда не чувствовал себя обеспеченным и умер полунищим. Когда изучаешь жизнь и произведения венских музыкантов — под словом венские я подразумеваю тех, чья карьера состоялась в Вене, даже если они, как, например, Бетховен, родились не здесь, — невольно задаешься вопросом: был ли этот город таким же раем для артистов, каким он являлся для любителей музыки и меломанов? Иными словами, всегда ли Вена заслуживала присутствия гениев, живших в ее стенах? В достаточной ли мере она признавала, поощряла и поддерживала этих гениев? Не была ли эта столица музыки юдолью страдания для многих музыкантов, которые не находили здесь ни понимания, ни симпатии, ни просто человеческой и материальной поддержки, необходимой для того, чтобы они могли творить? Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось бы пересмотреть биографии, определить баланс полученного такими артистами от Вены и отданного ими этому городу, и это послужило бы поводом к утверждению и повторению того, что, как бы ни был велик успех, которым вознаграждают истинного артиста, он всегда отдает неизмеримо больше, чем получает; что зрители, пришедшие на концерт, вспоминая о нем, думают, будто, уплатив за кресло в партере и поаплодировав исполнителям, они полностью оплатили свой долг перед музыкантами, а ведь этот долг заключается прежде всего в признании и благодарности. Оказалась ли Вена достойной Моцарта? Она оставила его чахнуть в стесненных обстоятельствах, исчерпавших все его силы и приведших к безвременной смерти. Просьбы прислать денег, которые композитор постоянно посылал зальцбургским друзьям и своим «братьям-масонам», постоянная, неотступная нужда в деньгах, терзавшая его до последнего смертного часа, катафалк для нищих, отвезший его труп к общей могиле, жалкие уловки, к которым он был вынужден прибегать, чтобы жить, — все это, по-видимому, говорит о том, что Вена не сумела или не пожелала предоставить ему тот минимум средств, который принес бы мир его уму и обеспечил бы спокойствие для работы. И вовсе не легкомыслие и не капризы его жены Констанцы были причиной безденежья — они были не слишком обременительны, — причиной была скаредность семей, плативших ему ничтожную плату за уроки, равнодушие публики, проваливавшей его оперы или довольствовавшейся их полууспехом, плутовство издателей, наживавшихся на несоблюдении его авторских прав, так как он, плохо разбираясь в денежных делах, не оговаривал должным образом необходимые пункты в контрактах. Но кто лучше Моцарта мог вызывать восхищение, благоговение у всех венцев, которые тем не менее предпочли ему Сальери, Мартин-и-Солера и других гораздо менее значительных композиторов? Зато совершенно полной была гармония между городом и композитором в «браке по любви» — Вены и Франца Шуберта, настолько неразделимых, что просто невозможно себе представить, чтобы Шуберт родился и работал не в Вене, а в каком-то другом месте, как немыслима и музыкальная история Вены без Шуберта. В чем причина? В том, что, плоть от плоти города, композитор выразил его душу, природу, характер, его лицо, с непосредственностью и простотой, несущими в себе некую совершенно исключительную свежесть, за которой порой оставался незаметным сам гений, некое состояние доброты, открывающееся только избранным, только «чистым». Всего нескольких тактов Шуберта достаточно для того, чтобы представить себе венский пейзаж, дворик какого-нибудь дома в предместье с его деревянными балконами и вьющимися по стенам растениями, пригородный ресторанчик в саду с беседками, в которых поют певчие птицы, с голубеющим вдали контуром дальних гор и сами эти дали, которые были так дороги романтическому воображению. Олицетворял собой Вену и Иоганн Штраус, но только в одной ее ипостаси: Вену колоссальных танцевальных залов 1820-х годов и одержимости манией вальса, подстегиваемой дьявольскими скрипками венгерских и цыганских музыкантов. Он недолго воплощал собой Вену, так как слишком явно принадлежал своей эпохе, чтобы стать достоянием всех времен, и дистанция между отцом и сыном, Иоганном Штраусом I, сочинителем «танцевальных вальсов», и Иоганном Штраусом II, автором вальсов, написанных для концертного исполнения, говорит о том, насколько второй «король вальса» ближе своего предшественника к сути австрийской души — настолько ближе, что он становится симфоническим композитором. Иоганн Штраус — это танцующая Вена, Шуберт же — это Вена, которая любит и восхищается солнцем, радостная или растроганная, быстро переходящая от равнодушия к волнению и быстро утешающаяся, даже пережив большое горе. Было бы несправедливо умалить значение этого очень крупного музыканта, намного более великого, чем обычно считают, представив его исключительно венским маэстро: как все гении, он принадлежит всему миру, а его характер не менее сложен и противоречив, чем характер любого человека. Его личность видится поверхностной только тому, кому не дано проникнуть в глубины его души и остается довольствоваться общепринятым представлением, вполне устраивающим любителей упрощений. Современники Шуберта и даже его друзья Шобер, Фогль, Майрхофер, Шпаун оставили нам именно такой, упрощенный, я бы даже сказал, упрощающий образ этого музыканта прежде всего потому, что от них ускользнула, возможно, самая главная черта его гения. Пример этого мы видим в том удивлении, почти разочаровании, с которым они впервые слушали Зимний путь, этот цикл его Песен, написанный под воздействием жестокого физического и морального страдания. В этих песнях тот трагический Шуберт, которого часто просто не знают, раскрывает теневые и осененные ночью стороны своего существа. Я не могу допустить мысли о том, что его друзья не знали об этой мрачной грани его характера, как бы он ни старался скрыть ее под маской стыдливой сдержанности. Человек должен быть глухим, чтобы его не потрясли призывы темных сил, которые так часто прорываются в его фортепьянной музыке, в его Песнях, квартетах и симфониях. Может показаться парадоксальным утверждение, что слушатели концертов не знают Шуберта, хотя его музыку играют очень часто, но все дело в том, что играют-то всегда одни и те же вещи. Сколько известно из написанных им шести сотен Песен — я, разумеется, не имею в виду специалистов, — да и те, которые повторяются чаще всего, являются ли самыми важными для глубокого понимания человека? В своей превосходной книге об этом венском композиторе Робер Питру[48] справедливо замечает, что у него, как и у Шумана, обнаруживается тесное сродство с Гофманом Фантастических сказок, в которых чувствуется волнительное очарование ночи. Шуберт вовсе не был одним из тех обворожительных гениев, которые не отдают себе отчета в том, что делают, и творят подобно тому, как поют птицы; банальный образ Шуберта, созданный опошляющей традицией, — это Шуберт, играючи придумывающий очередную песню, напевающий новую мелодию между двумя анекдотами, но такой Шуберт не мог бы ощущать бремя бесконечной тоски и страдания, которое он носил в себе и выражал в своей музыке. Прежде всего, он предчувствовал, что будет жить недолго, и умер в тридцать один год. Ему было двадцать в день, когда он писал в альбом своего друга Хюттенбреннера: «Природа отмерила нам жизненный путь, ограниченный днями существования, но огромный в измерении славы». Бетховен находил в нем «искру Божию». Шуберт хорошо понимал свое призвание и, будучи еще ребенком, говорил: «Я рожден на свет только для того, чтобы сочинять музыку».[49] Подобно Шуману, который его очень любил и называл «своим несравненным Шубертом», этот композитор мог бы написать, что «сочинять музыку значит вступать в царство грез». Но для него, и в этом он также был венцем, не существовало никакого противоречия между миром грез и реальным миром. Кроме радовавших его самых простых развлечений, загородных прогулок, вечеров за столом с несколькими бутылками вина или миской пунша (не для того, чтобы напиться допьяна, а просто чтобы сделать более живой радость дружбы в компании нескольких добрых друзей, веселых, сердечных, открытых, талантливых), этот мужчина невысокого роста, у которого было прозвище «шампиньончик», не желал для себя ничего, разве только любви, которую он всегда встречал слишком робко, будучи неуверенным в себе, всегда влюбленным и всегда нерешительным. Он любил Терезу Гроб, дочь булочника, которому хотелось, чтобы его дело унаследовал более состоятельный зять, нежели этот неимущий и никому не известный музыкант. И он смирился с тем, что ее потеряет, хотя они любили друг друга. Как он рассказывал Хюттенбреннеру, «она три года надеялась на то, что я на ней женюсь, но мне так и не удалось найти службу, которая позволила бы нам удовлетворять наши потребности. Тогда, подчинившись желанию своих родителей, она вышла замуж за другого, и я перенес это очень болезненно. Я ее по-прежнему люблю, и с тех пор ни одна женщина не нравилась мне так, как она, или больше. Надо думать, она не была предназначена мне судьбой». Эти несколько фраз говорят нам о многом: о характере Шуберта, слишком робком, чтобы разбить преграды, отделявшие его от любимой женщины, о том, что Шуберт был слишком захвачен своим гением и считал, что музыка превыше всего и что она стоит того, чтобы пожертвовать ради нее любовью. Здесь мы снова видим подтверждение того, что артисту, который уже приобрел некоторую известность в музыкальных кругах, Вена была не в состоянии обеспечить заработок, позволивший бы ему обзавестись семьей. Подобно Моцарту и Бетховену, Шуберт всегда нуждался в деньгах, и дело не в том, что вкусы музыканта делали его расточительным, просто жизнь артистов, не имевших собственного состояния, всегда была полна неопределенности и трудностей. Навязчивая мысль о необходимости мучительным образом зарабатывать на кусок хлеба до конца дней терзала этих великих артистов. Публика всегда достаточно неблагодарна, в особенности же по отношению к гению, обычно менее доступному, чем посредственность, которой куда охотнее оказывают знаки внимания. Неблагодарной была и венская публика, возможно, бессознательно, просто из беззаботности, а также потому, что чем более легкой была музыка, тем больше она нравилась. Уже Бетховен жаловался на это критику Релльштабу, поэту и автору нескольких текстов, положенных на музыку Шубертом в Лебединой песне: «С тех пор, как здесь укрепились итальянцы, все лучшее опорочено. Знать не хочет видеть ничего, кроме балета, и питает хоть какие-то чувства только к лошадям и танцовщицам». Шуберту было отказано в расположении публики и в деньгах, к чему он, впрочем, и не стремился, зато он наслаждался самыми прекрасными радостями, которые способна приносить дружба. Сам он буквально лучился дружбой, и один из его близких знакомых сказал, что все его друзья были влюблены в Шуберта. Эта любовь была так велика, что в день смерти композитора один из них выбросился из окна, чтобы умереть вместе с ним. Общительный по натуре, как всякий добрый венец, который любит компанию себе подобных и с удовольствием проводит время в кафе, на улице — везде, где собирается толпа, Шуберт боялся одиночества, в котором оставался наедине со своими тревогами, страданиями и ностальгией. Приходя в веселое настроение в компании друзей, он покорял их своим талантом, остроумием, беззлобным подшучиванием, доброжелательностью. Он любил проводить вечера там, где мог встретиться с поэтами, художниками, певцами, актерами, которыми всегда любил себя окружать. Как сказал Дамс, «это была радостная молодежь, которая в этом добром имперском городе предавалась самому безудержному веселью. Бившая через край жизнерадостность помогала им возвышаться над тривиальностями повседневной жизни. И объединяло их не только общее осознание зародившихся, прораставших и вызревавших в них „плодов“; энтузиазм в отношении изящных искусств и естественных наук — вот что, несмотря на различную ориентацию их умов, связывало их сердца самыми крепкими узами». Так, эта молодая венская элита 1820-х годов, возможно, более близкая народу, чем высшие классы, при том, что многие из этих молодых людей принадлежали к аристократии или к крупной буржуазии, мечтала построить прекрасное будущее, в котором будут царить талант и успех. Именно там, в этих чистых пригородных ресторанчиках или в отделанных белой краской с золотом залах столичных кафе, трепетала душа Вены, музыкальная душа, которую так никогда и не извратили полностью заблуждения вкуса, если позволительно так назвать чрезмерное предпочтение всему итальянскому. Уже одно то, что Вена породила Франца Шуберта, навсегда прославило бы ее, даже если она не сумела предоставить ему возможность мирно работать, не заботясь о хлебе насущном. Несомненно, для того, чтобы образ композитора приобрел всю полноту яркости, этому образу необходим ореол безвременной смерти. Ни один другой город не создал бы Шуберту атмосферы, необходимой для его характера, и, хотя гений по определению достаточно независим сам по себе и способен развиваться где угодно — пути Господни неисповедимы, — мы не можем представить себе этого композитора, автора Зимнего пути, в Париже, в Милане, в Лондоне, в Дрездене или в Берлине, хотя эти столицы также с полным правом могут считаться столицами музыки. Шуберту был необходим воздух Вены, как он был необходим Швинду, Штифтеру и Грильпарцеру. «Никакая другая музыка не дышит так этим пейзажем, не отражает с такой силой небо Австрии», — пишет Аннетта Кольб.[50] Это теснейшее единение с природой является ключом к «феномену Шуберта», а феномен Шуберта действительно существует. Благотворна судьба, укореняющая художника именно в той среде, где сможет процветать его гений, благотворна, даже если она обрекает его на страдания. Хотя и не следует слишком распространять тэновскую{22} теорию среды на типичных венских артистов начала XIX века, на «звезд» австрийской живописи, австрийской поэзии, австрийского романа — Швинда, Грильпарцера, Штифтера, Шуберта, — все же невозможно отрицать, что они никогда не стали бы тем, чем стали, тем, чем должны были стать, если бы волею случая им пришлось жить не в Вене, а где-нибудь в другом месте. Художников связывают с городом не только таинственные духовные соответствия, тайное сродство душ и темпераментов, но и некая биологическая гармония. Случается, что некоторые из них, неудовлетворенные, недовольные своей естественной средой или обстоятельствами своего рождения, пускаются в поиски «города своей души», атмосферы, благоприятной для расцвета их творчества, и порой растрачивают все силы, возможно, так и не найдя этого города именно потому, что идеал, который они носят в себе, не имеет эквивалента в реальности, подобно граду Китежу из русских легенд — городу мечты, поднимающемуся из вод, как мираж. Вене был нужен Шуберт, как Шуберту была необходима Вена, и, может быть, ни Вена, ни Шуберт не были бы нам так дороги, если бы не произошло это благодатное совпадение, навсегда связавшее эти два имени, два ума, два сердца.Глава четвертая СТРАСТЬ К ТЕАТРУ
Идеи Шиканедера. Театр литературный и театр народный. Бургтеатр. Реализм на сцене. Нестрой и сатирический театр. Раймунд и поэтический театр
Для Вены стал великим тот день, когда в ней обосновался необыкновенный Эмануэль Шиканедер, обессмертивший себя как автор либретто Волшебной флейты. Изобретательный организаторзрелищ, он очень точно понимал, какой театральный жанр больше всего нравится жителям столицы: смесь музыки с феерией, или мюзик-холл, который и прославит этого постановщика, дебютировавшего в компании бедных бродячих музыкантов. Став богатым и знаменитым, Шиканедер изобразил полный превратностей ранний период своей жизни в оперетте, названной им Веселая нищета. Действительно, достаточно плачевным было положение людей театра во времена, когда не существовало специально построенных и регулярно действовавших театров и компаниям бродячих комедиантов приходилось устраиваться на несколько дней, а то и часов во дворе какой-нибудь гостинички и давать там свои спектакли.Идеи Шиканедера
Бродячие труппы обычно состояли из превосходных артистов; каждый из них должен был обладать многочисленными талантами, поскольку в репертуар входили и драма, и комедия, и опера, и оперетта, и даже фарс, и любой из актеров должен был уметь работать во множестве амплуа. Каждый вечер играли какую-нибудь новую пьесу, и приходилось петь, танцевать, произносить трагические монологи, получать удары палкой, изображая драку. Сам Шиканедер прославился одинаково блестящим исполнением ролей как первых любовников, так и благородных отцов, как трагических героев, так и крестьян в какой-нибудь шутовской постановке. Шиканедер понимал, чего ждет публика, и давал ей это: он по самой своей природе был «человеком театра». Тем, кто упрекал его в использовании легковесных эффектов, рассчитанных главным образом на зрителей галерки, он отвечал: «Моя единственная цель — работать для кассы театра и, понимая, что именно дает наилучший результат, наполнять одновременно и зал, и кассу». Гениальный новатор, Шиканедер, который всегда учитывал непостоянство публики, приходившей на спектакль, чтобы развлечься, изобретал роскошные постановки, создавая иллюзию реальности с помощью сценической техники и включая в спектакли огромные массовки. Работая над постановкой драмы Миллера Граф Уолтрон, он включил в нее передвижения войск и военные состязания, сопровождавшиеся музыкой с военными фанфарами, воспроизводить которые на сцене, хотя они и фигурировали в сюжете, автор вовсе не собирался и, уж конечно, этого не требовал. Шиканедер соединил все это так ловко, что «музыка в некоторые моменты, казалось, слышалась откуда-то издалека, а потом внезапно разражалась громом прямо за занавесом, заставляя зрителей подпрыгивать в креслах от страха и создавая атмосферу ужаса и тревоги, вполне соответствовавшую духу довольно мрачной пьесы Миллера».[51] Все это, однако, не мешало Шиканедеру включать в свой репертуар великие современные романтические драмы, такие, как произведения Лессинга, Шекспира, Шиллера и даже Семирамиду Вольтера. Работая с великими авторами, он, разумеется, сдерживал свою бурную инициативу, проявившуюся, например, при постановке драмы Терринга Агнесса Бернауэр. Актер Веллершенк, игравший роль предателя, настолько вошел в роль и исполнял ее с такой убедительностью, что потом его поносили прохожие на улицах города и даже чуть не убили в какой-то пивной, отождествив с его персонажем Висдомом. Самой эффектной была сцена, в которой Агнессу топили, сбросив с моста в реку. Во время одного из представлений, не в силах видеть, как погибает невиновная, зрители повскакивали с мест с криком: «Спасите ее! Утопите Висдома!» Оценив ситуацию, Шиканедер, всегда готовый к любым уступкам, лишь бы сохранить порядок в театре, вышел на сцену и объявил, что на этот раз, в порядке исключения, чтобы удовлетворить публику, утопят Висдома, а не нежную Агнессу. Довольные зрители разразились аплодисментами и криками «ура». Шиканедер открыл «великую эпоху» венского театра благодаря очень верному инстинкту, позволявшему ему понимать, чего ждет публика. Он ставил на сцене прекрасные литературные произведения: Разбойников, Севильского цирюльника, Короля Лира, Клавиго, Отелло, Гамлета, Минну фон Барнхелъм, Ромео и Джульетту, но аранжировал все так, чтобы постановка была зрелищной, в духе его собственного понимания театрального действа. В драме Иоганна Эвальда Смерть Бальдура он с невероятной изобретательностью вывел на сцену «кавалькаду валькирий», а в Великом Прево показал ошеломленной публике турнир на острове. Постановки на открытом воздухе давали возможность вводить в спектакль целые толпы статистов. Шиканедер поставил Графа Уолтрона с показом кавалерийских атак, лагеря из двухсот палаток и с таким количеством действующих лиц, что их оказалось чуть ли не больше, чем зрителей. Он даже сочинил оперетту под названием Шар, главным героем которой должен был стать аэростат, пилотируемый его изобретателем Лютгендорфом, но, к большому разочарованию театрального кассира, аэростату ни разу не удалось взлететь. Мастерским ходом этого, полного смелых, оригинальных идей «продюсера» было содружество с Моцартом, сочинение вместе с ним Волшебной флейты и постановка ее в фантастических египетских декорациях, которые, несомненно, потрясли зрителей намного больше, чем сама музыка.[52] Шиканедер сам участвовал во Флейте в роли Папагено и создал очень колоритный и одновременно очаровательный образ тупого Антона в пьесе Шакка и Герля. Этот Антон мгновенно приобрел такую популярность, что сверг Касперля,[53] прославившего Маринелли,[54] соперничал с Курцем Бернардоном и изгнал со сцены старинного Гансвурста, столетиями веселившего венцев. Действительно, австрийцы, хотя бы отчасти, узнавали себя в этом комическом персонаже, одновременно плутоватом и простоватом, а возможно, и притворявшемся простаком, чтобы маскировать свои плутни. Это был шут в духе Скапена, испанского клоуна-грациозо, Арлекина и Труффальдино. Родившись, по всей вероятности, на сцене театра марионеток, Гансвурст неизменно фигурировал во всех представлениях, как драматических, так и бурлескных. Он привносил в них дух иронии и крестьянского здравомыслия, что превращало его в критика героя, в «vox populi» — в глас народа. Неотделимый от венской сцены, Гансвурст превратился в реального человека, когда на смену марионеткам в театр пришли артисты во плоти. Бессмертный, как все типажи, глубоко персонифицировавшие душу народа, такие, как фламандский Тиль Уленшпигель, испанский Санчо Панса, Гансвурст за столетия изменился. Изменилось его имя, но будь он Антон или Бернардон, сохранив свой первоначальный характер, он приспособился к духу новых времен, и «человек из Айпельдау», о котором мы уже говорили, также представляется вариантом Гансвурста, перенесенным Йозефом Рихтером на его «деревенщину». Ничто так хорошо не выражает характер народа, как драматические или комические персонажи, являющиеся плодами его коллективного творчества, примеры их — Пульчинелла и Гиньоль, Панч и Джуди, Карагез и Гурвинек.{23} Можно было бы даже отметить заметные различия между немецким Гансвурстом и Гансвурстом австрийским и в особенности венским — der Wienerische Hanswurst, созданным Йозефом Антоном Страницким в своем балагане на Новом Рынке. Он был удостоен чести играть перед императором, несмотря на существовавшее в начале XVIII века четкое разделение между «культурными» театрами, представленными придворным театром, а также частными театрами крупных вельмож — поскольку публичного театра еще не существовало, — и театром народным, демонстрировавшим свои буффонады и мелодрамы на городских площадях и в ярмарочных балаганах.Театр литературный и театр народный
Итак, в развитии венского театра очень четко вырисовываются два течения, которые соединяются у Шиканедера, а затем гармонично смешиваются с приходом Раймунда и Нестроя. Культурное, литературное течение здесь, как и во многих других странах, появляется вместе с постановками в иезуитских коллежах, начиная с XVII века, религиозных пьес или пьес на старинные сюжеты. В XVII веке университетский коллеж располагал театром на три тысячи мест, а в 1667 году Бурначини, великий архитектор и декоратор барочного театра, построил на бастионе замка театр на пять тысяч мест с трехэтажной сценой — очевидное доказательство давнего происхождения страсти к театру, столь заметной у венцев во все времена. В этот же период в соответствии с общей тенденцией Контрреформации в Вене проводятся роскошные и патетические театрализованные процессии, отлично организованные с целью поразить чувства и воображение народа представлениями на религиозные или исторические темы. В репертуаре культурного театра, театра придворного, были только балеты, оперы, оратории, кантаты и испанские комедии. Гастроли английских актерских трупп открыли как Австрии, так и Германии Шекспира и елизаветинцев.{24} Народный театр был более разнообразным, более живым, более близким к тому, что мы сегодня называем театром, нежели придворный театр с его репертуаром. Последний только позднее начал ставить английские пьесы, которые долгое время появлялись только в декорациях марионеточных замков и в ярмарочных театрах. Одной из значительных дат истории венского театра до создания Шиканедером прославленного Театр-ан-дер-Вин стал день, когда в Театре у Каринтийских ворот обосновался Страницкий. Он когда-то учился на медицинском факультете, затем стал продавцом лекарств, и привычка изумлять присутствующих остроумной рекламой своего товара и шутовством навела его на мысль заняться театром. Оказалось, что именно это и было его настоящим призванием. Его театр был первым публичным театром, построенным венским муниципалитетом в 1708 году для развлечения горожан. У городского театра было много преимуществ: он не зависел от двора, его не закрывали по слишком многочисленным случаям официального траура, в его зале рядом сидели знать и народ. Именно на этой сцене всесторонне раскрылся талант Страницкого, выступавшего в роли Гансвурста, а Гансвурст присутствовал буквально во всех пьесах в самых разнообразных обличьях. Он мог быть робким воздыхателем, камергером, воином, соблазнителем, бандитом с большой дороги, дуэлянтом, шпионом, врачом и множеством других персонажей. Гансвурст стал даже доктором Фаустом, как бы удивительно это ни казалось. Раньше Гансвурст допускался только до роли служителя знаменитого волшебника, но с приходом Страницкого он сам стал Фаустом, не переставая при этом быть Гансвурстом, что делало эту смесь ролей и амплуа совершенно парадоксальной.[55]
Вид собора и площади Святого Стефана в Вене. Гравюра 1792 г.

Архиепископ Зальцбурга Иероним Коллоредо

Кристоф Виллибальд Глюк. Портрет работы Ж. Б. Греза

Bольфганг Амадей Моцарт в возрасте примерно 13 лет. Портрет работы Тадеуша Хелблинга

Император Иосиф II (1741–1790)

Вольфганг Амадей Моцарт. 1783 г.

Констанца Моцарт, урожденная Вебер. 1783 г.

Йозеф Ланге. 1808 г.

Вид площади Святого Петра в Вене
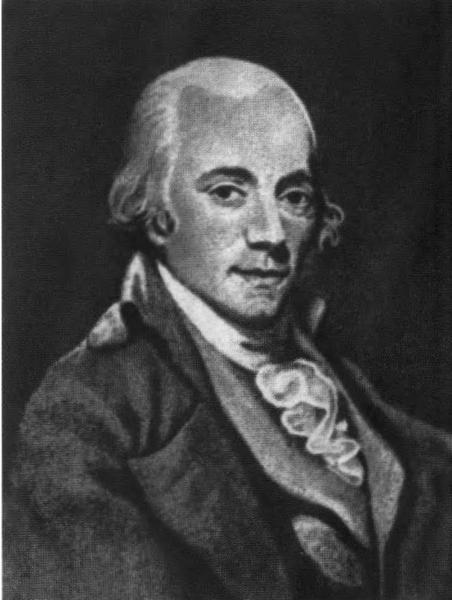
Муцио Клементи (1750–1832)
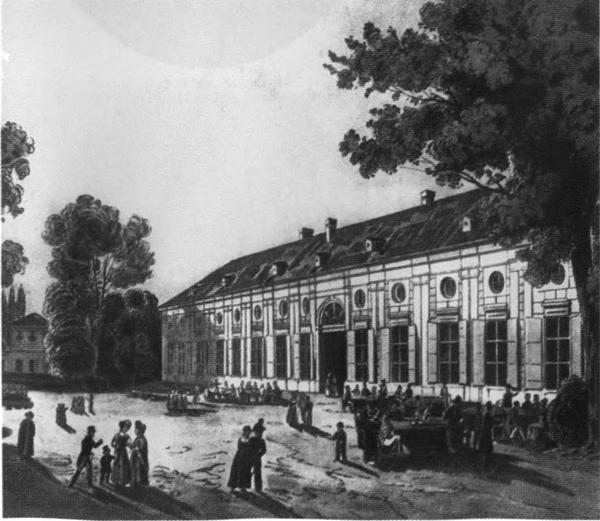
В парке Аугартен в Вене. Около 1820 г.

Входной билет на концерт Моцарта в Вене, в парке Аугартен, весной 1782 года

Вид улицы Грабен в Вене. 1781 г.

Иоганн Непомук Гуммель (1778–1837)

Вид зала «Мельгрубе» в Вене

Программка первого представления оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Май 1786 г.

Вид плошали Святого Михаила в Вене. 1783 г.
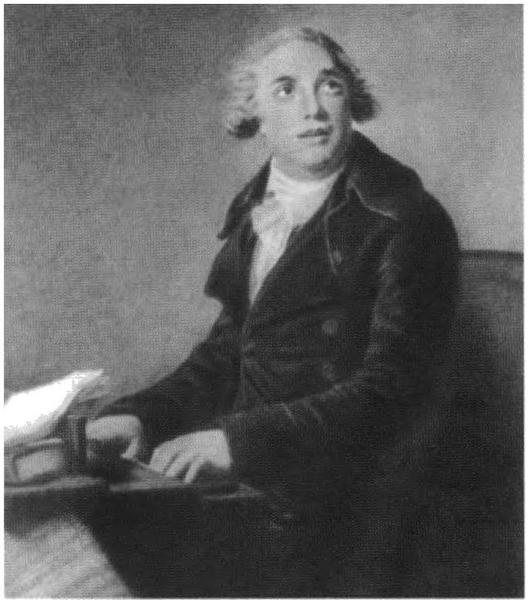
Итальянский композитор Джованни Паизиелло (1741–1816). Портрет работы Элизабет Виже-Лебрен

Йозеф Гайдн (1732–1809)

Вольфганг Моцарт и Йозеф Гайдн

Вид улицы Кольмаркт в Вене. 1786 г.

Дом на Раухенштайнгассе в Вене, в котором умер Моцарт

Барон Готфрид ван Свитен (1734–1803)

Вид предместья Виден в Вене. Около 1790 г.

Император Леопольд II (1747–1792)
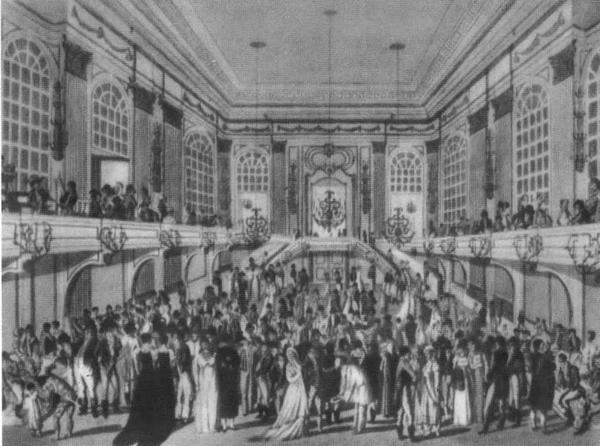
Придворный бал в редутном зале императорского дворца Хофбург в Вене

Коронация императора Леопольда II во Франкфуртском соборе 9 октября 1790 года

Вид Вены от дворца Бельведер. Бернардо Белотто
Иностранцы и венцы толпились у сцены, аплодируя Страницкому в роли Гансвурста. Этот артист имел весьма высокое представление о предназначении театра. Он говорил своим актерам: «Театр — такое же святое место, как алтарь, а репетиция — это ризница». Он был способен на совершенно ошеломительные выдумки, вроде той, например, когда в Амфитрионе шутовски изображал Юпитера падающим с неба через слуховое окно, а затем, превратившись в Амфитриона, — скрывался от кредиторов и устраивал громкие скандалы. Настоящий король театра, Страницкий, подражая королям, при прощании с публикой назначил своего преемника: роль Гансвурста унаследовал Готфрид Прехаузер. Мгновение, когда осыпаемый похвалами актер объявил о том, что покидает театр, было, вероятно, очень волнующим. К счастью, Прехаузеру удалось превратить волнение в веселье, когда он, получив свободу действий, упал на колени и изобразил притворный ужас, умоляя зрителей оказать ему доверие и от всего сердца посмеяться над его шутовскими проделками. Прехаузер был достаточно умен и удачлив, чтобы окружить себя превосходными прославившимися актерами, чьи имена продолжают звучать на праздниках венского театра.[56] Это были супруги Нут, игравшие Арлекина и Коломбину, и универсальный Вайскерн, гуманист и топограф, известный своими картами Австрии и оставивший все это, чтобы играть комических отцов и вторых любовников в труппе Прехаузера. Переживая очередную метаморфозу, бессмертный традиционный Гансвурст преобразился в новый персонаж благодаря гению Йозефа фон Курца, создателя Бернардона. Курц обожал феерию. Предшественник Шиканедера, он переносил зрителей из Греции Орфея и Эндимиона в пески Вавилона. Все его творчество вдохновлялось чудесным, удивительным, приводящим в восхищение, — а это был основной элемент барокко, восходящий к Тысяче и одной ночи, к сказкам о добрых женщинах и к античной мифологии. Курц одинаково хорошо ставил Гольдони и Мольера, комедию дель арте и ярмарочный театр, всегда оставаясь при этом Бернардоном, и публика не уставала смотреть на него и смеяться его остротам.
Бургтеатр
Поскольку в программу реформ «просвещенного самодержца» неизбежно должно было входить создание национального театра, Иосиф II мечтал связать свое имя с этим начинанием, реализация которого мало заботила его предшественников. Мария Терезия не пренебрегала театром, но для нее он был не более чем одним из аксессуаров придворной жизни, а все, что делалось вне двора, не заслуживало в ее представлении права называться театром. Леопольд I, сочиняя оперы и церковные оратории, больше интересовался музыкой, чем зрелищем как таковым, и вряд ли мог отличить драму от комедии. Иосиф II решил повторить опыт организации «Комеди Франсез», актеры которой дали ряд представлений в Вене в 1776 году, а также следовал принципам Лессинга, чья Гамбургская драматургия{25} революционизировала немецкий театр; императору довелось поговорить с автором Натана Мудрого, когда Лессинг приезжал в Вену в 1775 году. Знаменитый и бессмертный Бургтеатр родился именно благодаря тщеславному желанию Иосифа II сделать свой национальный театр политическим инструментом, средством культурного объединения различных народов империи. Такие превосходные организаторы, как Брокман, Шредер и Браун, обеспечили жизнеспособность и успех Бургтеатра, который уже отвечал основным требованиям, предъявлявшимся к современному театру: у него были постоянное помещение, стабильная труппа, регулярные спектакли и репертуарная политика. Йозеф Грегор с полным основанием усматривает в инициативе Иосифа II[57] «театральную политику». Эта политика, чего император, несомненно, не предвидел и не желал, стимулировала среди театров предместий живой дух соревнования и даже конкуренции. Это сыграло важную роль в эволюции театрального вкуса венцев, в результате чего такие скромные народные сцены, как, например, Леопольдштадтский театр, достигли на редкость высокого уровня, выигрывая в соперничестве с чересчур официальным Бургтеатром. Постановка хороших спектаклей при умеренных затратах привела к тому, что посещение театра перестало быть редкой и исключительной роскошью и становилось привычным делом. Основным принципом политики, проводившейся директорами пригородных залов, было обновление репертуара, в котором чередовались литературные пьесы, фарсы и феерии. Таких залов в начале XIX века стало так много, что антрепренеры, соперничавшие между собой в привлечении публики, снижали цены на билеты и стремились завлечь зрителей всеми возможными способами. И не только зрителей из народа: в залах двух главных конкурентов, Шиканедера и Маринелли, театры которых находились один на реке Вене, а другой в Леопольдштадте, присутствовала также образованная публика и аристократия. 9 мая 1808 года Шиканедер осуществил в честь дня рождения императора грандиозную постановку Армиды Глюка, о которой еще долго говорили в Вене. От самых ворот Хофбурга до подъезда театра пылали большие факелы, и по обе стороны дороги были выставлены цепочки солдат. Как сообщает Гезо в своем Историческом дневнике (Historisches Tagebuch, Wien, 1810), тысяча семьсот мест были зарезервированы для высших чиновников, видных горожан и знатных иностранцев. Классические оперы давали с большим вкусом, но, поскольку удовлетворять нужно было всех, представлялись также «аттракционы», чаще просто изумлявшие публику и не имевшие художественной ценности. На устроенный в Театр-ан-дер-Вин концерт механических инструментов, игравших без музыкантов, Маринелли ответил приглашением в Лео-польдштадт ансамбля «камерных виртуозов», превосходно подражавших пению птиц и звучанию всех инструментов. Маринелли поставил также пьесу, героем и ведущим актером которой была собака, — ту самую пьесу, которая стоила Гёте места директора Веймарского театра, когда он отказался вставить ее в репертуар между трагедией Шиллера и драмой Шекспира.[58] Шиканедер тут же предоставил свою сцену «таинственному чуду», несгораемому «испанцу» Никласу Исидору Рогеру. Рогер был австрийцем, но увлечение всем восточным сделало модной Испанию,{26} и он выходил на сцену в ярком костюме тореадора. Как этой саламандре удавалось так надежно уберегаться от огня, пожиравшего любого другого? Он прошел экспертизу врачей и ученых, которые были вынуждены признаться в том, что не могут объяснить этот феномен. Восхищавшийся его трюками Йозеф Прехтль заявляет,[59] что Рогер вызывал удивление у половины Европы, но проникнуть в его тайну так никому и не удалось. Графиня Тюрхейм рассказывает в своих воспоминаниях, как он продемонстрировал свою несгораемость во время пожара в Санкт-Петербурге, устремившись в охваченный огнем дом, чтобы спасти его жителей, и огонь не причинил ему ни малейшего вреда. Рогер был также изобретателем противоядия, способного прекращать действие всех ядов. Он предложил французскому королю купить его, но Его Величество отказался, сказав, что ему не грозит опасность быть отравленным. Наполеон же, напротив, попросил у Рогера это противоядие, и рассказывают, что именно благодаря средству Рогера удалось спасти ему жизнь, когда в Фонтенбло он отравился слишком большой дозой опия.Реализм на сцене
Такое разнообразие без конца сменявшихся спектаклей было лучшим способом сохранить аудиторию, желавшую развлечений и уставшую от чересчур серьезного репертуара. За трагедиями и операми следовали пантомимы, балеты, фарсы, и, даже когда речь шла о таких шедеврах, как Разбойники или Волшебная флейта, зрелищная сторона представления оставалась одной из основных привлекательных сторон театральных спектаклей. Это почти детское свойство венского характера требовало разнообразия, вынуждая директоров театров без конца менять репертуар. Так, например, Театр-ан-дер-Вин, на сцене которого создавалась Волшебная флейта и прошла премьера Фиделио, не считал для себя унизительным постановку пантомимы с кавалерийскими атаками, бурями в горах, кораблекрушениями в море. Шиканедер гордился тем, что открывал публике достойных внимания лиц: поскольку среди венцев по-прежнему было очень популярно имя Моцарта, в Вербное воскресенье 1820 года он организовал «академию», иными словами концерт, сына Вольфганга Амадея, представив его как «Моцарта младшего». Он также поставил на своей сцене дебютное произведение Близнецы юного и, как предсказывала афиша, многообещающего композитора Франца Шуберта. Все средства были хороши, и для того чтобы оживить спектакль, из шенбруннского зверинца без колебаний заимствовали экзотических животных и выводили их на сцену. Пьеса Собака Монтаржи была специально написана дрессировщиком собак, чтобы как можно более выигрышно показать обученное им животное. Каждый раз, когда эпизод какой-нибудь пьесы происходил на Востоке или в особенно популярном в тот период Египте времен фараонов, на сцену выводили верблюдов: эти животные очень нравились венцам. Обряженные в восточные ткани, они вызывали восхищение зрителей в опере Этьена Гулистан. В газетах того времени писали также о дрессированной сороке, на несколько месяцев затмившей всех актеров, настолько публика восхищалась ее сообразительностью. Йозеф фон Зоннлайтнер так отозвался о спектакле с сорокой, который произвел настоящий фурор в столице: «В нем столько зрелищности, что венцы будут очень довольны». Полиции, встревоженной размахом сражений, очаровывавших публику пригородных театров, пришлось вводить специальные ограничения. Как мы говорили выше, Шиканедер привлекал к участию в постановке чуть ли не полки солдат, и во время действия даже стреляли пушки. Кончилось тем, что полиция запретила всякую стрельбу на представлениях. Эта мера наносила тяжелый удар Театр-ан-дер-Вин, и он обратился с просьбой сделать для него исключение, обращая внимание полиции на то, что стрельба из пушек и карабинов ни разу не привела к несчастным случаям, что принимаются все меры предосторожности при демонстрации стычек военных отрядов и что некоторые пьесы просто нельзя будет ставить, если стрельба будет запрещена. Полиция возразила, что стрельба на сцене может серьезно отразиться на здоровье женщин, что она грозит пожаром, потому что в театре много деревянных конструкций и тканей, и что многие видят в ней угрозу жизни актеров; что раньше в театре вполне обходились без стрельбы из пушек, пистолетов или ружей, теперь же это стало главной привлекательностью театрального зрелища; что люди идут в театр только ради этого и что для привлечения публики в билетных кассах даже указывается число выстрелов, которые прозвучат во время представления. Эта небольшая война между театрами и администрацией кончилась победой последней: в 1807 году императорским указом было запрещено использование пороха для стрельбы и фейерверков во всех театральных залах. На открытом воздухе это разрешалось, что, несомненно, и заставило Шиканедера огораживать забором огромные участки, на которых маневрировали целые эскадроны и батареи с размахом, немыслимым для ограниченного помещения Театр-ан-дер-Вин. В 1801 году он реконструировал этот театр, превратив его, по словам Йоганна Пеццля, в «самый большой и самый красивый во всей столице».[60] На его сцене могли совершенно свободно действовать пятьсот человек и пятьдесят лошадей. Тяга к реализму является одной из основных тенденций венского театра, она будет проявляться вплоть до конца XIX века и воплотится в столь сильно волновавших публику творениях Александра Жи-рарди, необычайно талантливо и правдиво воспроизводившего образы городского простонародья, такие характерные типажи, как сапожник Валентин в пьесе Мой Леопольд, навсегда оставшейся в истории европейского театра. Искусство, с которым Жирарди мыл стекла, чинил подметки, доставлял какое-нибудь письмо, вызывало настоящее восхищение, и его стиль с полным правом сравнивали со стилем русских актеров театра Станиславского. Венец любит жизнь; он не считает ее ни банальной, ни монотонной, ни скучной. Для него жизнь — это спектакль по самой своей сути, и он хочет видеть на сцене правду этой жизни, всегда для него новой и захватывающей, все ее стороны, как самые обычные, так и из ряда вон выходящие; он сопереживает, «входит» в спектакль только тогда, когда тот создает иллюзию подлинности. И одновременно ему нравится видеть эту правду жизни окрашенной некой феерией, потому что в его подсознании феерическое далеко не обязательно является нереальным. Одна из причин того, что ему так нравится все сверхъестественное, состоит именно в том, что он не противопоставляет его реальному. Так, исторические драмы Грильпарцера, даже если речь в них идет о таких древних персонажах, как Либуша и Оттокар,[61] трогают его столь же глубоко, как крестьянские комедии Анценгрубера,[62] в которых деревня показывается на сцене театра такой, какова она в действительности. По этой же причине двумя любимцами венской публики в первой половине XIX века были знаменитый драматург и актер Иоганн Нестрой и восхитительный, «уникальный» Фердинанд Раймунд, достойный соперник Гоцци в создании сказочных феерий, фантастичность которых всегда коренится, однако, в жизни венцев. И один из самых лучших способов познакомиться с Веной этого периода — это отправиться в театр, чтобы в пьесах этих двух драматургов, столь непохожих друг на друга, но при этом столь близких друг другу своей глубокой «венскостью», увидеть, чем Вена жила, и услышать, о чем она говорила.Нестрой и сатирический театр
Чтение всех пятнадцати томов полного собрания сочинений Иоганна Нестроя[63] не вызывает никакой усталости. Все у него ново, остроумно, интересно даже нам, много теряющим от того, что мы не в состоянии понять намеков на довольно далекую от нас действительность. Нам также не хватает самого Нестроя потому, что любой драматург-актер пишет роль для человека и при этом для конкретного человека. И если мы не видим больше театра Нестроя — я думаю, что, например, Франция его всегда игнорировала, и это крайне несправедливо, — то читаем его и теперь с удовольствием, настолько все, относящееся вроде бы к другому времени, основывается на общечеловеческом опыте. Стиль Нестроя легок и изящен и отличается изысканным и совершенным владением искусством слова, свойственным только драматургу-актеру. Слово у Нестроя — это всегда слово моралиста, и этот романтик роднится с французами XVIII века, когда пишет: «Блудный сын всегда казался мне достойным презрения, но вовсе не потому, что пас овец, а потому, что вернулся в родительский дом». Нестрой превосходит сатиру, порождаемую действительностью: он преображает ее рукой мастера, приближаясь к великой, вечной философии жизни. Он с разочарованной улыбкой моралиста заявляет: «Я всегда жду худшего от каждого человека, даже от самого себя, и редко в этом ошибаюсь». Он весь в этих словах. Скептик в политике, но уважающий установленный порядок, резонер, но своенравный; сентиментальный, как современник эпохи бидермайера, но излучающий иронию, с которой высмеивает и пародирует романтическое. Этот шутник не открещивается от философских рассуждений после того, как их высмеял, и вставляет между двумя шутливыми куплетами утверждения, поражающие жесткой и суровой силой: «В мире очень мало плохих людей, однако очень много горя, и при этом наибольшая часть несчастий исходит от многочисленных, слишком многочисленных хороших людей, которые по существу являются всего лишь хорошими людьми». Он обожает женщин, рисует их, изысканно наивных и влюбленных, но в конце концов синтезирует их в остающемся и поныне знаменитом описании, наделив «нервами из паутины, сердцем из воска и маленькой железной головой». Этот горький и искушенный сатирик, умевший быть таким веселым и таким колючим по отношению как к самому себе, так и к своим соотечественникам, никогда не был, как бедняга Раймунд, жертвой «маленькой железной головы». Он возвышался над своей эпохой и над своей средой, оставаясь одной из самых представительных фигур венского театра, олицетворяя собой переход от романтизма к реализму. Разнообразием своего характера и талантов Нестрой был обязан своему происхождению. Родившись в польской семье, переехавшей из Богемии в Вену, он стал ярким примером того счастливого «смешения рас», которое представляет собой Австрия. Его отец был адвокатом, мать происходила из крупной венской буржуазии, занимавшейся коммерцией. Родился он 7 декабря 1801 года и был крещен в церкви Св. Михаила, недалеко от Йордангассе, где жили его родители, — в то время это был довольно изысканный квартал. Буржуазная атмосфера, в которой он родился и провел детство, не могла не оставить отпечатка на его характере и таланте, и этот отпечаток сохранился даже после того, как он освободился от своей среды. Он учился в Шотландском коллеже, где получала образование элита венской молодежи, из него вышли такие дипломаты, как Меттерних, и такие художники, как Мориц фон Швинд. Нестроя не привлекала никакая профессия, и уж во всяком случае не актерская, его театральная одаренность раскрылась только после того, как он несколько раз спел на сцене коллежа, а потом и в некоторых салонах, — он был таким же хорошим певцом, как и актером. Он дебютировал в 1822 году в роли Зорастро в Волшебной флейте, поставленной в театре у Каринтских ворот; потом, из-за того, что ему мало платил директор этого театра, он уехал в Голландию, где сыграл пять десятков ролей, включая роль Каспара в Вольном стрелке. С того времени он полностью посвятил себя этому прекрасному и требовательному искусству, увлекшись примечательной для той эпохи карьерой певца-актера. Разнообразие репертуара обязывало одного и того же актера петь, танцевать, а также играть в пантомиме, фарсе и трагедии. От него требовались самые разнообразные таланты, антрепренерам хотелось, чтобы он превзошел всех в буффонаде, чтобы вызывал слезы у зрителей, играя в драме, чтобы безупречно пел большие арии и остроумно обыгрывал куплеты в водевиле. Нестрой обладал многообразными качествами, требовавшимися от венского актера начала XIX века; он декламировал Клейста и Шиллера, пел Моцарта, Мейербера, Россини, Вебера и Обера, продолжая вдохновенно играть у Маринелли в Леопольдштадте традиционного персонажа Касперля, преемника Гансвурста, с духом которого успел сродниться. Вынужденному играть роли в пьесах, написанных другими, Нестрою однажды пришла в голову мысль заняться драматургией, придумывать ситуации, где его воображение развернулось бы наиболее ярко, и создавать роли «под себя», которые точно соответствовали бы его выразительным возможностям и амбициям. Сначала он набивал руку на адаптации иностранных пьес, потом целиком отдался самостоятельному творчеству и поставил свои первые комедии, удивившие Вену, в то время зачарованную Раймундом. Успех пришел не сразу, так как его сатира была слишком злой, слишком прямой, чтобы ее по достоинству оценила публика, не любившая, чтобы ее слишком задевали. Его триумф начался с роли унтер-офицера Санкартье в пьесе под названием Двенадцать девушек в военной форме. Этот образ сразу же стал очень популярен и долго оставался таковым. Карикатура здесь была потрясающе реалистична и, может быть, чересчур жестока, чтобы завоевать симпатии зрителей, слишком утонченных или считавших себя таковыми. Нестрой сделался любимым драматургом публики, но критика еще долго его бойкотировала, строя кислую мину при упоминании о его оглушительных «залпах». В ответ на нападки двух критиков, Сафира и Виста, он отомстил последнему в духе, напоминавшем комедию дель арте, что говорит о свободе, с которой актеры порой обращались со своим текстом. Однажды вечером, когда Нестрой играл роль слуги, получившего поручение принести карты игрокам в вист, он добавил к своей обычной в этом месте реплике фразу, высоко оцененную зрителями, так как война между Нестроем и критикой горячо интересовала публику: «Просто удивительно, что самой умной игре дали имя самого тупого человека в Вене». Эта шутка стоила неосторожному пяти дней тюрьмы, зато он окончательно завоевал сердца венцев. Его успех был одновременно и авторским, и актерским. В 1832 году ему аплодировали как объединившему в себе оба эти качества, за очень забавную пародийную феерию Грызунчик и перчатка, а в следующем году — за бессмертного Лумпацивагабундуса, в котором он с пылом, укреплявшим его славу, играл роль незабываемого сапожника Книрима. Не считаясь ни с чем, он превращал в бурлескные фарсы драмы Шиллера, оперы Вагнера, но это не вызывало неприятия у публики: зрители принимали все, поскольку, как заявила княгиня Меттерних, «Нестрой все делает приемлемым». И вот Раймунд позабыт. Театр-ан-дер-Вин и Леопольдшадтский театр оспаривают друг у друга право ангажировать нашего драматурга-актера, а зрители переполняют то один, то другой театр, когда он играет там свои пьесы. Он пишет их и разучивает свои роли с поразительной быстротой, сочиняет восемьдесят три комедии, ставит их на сцене, играет в них, постоянно подмечая смешное, странности и пороки своих современников, не перестает делать в записных книжках заметки, которые тут же идут в его пьесы или служат основой для создания того или иного знаменитого персонажа: бюрократа Тратшмидля, Гауграфа в пародии на Тангейзера или славную женщину — хозяйку дома, долго не сходившую со сцены и принесшую ему один из самых больших успехов. Как и большинство своих сограждан, он довольно равнодушен к политике. Революция 1848 года лишь послужила ему предлогом для создания нескольких сатирических комедий вроде Свободы в Кревинкеле{27} или Юдифи и Олоферна; совершенно беспристрастный, он равно высмеивает и восставших, и правительство, против которого они выступают. Буржуа по рождению и образованию, этот бунтарь к тому же еще и консервативен. Нестрой отказывается принимать участие в гражданской войне, которая остается для него лишь сюжетом для буффонады. Не все его произведения равноценны по качеству; многие из них представляли лишь сиюминутный интерес и обладают для нас лишь некоторой документальной ценностью, но зато другие остаются вполне актуальными. Однако читая их, не следует забывать, что они были написаны исключительно для театра, в сценическом видении. Нестрой был прежде всего актером, со всеми достоинствами и недостатками, присущими этой профессии, и смотрел на все под углом именно сценического зрения, мало обращая внимание на критику или на письма, написанные теми, кто только читал его пьесы и не видел их в театре. Он так мало заботился об этом, что даже не дал себе труда издать при жизни свои произведения, удовольствовавшись публикацией всего двенадцати из них и оставаясь равнодушным к судьбе, ожидавшей другие пьесы, после того как их перестанут освещать масляные светильники театральной рампы. Нестрой был типичным венцем, какими были более близкие к нам Петер Альтенберг[64] и Артур Шницлер; он стал предвестником знаменитой венской оперетты Штрауса, Легара, Кальмана, Фалля; но прежде всего он был Нестроем, то есть резонером, сомневавшимся в рассудительности, чувствительной душой, не доверявшей чувству, скептиком, требовавшим верить, мягким человеком, которому нравилось смеяться надо всем и в особенности над самим собою. Отто Форст де Баталья, написавший о Нестрое превосходную книгу,[65] судил о нем очень верно. «Нестрой, — пишет он, — немец по своей глубине и многообразию, латинянин по ясности и убедительности, австриец по вкусу и тактичности, по умению выражать свои чувства в нужный момент и в нужном месте». Он остается верным формуле, определяющей «народное» искусство применительно к венскому характеру, но очищает ее от всякой вульгарности и соединяет фантазию и реализм в такой точной пропорции, что переходит от феерии к фарсу через весьма любопытные полутона. Между ним и предшествовавшим ему любимцем венцев актером Раймундом громадное различие в характере, но полное равенство в степени талантливости. Для того, кто хочет написать историю вкусов XIX века, сравнение этих двух драматургов-актеров может оказаться весьма поучительным, как, впрочем, и для историка, занимающегося проблемами социальной и психологической эволюции Вены того времени.Раймунд и поэтический театр
Фердинанд Раймунд умер в 1836 году, когда звезда Нестроя была в зените. Автор Лумпацивагабундуса прожил после этого еще около тридцати лет в полном достатке, радуясь широкой известности, разумеется, не выходившей за пределы Австрии, но ему было достаточно и признательности своих соотечественников. Прощальное представление Нестроя 31 октября I860 года было апофеозом, сопровождавшимся тем, что мы сегодня называем «спектаклем-концертом», в котором актер появляется на сцене в своих самых популярных ролях: Санкартье, сапожника-философа Книрима, Юпитера из Орфея в аду, Гаутрафа из Тангейзера и Виллибальда из Скверных мальчишек. Раймунду же едва исполнилось сорок шесть лет, когда он покончил с собой в припадке депрессии, тоски и отчаяния, вытесненный со сцены своим счастливым соперником и забытый когда-то боготворившей его публикой. «Я ни на что не способен, — говорил смирившийся актер. — Сейчас мне просто смешно смотреть на то, что когда-то всем нравилось. Со мной и с моими пьесами покончено навсегда. Все тщетно». Почему венцы так радикально сменили свое божество? Тут дело не только в театре, а в более обширных и глубоких преобразованиях, происходивших во всех областях жизни. Раймунд — человек романтизма, того романтизма, который начинается с Моцарта; он родился за два года до смерти композитора и принадлежал тому периоду, который можно было бы назвать «старой монархией». К тому же он жил в мире, в котором феерия и реальность смешались настолько, что стали неразделимы. Поэт крылатой фантазии, привитой на древо повседневной жизни, Раймунд не принадлежит ни индустриальной эпохе, ни царству финансовой буржуазии; его персонажи остановились на полдороге между небом и землей, не укоренившись в повседневной реальности, как у Нестроя. В момент, когда публика осознала факт существования антагонизма между классами, когда она предпочла изображение реального обращению к феерии, ее отход от поэта в пользу сатирика стал неумолимой неизбежностью. Именно это произошло в Вене между 1820 и 1835 годами, подобно тому как в предыдущем веке в Венеции реализм Гольдони привел к упадку комедии дель арте и к закату Карло Гоцци, творца прекрасных фантастических театральных сказок. Раймунд довольно близок к Гоцци в выборе сюжетов и в манере их трактовки. Он сохранил свойственный народному духу вкус к сверхъестественному, добавив к народной трактовке оттенки, свойственные барокко и рококо, он опирался на готовность публики восторгаться чудом. В действительности его очаровательное, тонкое, причудливое, фантастичное, но никогда не отрывающееся от реальности видение мира принадлежит венскому романтизму. И одновременно это тот «бидермайерский» романтизм, столь оригинальный, столь любопытный ко всему на свете, столь австрийский в своей основе (скорее даже венский, а не австрийский), столь несравненно доброжелательный, что равного ему не найти нигде. Родившийся в простой семье, вскормленный волшебными сказками в бедном доме венского предместья, Раймунд начал свою жизнь в театре с продажи сладостей в зале во время антракта. Поскольку он прекрасно справлялся с этой скромной ролью, по ходу которой ему даже случалось пользоваться средствами из арсенала комедии, чтобы побудить клиента к покупке, его перевели из зала на сцену, и он стал актером. Его стремление полностью отдаться театру было удовлетворено этим лишь наполовину, потому что он мечтал сам писать комедии. Провидение пришло ему на помощь в тот день, когда он познакомился с неким отчаявшимся автором, которому никак не удавалось дописать до конца начатую комедию. Юный Раймунд помог ему выйти из затруднительного положения, после чего решил, что если он может писать комедии за других, то еще лучше начать писать их для самого себя, и стал сочинять пьесы, в которых сам же и играл. Став, подобно Нестрою, актером-драматургом, он, что совершенно естественно, дал волю своей склонности к феерическому реализму — смешению правды и фантастики. Секретом этого жанра он овладел в совершенстве и очаровывал своими пьесами как простонародье, так и более утонченных зрителей. Очень близкий художнику Морицу фон Швинду,[66] другу Шуберта, в свою очередь достигшемуидеально уравновешенного сочетания своего рода утонченного, лишенного вульгарности натурализма с атмосферой древних легенд, Раймунд удовлетворился предпочтением, которое венцы оказывали сверхъестественному, достаточно неожиданному, чтобы не быть похожим на обыденную жизнь, но при этом не столь уж неправдоподобному. Пьеса Крестьянин-миллионер, остающаяся одним из его самых знаменитых произведений, отражает, пусть даже преувеличенно, характерный венский оптимизм, охотно допускающий, что волшебницы или духи могут, как в сказке, вмешиваться в жизнь, чтобы предостеречь человека от неправильного шага. Портреты, которые Раймунд набрасывает в комедии характеров, например в такой, как Моты, полны правды и доброжелательности. Он лишь слегка касается странностей и смешных сторон своих героев, едва задевая их, даже когда обращается к сатире нравов. Морализаторский театр его не привлекает, и он никогда не поддается соблазну позубоскалить по поводу какой-нибудь неприятной или отрицательной черты героя, как это делает Нестрой. Его нежно-насмешливое добродушие сравнимо с добродушием его земляка и современника Франца Шуберта. Он, вероятно, испытал на себе такое сильное влияние итальянского театра, и в особенности Гоцци, чьи театральные сказки после необыкновенных приключений всегда заканчиваются счастливой развязкой, что его вполне можно было бы назвать венским Гоцци, поскольку атмосфера австрийской столицы была сравнима с венецианской. Зрелищная сторона феерий с обширным использованием сценической техники, сменой декораций и со сверхъестественными персонажами связывает барокко с романтизмом. Можно было подумать, что Бриллиант короля духов, Фабрикант барометров на заколдованном острове, Король гор и Враг людей были написаны для взрослых детей очаровательным, невзыскательным актером с народным складом ума в самом лучшем смысле этого слова. Он страдал от своей популярности, потому что сделавшая его на несколько лет своим идолом венская публика вмешивалась в его личную жизнь. В течение всего XIX и части XX века артистов театра рассматривали как «публичных» персонажей, почти так же, как членов императорской семьи, чьи малейшие шаги становились известны всем, комментировались в газетах, обсуждались за столиками кафе. Раймунд, имевший неосторожность обручиться с женщиной, которую, как он довольно быстро понял, в действительности не любил, пожелал расторгнуть помолвку, и добился бы своего, если бы этим вопросом не занялось общественное мнение, причем с такой страстностью и непримиримостью, что бедняге актеру пришлось довести дело до алтаря, чтобы не обмануть ожиданий публики и не раздражить ее еще сильнее. Когда он наконец расстался со своей несчастной супругой, та же самая публика запретила ему жениться на той, кого он любил, — на Тони Вагнер, чего, впрочем, он и без того не смог бы сделать, так как был добрым католиком. Ему пришлось дорого заплатить за кратковременный успех, поскольку восхождение Нестроя вскоре обрекло несчастного автора Крестьянина-миллионера на упадок, на отчаяние и на самоубийство. Герою пьесы повезло больше, чем воспевшему его поэту, поскольку в финале пьесы он смог жениться на избраннице своего сердца. Мимолетные интрижки, флирт за кулисами и несчастная страсть к Тони никогда не принесут Раймунду того расцвета чувств, который дарит одно лишь счастье. Этот живописатель вознагражденного легкомыслия, облагодетельствованной беззаботности в действительности был меланхоликом; нервная депрессия, во время которой он покончил с собой, увенчала его неспособность преодолеть печали и тяготы жизни. Пока доброму венцу Раймунду удавалось отвергать или отказываться признавать печали и неприятности, весь его вид говорил о полном счастье. Он играл эту роль, которую так же хорошо играли многие жители имперской столицы, вероятно потому, что это было их естественное амплуа — амплуа Равнодушного в стиле Ватто, который выкручивается из затруднений, с улыбкой превращая все в шутку. Именно по этой причине множество достойных людей, не имевших никакого отношения к сцене, влачили свое существование, словно играя комедию и избегая задаваться вопросом о том, что истинно, а что обман, чтобы не нарушить этот сон, не разрушить этот мираж, эту «иллюзию жизни», которую они инстинктивно приняли, чтобы не быть раздавленными или отвергнутыми жизнью. Жизнь в театре, театр в жизни; такой ценой, вероятно, оплачивался покой сердца и ума венца, его равновесие, его, скажем так, счастье. Следовало платить эту цену, соглашаясь не слишком всматриваться в разницу между реальностью и вымыслом. Разве все, что происходит в театре, не является одновременно и истиной, и обманом? Так происходит и в повседневной жизни, и с этим следует мириться, если не хочешь, чтобы она стала невыносимой… Поэтический реализм — иначе говоря, некая разновидность «нереализма» в театре и в жизни — это феерический взрыв, искусственный, но создающий иллюзию для того, кто заведомо хочет поддаться иллюзии, и, вероятно, ни один народ, даже итальянцы и ирландцы, не довел до такой степени совершенства и действенности искусство натурализации своего театра и театрализации своей жизни. «Мы сделаны из той же ткани, что и сны», — говорил Шекспир; нигде это не проявилось так явно, как в Вене в благословенную эпоху романтизма.Глава пятая ЗРЕЛИЩА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Быки, медведи, обезьяны, жирафы, слоны. Зверинцы. Марионетки. Фокусники и автоматы. Музыкальные фантазии. Эскимосы. Фейерверки. Первые железные дороги
Может быть, одной из типичных черт латинского характера, смешивающегося у австрийца с характером германским и с наследием итальянского влияния, является склонность венцев видеть во всех событиях, как исключительных, так и обычных, зрелища, от которых они, не раздумывая, получают одинаковое удовольствие. Нельзя же было проводить всю жизнь в Опере или в драматическом театре; и даже если шуты, дрессировщики собак и кукольники зазывали к себе зрителей посреди улицы, с ними успешно конкурировала уличная суета, которая всегда была для венца неисчерпаемым источником неожиданностей и удовольствий. Венец традиционно такой же любитель фланировать по улицам своего города, как и парижанин. Он прогуливается с широко открытыми глазами, внимательный решительно ко всему, готовый извлечь удовольствие из любого происшествия. Для него повседневная жизнь большого города — это бесконечно разнообразное развлекательное зрелище; просто глупцом сочли бы того, кто не умеет воспользоваться тысячью случаев посмеяться и поудивляться тому, что бросается в глаза в поведении прохожих, в том, как расхваливают свои товары бродячие торговцы, в ссорах кучеров, чей словарь отличается поистине выходящей из ряда вон вульгарной цветастостью. Хорошенькие босые продавщицы цветов в пестрых передниках, девушки, влекущие за собой козу и предлагающие любителям стакан парного молока, позвякивающие бочки водовозов, лотки торговцев безделушками, толкотня на рынках — сколько поводов для продолжения прогулки, с многочисленными, порой долгими остановками при случайных встречах!Быки, медведи, обезьяны, жирафы, слоны
Свойственная венцам страстная любовь к зрелищам, начиная со смены караула у ворот дворца или торжественного приема какого-нибудь иностранного монарха до выставки ученых собак и проделок находчивого фокусника, пристроившегося на перекрестке, превращала их жизнь в своего рода нескончаемый праздник. Ничто не могло отвлечь обитателей «счастливого города» даже от созерцания печальной процессии гонимых на скотобойню быков, воспринимавшейся как некое карнавальное шествие. Особенно ценились зеваками венгерские быки, и каждое появление их в имперской столице становилось поводом для крайнего возбуждения горожан. Власти расклеивали повсюду строгие правила, которые следовало соблюдать при шествии этих животных во избежание опасности для людей и возможных разрушений. Порой возникали неприятности из-за того, что венские мясники, ревниво защищавшие свои привилегии, требовали для себя исключительной монополии, которую конкуренты энергично у них оспаривали, и дело доходило до настоящих сражений на улицах города, но от этого зрелище становилось лишь более привлекательным. Скотопригонный двор находился в Оксенгризе, недалеко от Венгерской улицы, в пригороде, с трех сторон окруженном рекой на левом берегу Вены — именно от этой речки пошло название города. В 1760 году на правом берегу, у Штубенторского моста, построили новый двор для скота. Никто не пропускал волнующей церемонии прибытия венгерских быков. Франц Греффер, оставивший нам живописные описания народной Вены прошлых времен, так высказался об очаровании этого события для венцев: «Это настоящий праздник, и за него не нужно платить ни крейцера». Во избежание несчастных случаев владельцам домов, расположенных на улицах, по которым должны были проходить быки, советовали закрывать двери и закреплять откидные дверцы лавок. Впрочем, это происходило само собой, поскольку и хозяева домов, и владельцы лавок высыпали из своих жилищ и толпились на тротуарах вместе с женами и детьми. «Смотр быков» сопровождался настоящим военным парадом: по обе стороны процессии животных под звуки труб и литавр ехали верхом на лошадях драгуны с саблями наголо; они же открывали и замыкали шествие. Подручные мясников острыми палками подгоняли быков, большие сторожевые собаки кусали их за ноги и яростно лаяли на отстающих животных. Все это, однако, не мешало порой какому-нибудь перепуганному криками быку выбежать из строя, иногда даже опрокинув лошадь вместе с драгуном. Тогда зрелище дополнялось великолепной погоней: сверкали сабли кавалеристов и штыки пехотинцев, устремившихся вслед за черным, громко мычащим, рассвирепевшим от страха быком, который, убегая все дальше от колонны, летел, как на крыльях, навстречу свободе, сметая все на своем пути. Пойманное непокорное животное тут же забивали саблями и штыками, чтобы избежать новых неприятностей, а труп жертвы увозили на повозке. Шествие быков было таким желанным и долгожданным развлечением, что в изданной в 1812 году книге под названием Комическое повествование о венском предместье[67] в описании веселого спора двух друзей о преимуществах городских кварталов, в которых они живут, житель предместья, через которое проходит Венгерская улица, упоминает именно марш быков как наиболее приятную особенность и достоинство своего квартала. Каждый раз при повторении этого, казалось бы, банального события люди в предвкушении развлечения покидали свои прилавки и станки, надевали праздничную одежду и отправлялись смотреть, как гонят на убой животных, с тайной надеждой на то, что этому удовольствию придаст новую остроту какой-нибудь беспорядок или происшествие. Нам как-то трудно поверить, чтобы такая добродушная, милая и добрая публика, как население Вены, могла находить удовольствие в созерцании диких, кровавых сцен, в которые слишком часто превращался проход быков по городу. Однако среди этих добрых, вполне мирных и доброжелательных людей было немало и тех, кто любил смотреть на казни, и то же самое происходило в Лондоне и Париже, где среди любителей подобных зрелищ было достаточно горожан, не слывших ни дикими, ни жестокими. Когда придворные дамы спорили за место, чтобы увидеть четвертование Дамьена,{28} или когда буржуа из Сити платили очень дорого за стул, на который можно было встать, чтобы лучше разглядеть, как повесят человека, укравшего носовой платок, никто особенно не осуждал ни Францию, ни Англию XVIII века. В любой толпе, к какой бы расе она ни принадлежала и каким бы ни был ее родной город, живет звериный, садистский инстинкт, требующий подобных зрелищ. В Вене вплоть до конца XVIII века даже существовал специальный театр, куда люди ходили, как в римские цирки, смотреть на звериные бои между волками, медведями и львами, раздиравшими друг друга на куски к вящему удовольствию черни. Когда этот театр, по счастью, сгорел, император Франц I запретил его восстанавливать, дабы искоренить, как он сказал, «этот жестокий и позорный обычай». Вполне признавая его правоту, народ тем не менее запротестовал и выразил свое недовольство, возможно потому, что речь шла об очень старинном обычае, восходившем к Средневековью, а то и к древней Виндобоне, и народ настолько свыкся с ним, что никто уже не усматривал в нем жестокости.[68] Бои быков, собачьи, петушиные бои, вечера смертоносной американской борьбы «кэтч» — какая страна и какая эпоха могли бы считать себя в этом выше и цивилизованнее венцев XVIII столетия?! А если бы какой-нибудь антрепренер массовых зрелищ, потеряв всякий стыд, решил организовать сегодня бои гладиаторов, разве он не получил бы на этом баснословных доходов? Как бы то ни было, венцы также с удовольствием любовались экзотическими животными в различных зоологических садах Вены. Когда давались представления в зверинцах, отчеты о них печатались в театральных газетах наряду с рецензиями на новые оперы и модные комедии. Зверинцы обычно располагались вдоль Егерцайле, где красовались их афиши, сулившие зевакам златые горы. Какой-то дрессировщик из Аугсбурга привез в 1812 году «школу обезьян-гимнастов», которыми долго и бурно восхищались горожане. В соседнем балагане можно было посмотреть на обезьяну, которая, потанцевав на канате, играла на различных музыкальных инструментах и умела переходить «от престо к пиано и обратно», когда ее об этом просили. Вена также некоторое время восторгалась ученым зайцем, так хорошо обученным преодолевать свойственную ему пугливость, что он не моргая смотрел в дула нацеленных на него пистолетов и ухом не вел, когда их разряжали над ним со страшным грохотом. Самой большой сенсацией из мира редких и удивительных животных стал в 1828 году жираф, подаренный императору вице-королем Египта. С того дня, когда это животное погрузили на борт корабля в Александрии, венские газеты ежедневно осведомляли своих читателей обо всех деталях путешествия. Не обошлось без некоторой тревоги, когда Театер Цайтунг от 3 июля 1828 года опубликовала «бюллетень о состоянии здоровья» в следующих выражениях: «Загребская газета сообщает, что, согласно официальным сообщениям, прибытие жирафа в Фиуме в назначенный день не состоится, так как судно задержано штормом. По получении новых сведений мы немедленно проинформируем наших читателей». Когда жираф наконец комфортабельно обосновался в Шенбруннском зверинце, буржуа и народ спешили им полюбоваться, а ученые стали исследовать вопрос о том, как называлось это животное в Древнем Египте. Если верить доктору Людвигу Фитцингеру, жираф — это библейский «цамер»… В течение нескольких лет все в Вене делалось «а ля жираф»: прически, шарфы… Изображение жирафа фигурировало на табакерках, на перчаточных коробках, на эмалевых гнездах ювелирных колец; завладели им и актеры, которые в то время исполняли обязанности шансонье. Раймунд сочинил на эту тему комедию, а изобретательный владелец крупного бального зала На голубом винограднике организовал «балы жирафа», на которых танцевали новый галоп, названный соответственно «галоп жирафа», с участием не расстававшегося со своим кальяном араба в тюрбане и в туфлях без задника и каблука, сопровождавшего жирафа в пути из Каира в Вену. Он стал очень модной личностью, и его наперебой старались залучить к себе буквально все развлекательные учреждения. В память о «празднике жирафа» владелец Виноградника Перль дарил дамам букеты, в которых помещался сахарный жираф, его можно было либо съесть, либо благоговейно хранить в качестве сувенира, по усмотрению счастливицы. Любовь к редким животным была одной из самых старых и самых свято соблюдавшихся венских традиций. Император Максимилиан устроил в построенном им замке Эбельсдорф огромный птичник для фазанов и сад для диких баранов со скалами, на которые эти животные карабкались, совсем как в нынешних зоопарках. В 1552 году император подарил венцам небывалое, чудесное зрелище — торжественное явление слона. Это событие прославили ученые и поэты, и память о нем была увековечена на многих домах, выбравших слона в качестве символа. Последнее заведение У Слона на Грабене было разрушено в 1865 году, как сообщает нам Фридрих Райхсль в своем бесценном труде Вена времен бидермайера, на который постоянно ссылаются историографы Вены. Одновременно со слоном венцам были представлены «индийские вороны», которые оказались не чем иным, как попугаями, привезенными из Америки испанцами. В какую эпоху начали заселять окружавшие город рвы оленями, быками, не говоря уже о разных видах рыб, а в тщательно изолированных котлованах разводить медведей, тигров и львов? Этот обычай восходит, вероятно, к тем временам, когда владельцы замков, не имея возможности заполнить окружавшие их укрепления рвы водой, размещали там в качестве часовых хищных зверей, которые должны были оповещать солдат о случайном ночном нападении. В составе обслуживающего двор персонала содержались на постоянном жалованье дрессировщики обезьян, учителя, обучавшие попугаев пению и декламации, и даже один «мойщик львов». Порой случались несчастья, когда неосторожные подходили к клеткам зверей слишком близко. В памяти венцев сохранилась трагедия, случившаяся с девушкой, которую прозвали «невестой льва». Это произошло в зверинце Бельведерского замка, принадлежавшего победителю турок принцу Евгению.[69] У человека, обслуживавшего львов, была дочь, которая ежедневно приносила еду своему любимому льву. В день своей свадьбы она вошла в клетку в подвенечном одеянии, с миской в руке. Хищник внезапно набросился на нее и разорвал на части либо потому, что не узнал ее в никогда не виданной им одежде, либо — и этой версии, подсказанной народной сентиментальностью, видимо, отдавали предпочтение — потому, что считал свою юную хранительницу собственной невестой и предпочел скорее убить ее, чем увидеть в объятиях чужого мужчины.Зверинцы
Созданный в 1752 году в Шенбруннском парке зоологический сад был сразу же открыт для жителей Вены, восхищению которых не было предела. Зверинец, приобретенный у некоего итальянца Альби, и дары иностранных монархов превратили этот зоосад в одну из самых значительных достопримечательностей города. По воскресеньям венцы целыми семьями устремлялись к замку с корзинками провизии, устраивали пикники в аллеях и на лужайках и ходили по павильонам, полным удивительных зверей. Автор Писем Айпельдауэра, шутник и остроумец Йозеф Рихтер, в очаровательно иронической манере рассказывающий на венском диалекте о достопримечательностях города, не упускает из виду и этих воскресных экскурсий в императорский зверинец. Он живописует читателю «двух обезьян, которые сидят на палке в окружении других им подобных, созерцающих с раскрытыми ртами эту пару весь день, с утра до вечера», «гигантских птиц [вероятно, страусов], чьи головы на длинных шеях возвышаются над головой моей супруги; на своих босых ногах они горделиво прогуливаются перед зрителями, как знатные дамы в большой аллее парка». В корзинку с едой венцы не забывали положить бутылку вина и большую краюху хлеба для слона, орехи и яблоки для попугаев и обезьян, корм для рыб, птиц и медведей. «Почтенный слон, — рассказывает Шенхольц, — привлекал массу зевак, наполняя Шенбруннский парк людьми, как хороший актер наполняет деньгами кассу театра. Тихий и коварный, настоящий мудрец, этот старик жил в отведенном ему загоне в свое удовольствие». Он был любимцем публики, несмотря на то, что время от времени, задирая хобот, обдавал посетителей клубами пыли или обливал водой. Когда он заболел, венцы вырывали друг у друга из рук печатавшиеся в Винер Цайтунг бюллетени о его здоровье, а день его смерти стал днем национального траура. Любовь к животным, любопытство ко всему редкостному и удивительному, чисто венское желание постоянно веселиться и удивляться неожиданному обогащало владельцев балаганов. Во многих кварталах города ни на день не прекращалась настоящая ярмарка, где акробаты, колдуны, паяцы, поводыри дрессированных животных старались перекричать друг друга, зазывая к себе гуляющих горожан. Чтобы представить себе усилия и изобретательность антрепренеров народных зрелищ, достаточно прочесть некоторые афиши, выставленные у ворот зверинцев по всей длине отведенного под них бульвара, некогда называвшегося Егерцайле, а позднее переименованного в Пратерштрассе. Зверинцам очень повезло, потому что бульвар этот был очень бойким местом — дорогой в парк, в котором венцев ждали очаровательные, приводившие в мечтательное настроение романтические деревья, мрак кустарников, скрывавший от нескромных взглядов флиртующие пары, игра в шары, кабачки, карусели, танцевальные залы, игры на сообразительность… Оглушенные зазывалами зверинцев — каждый расхваливал свой как самый лучший, — сбитые с толку люди просто не знали, куда идти. Предприимчивым хозяевам не оставалось ничего другого, как привлекать зрителей соблазнительными обещаниями, вроде приводимых ниже. Вот, к примеру, объявление, появившееся в одной газете в 1818 году: «На Егерцайле, в первом павильоне слева, возле церкви, можно увидеть много огромных удивительных животных, смешных обезьян и множество красивых попугаев. Этот павильон принадлежит г-же Денебек, вдове знаменитого директора Театра превращений, который стоит здесь уже несколько лет. На сцене этого театра можно увидеть пару лилипутов, мужа и жену, чрезвычайно обаятельных и хорошо одетых, которые играют одновременно с деревянными марионетками и смотрятся рядом с ними очень забавно. Самые замечательные обитатели зверинца — лев, львица, большой королевский тигр, а также привезенный год назад броненосец из Южной Америки. До настоящего времени ни разу не удавалось вырастить броненосца в неволе. Лев отличается удивительной красотой, силой и величием. К сожалению, находясь в одной клетке со своей супругой, он снисходительно позволяет ей трепать ему гриву и вырывать из нее пучки волос. Львица, более дикая, чем он, беспрерывно рычит, он же присоединяется к ее рычанию, только когда проголодается. Общение этих животных между собой вызывает у публики волнение и даже приводит в ужас. Королевский тигр, прежде чем приняться за еду, ходит по клетке с огромным куском мяса в зубах, показывая, что вполне способен его сожрать. Броненосец похож на небольшого носорога». В августе того же года приехавший из Парижа француз Доминик Ферран объявил, что «с разрешения высших властей он представит уважаемой публике большую труппу в составе тридцати четырех обезьян самых разных пород, а также коллекцию редких, удивительных птиц, которые будут показаны одновременно с обезьянами. Владелец предлагает этих животных тем, кто хотел бы их купить. Представление состоится на Егерцайле, рядом с церковью Св. Иоанна, в большом, специально построенном павильоне». Критики зрелищ посвящали статьи зверинцам, поскольку народ получал в них не меньшее удовольствие, чем от театра, и их описания при этом зачастую весьма талантливы. Об этом можно судить, прочитав заметку, напечатанную в Винер Цайтунг за 1829 год: речь идет о зверинце Фердинанда Экзингера, построенном напротив Молодежного кафе. Эта статья позволяет говорить о том, что, отказавшись от банального оформления зверинцев, Экзингер уже прибегал к пейзажным и панорамическим приемам, пример которых подал Гамбург, и с тех пор этому примеру следуют все зоологические сады. В числе подопечных Экзингера было четыре крокодила, много змей — кобр и питонов, гигантский морж и другие животные, такие, как пеликаны, канадские лебеди, антилопы, китайские золотые фазаны. Но хроникер находит особенно достойным похвалы то, что звери эти содержатся не в клетках, а прямо в парках, огороженных высокими решетками, и «посетителю не приходится терпеть неудобства от зловония отбросов, неизбежного при содержании животных в закрытых помещениях». Мы видим здесь, пишет он, «одно из самых очаровательных и самых изобретательных зрелищ, которые только можно себе представить. Перед нами то внезапно возникают зубчатые скалы и замшелые серые камни, то мы переносимся на головокружительной высоты альпийские вершины, откуда с громоподобным шумом срываются лавины. Но этот пейзаж не остается безжизненным: забавными прыжками перед посетителем проносятся быстроногие серны, на лужайках то и дело появляются смешные пугливые зайцы, а в мрачных расселинах гнездятся орлы и грифы. Эта живая картина, с точностью отражающая природу, будет для всех зрителей самым приятным сюрпризом».Марионетки
Театр превращений г-жи Денебек, о котором мы только что говорили, показывал такие диковины, как балет лилипутов с марионетками, которые вместе играли роли и танцевали, и эти «оптические эффекты» очень нравились зрителям в конце XVIII века, вызывая у них бурные эмоции. Романтический вкус к призракам и таинственным явлениям опускался до уровня ярмарочного представления; волшебные фонари проецировали образы привидений, волны воздуха от мрачно подвывавших вентиляторов шевелили задники, вызывая у наивных людей «дрожь перед сверхъестественным»; а через минуту они уже испытывали сладостное наслаждение после пережитого страха, сидя в зеленой беседке кабачка за кружкой пенистого пива или за стаканом молодого вина. Соединение у г-жи Денебек лилипутов с марионетками, очевидно, создавало атмосферу волнующей двусмысленности, вызывало неуверенность, способную превратиться в тревогу, когда живой человек повторяет жесты марионетки, а марионетка в свою очередь настолько ловка, что может создавать иллюзию живого человека; где в таком случае граница между реальностью и иллюзией? Венцы обожали марионеток; их привозили в город из всех провинций империи и из-за границы. Венеция и Сицилия присылали сюда своих самых проворных буратино, Богемия — примитивных деревенских кукол, в репертуаре которых были лишь грубые фарсы да гротескные прыжки. Если Пульчинелла родился в Италии, а Гансвурст в германских провинциях, то Касперле был плодом чешской фантазии. Таким образом, в этой миниатюрной Лиге наций, собравшейся в кукольном замке, вплотную соседствовали разные расы и народы. Театры марионеток были повсюду. Самые примитивные играли свои представления в какой-нибудь крытой фуре бродячих артистов, в которой тут же по окончании действа переезжали на новое место, чтобы снова играть в другом квартале города; такие театры были самыми бедными, но зато их представления были самыми естественными и, вероятно, самыми смешными. В стационарных театрах исполнялись пьесы и оперы с превосходными пением и музыкой. Марионетка соперничала и с певцом, и с актером, порой даже затмевая его, что дало Генриху фон Клейсту повод сочинить свой восхитительный Трактат о Марионетке, несомненно, самый полный и глубокий из всего написанного на эту тему. Одной из самых высоко ценившихся венцами сцен для спектаклей марионеток был Криппен-шпиль (Krippenspiel) г-жи Годль, владелицы отеля «Золотой орел», где и давались представления. Как было гордо сказано в распространявшихся ею проспектах, г-жа Годль неоднократно показывала своих пляшущих и говорящих кукол Их Императорским Высочествам, которым было угодно засвидетельствовать свое удовлетворение и восхищение; впрочем, это, к сожалению, не помешало цензуре при обязательном представлении пьесы для получения разрешения ее играть запретить некоторые из текстов. Всегда очень бдительная полиция боялась любой подрывной пропаганды, а поскольку невинные на первый взгляд марионетки обращались непосредственно к толпе, к народным массам, цензура внимательно следила за тем, какие пьесы играются в этих театрах. Однако Криппеншпиль г-жи Годль вовсе не вдохновлялся подрывными идеями. Пьесы, которые у нее шли, были в основном сказочными. У нее играли, например, Сотворение мира, охватывающее период с момента появления первых звезд на небе и до сотворения Адама и Евы в земном раю, где деревья вырастали за несколько секунд, а кусты в одно мгновение покрывались распустившимися цветами. В спектаклях использовались также совершенно необычайные световые эффекты: бури с молниями и громом, разрушение Содома небесным огнем, каким-то непостижимым образом изливавшимся на сцену. Сцены из Священной истории, которые давали перед Рождеством и во время карнавала, заканчивались разрушением Иерусалима, стены которого рассыпались под пушечными залпами римлян. Но самыми редкостными, изысканными и самыми трудными для исполнения эффектами были перемены декораций в присутствии зрителей, как, например, во «Временах года», когда прямо на глазах у восхищенных зрителей сменяли друг друга распускающиеся цветы, пение кукушек в лесу, праздник урожая, псовая охота, символизировавшая осень, и зимний снегопад, покрывавший слоем снега все живое и неживое под звуки невероятно грустной музыки. Г-жа Годль имела огромный успех, но успех всегда порождает конкуренцию и подражателей; хитрые ловкачи, если верить Айпельдауэру, пустились пародировать чудеса Криппеншпиля и, играя на интересе к новизне, переманили к себе зрителей из театра г-жи Годль. Она оказалась на грани разорения: декорации, куклы, тонкая изобретательная сценическая техника — все было пущено с молотка. Число театров марионеток, которые были когда-то строго запрещены декретом 1770 года, в начале XIX века намного увеличилось, и в 1804 году самым интересным из них был театр Максимилиана Зедельмайера, дававший представления на Хольцплац, в каком-то дворе, который застеклили сверху, чтобы защитить зрителей от непогоды. Людвиг Бек, опубликовавший в 1919 году превосходную книгу о спектаклях марионеток в Вене, описывает этот удачливый театр, на скамьях которого теснились возбужденные школьники; декорации здесь были трехмерными, потому что Зедельмайер больше не довольствовался двухмерными рисованными полотнами. Представления сопровождались музыкой, которую исполнял на клавесине весьма уважаемый музыкант Симон Зехтер. С большой похвалой отзывались также о Криппеншпиле живописца Шонбруннера, который почти ослеп, не мог больше писать картины и, чтобы зарабатывать на жизнь, посвятил себя театру марионеток. Особенно хвалили великолепие его декораций и долго говорили о его совершенно необыкновенной лестнице Иакова, по которой поднимались и спускались ангелы, и о королевском кортеже, сопровождавшем Иосифа и затмившем даже запряженную шестерней карету, составлявшую гордость бедной г-жи Годль. Марионеток любили не только сельчане и непросвещенное городское простонародье, ими восторгались также и знатные сеньоры, в чьих многочисленных дворцах и замках также содержались театры марионеток. Князь Николас Эстерхази не преминул устроить такой театр в своей роскошной резиденции Эстерхаз, построенной им в 1766 году на берегах озера Нойзидлер. Французский путешественник Рисбек, побывавший там в 1784 году, так писал об этой резиденции: «Кроме Версаля, во всей Франции, наверное, нет ни одного места, которое можно было бы сравнить по великолепию с Эстерхазом». Согласно моде того времени, по всему парку были разбросаны гроты отшельников, китайские беседки, лабиринты, «аллеи философов» и храмы Амура. Рассчитанный на четыре сотни зрителей Театр марионеток, расположившийся напротив Оперы и роскошного кафе, куда певцы и музыканты заходили во время антрактов, чтобы утолить жажду, был украшен самым восхитительным образом, а представления, во время которых, судя по всему, звучала музыка Гайдна, капельмейстера князя Эстерхази, несомненно соперничали по изысканности и артистизму не только с народными театрами и Криппеншпилями, но и с самим императорским театром.Фокусники и автоматы
Марионетки, в общем, были невинным зрелищем, но в некоторых случаях могли вызывать у зрителя ощущение страха, беспокойства, даже тревоги, когда вместе с ними перед публикой выступали живые люди, как это было у г-жи Денебек. Эта изобретательная мастерица иллюзии в своем Театре превращений создала также много других граничивших с чудесами постановок, подобных тем, например, которые в эпоху поголовного увлечения сверхъестественным всемирно прославили своим огромным успехом изобретательного бельгийца Эжена Робера. Пребывание в Вене иллюзиониста Робера, который под влиянием уже воцарившейся к тому времени англомании сменил фамилию на Робертсон, увековечено в газетных статьях начала XIX века, отражавших в равной степени восторг и ужас зрителей. Используя хитроумную систему прожекторов и зеркал, Робертсон добивался появления в погруженном в темноту зале со стенами, обитыми черной тканью, самых зловещих привидений. При этом звучала леденящая душу печалью и страхом похоронная музыка, слышались скорбные стоны, а щеки присутствовавших овевало дуновение влажного воздуха. И хотя зрители не чувствовали себя окончательно перенесенными в потусторонний мир, у них возникало ощущение кошмара, полного всевозможных чудовищ. Не знаю, имел ли Робертсон в Вене такой же успех, как в Санкт-Петербурге, где русские, возможно, более суеверные, чем другие европейцы, твердо верили, что этот чародей способен заставить танцевать скелеты и вызывать духи мертвых. Разве не различали они их черты? Разве не слышали их голоса? Разве не чувствовали прикосновений их ледяных пальцев? Более скептические венцы скорее «играли в страх» в павильоне Робертсона, но иллюзия была поставлена так хитроумно, что страх становился порой вполне реальным, и даже приходилось выносить из зала упавших в обморок женщин. Хотя все понимали, что это всего лишь более изысканное, чем другие, ярмарочное представление, тем не менее венцы выходили из задрапированной черной тканью комнаты более бледными, чем когда входили в нее, и им хотелось поскорее усесться за столик в кафе напротив, чтобы прийти в себя, потягивая легкое вино, свежее пиво или кофе с молоком. Волнение зрителей, сравнимое с тем, что они испытывали у Робертсона, вызывали и театры автоматов, где публика чувствовала, что имеет дело с чрезвычайно ловким и искушенным в своем искусстве шарлатаном, но при этом подсознательно не исключала возможности того, что этот шарлатан одновременно еще и колдун, способный управлять сверхъестественными силами. В этом смысле автомат будоражил сознание больше, чем любая другая хитроумная механика: действительно, в таком театре нельзя не задуматься о том, не приближается ли человек в своем спесивом соперничестве с Создателем к овладению присущей одному Богу способностью создавать живые существа. Захватывающая история автоматов, описанная с большим талантом и знанием дела Альфредом Шапюи, со времен античности свидетельствует о не прекращавшихся во все времена попытках человека создать искусственное существо, которое было бы наделено способностью двигаться и говорить и создавало бы полную иллюзию «естественной» жизни. Иллюзия эта порой могла быть весьма убедительной: среди автоматов, которыми герцоги Бурбонские в средние века населили парк своего замка в Эдине, был отшельник, разгуливавший по аллеям, прохожие приветствовали его, уверенные в том, что он живой, а он отвечал им на приветствия и даже разговаривал с ними. Одним из любимых развлечений венцев было посещение кабинетов восковых фигур, вроде французского музея Гревен или заведения г-жи Тюссо в Лондоне. Лучшими из них были в Вене кабинет Дубского в Пратере, разместившийся по соседству и конкурировавший с ним кабинет «Железного человека» и полный чудес «механический театр» Калафатти. В Пратере же находился и павильон Себастьяна фон Шваненфельда, которого в народе звали «Пратерским волшебником»; у двери его заведения с раннего утра толпились в очереди хорошенькие женщины, желавшие проконсультироваться с Турком. Поток этих наивных людей, надеявшихся проникнуть в тайны будущего, узнать о намерениях ветреного любовника или жестокой возлюбленной, был так велик, что хозяину нередко приходилось вызывать полицию для водворения порядка среди взволнованных любителей сверхъестественного. Райхсль оставил нам очаровательное описание этого волшебника, одетого в широкую мантию, расшитую таинственными обезьянами, с тюрбаном на голове и с волшебной палочкой в руке, восседавшего у двери своего загадочного логова, вокруг которого летало множество прирученных щебечущих канареек. До самой своей смерти в 1845 году Себастьян Шваненфельд, чье происхождение, несмотря на благозвучную фамилию, осталось неясным и которого явно жизнь сильно потрепала, прежде чем он открыл волшебную лавочку под развесистыми деревьями Пратера, оставался одним из идолов венского простонародья, высоко ценившего способность его Турка вселять доверие и надежду обездоленным, растерявшимся существам, которым ничего другого и не было нужно. Как функционировал шваненфельдовский Турок? Как ему удавалось давать осмысленные ответы каждому из приходивших к нему на консультацию? Были ли эти наивные люди жертвами обмана или же этот Турок был неким исключительным плодом технического решения в древнем и трудном искусстве конструирования автоматов? Впрочем, у него были опасные соперники — автоматы Мельцеля. Тот изготовил полный комплект оркестра механических музыкантов, выступавший — можно представить себе, с каким успехом, — в Театр-ан-дер-Вин в первые годы XIX столетия. Удачную выдумку директора этого театра затмил, однако, успех его коллеги в Леопольдштадтском театре, дававшего концерты оркестра птиц, которые не только пели своими натуральными голосами, но и могли подражать звучанию всех музыкальных инструментов. Каким чудом все это достигалось? Было ли это результатом дрессировки или же, что еще более удивительно, то были никогда раньше не виданные механические птицы? Секрет тщательно оберегался. Что же касается автоматов, то еще и в наши дни остается сомнение в отношении знаменитого «шахматиста» Мельцеля, о котором никто так и не смог сказать, был ли это немыслимый шедевр механики или же элементарный обман: не был ли в складках одеяния Турка спрятан какой-ни-будь лилипут — под необъятно широкими плащами турков и отшельников вполне можно было спрятать механизмы или соучастников обмана, игравших в шахматы с храбрецами, осмелившимися помериться с ними силами в умении играть. Получившего широкую известность Турка Мельцеля обессмертил Эрнст Теодор Амадей Гофман в своей знаменитой сказке Автомат, написанной в Дрездене в январе 1814 года. Во время одного из своих путешествий Гофман, несомненно, видел знаменитого «шахматиста» и другие впечатлявшие публику творения Мельцеля. Заинтересовавшись этим, как всем фантастическим и сверхъестественным, он выстроил вокруг фигуры Турка некую драматическую историю. Судя по его описанию заведения Мельцеля, можно сделать вывод, что венцы не без тревожного чувства входили в этот кабалистический кабинет, где восседал таинственный представитель Востока. «Говорящий Турок, — пишет он, — был настоящей сенсацией и будоражил весь город. Стар и млад, богачи и бедняки с утра до вечера нескончаемым потоком устремлялись к Мельцелю, чтобы услышать непреложные истины, тихо изрекавшиеся в ответ на их вопросы словно бы окоченевшими устами одновременно мертвого и живого сверхъестественного персонажа. Надо сказать, что все в этом автомате было устроено так, что каждый испытывал неодолимое влечение к нему, хорошо понимая разницу между этим шедевром и обычными игрушками, какие показывают на праздниках и ярмарках». Мельцель начинал с конструирования механических «военных оркестров», от которых все сходили с ума в конце XVIII века и которые можно было услышать почти во всех замках; самый прекрасный и полный из таких оркестров сохранился до наших дней и находится в Шарлоттенбурге. Военные марши играли механические инструменты, скрытые в подобии барочного замка из позолоченного дерева. Как если бы в зале находился настоящий духовой оркестр, звучали трубы, барабаны и литавры, и даже порой стреляла пушка. В одном из таких «оркестров», предков современных ярмарочных шарманок, Мельцель ухитрился использовать до шестнадцати труб. Превосходный музыкант и выдающийся инженер, Мельцель устроил в своем доме для развлечения гостей септет «роботов» — если позволительно воспользоваться современным термином, — которые отлично исполняли свои партии в очень сложных произведениях. Этот удивительный человек хорошо знал хирургию и умел изготовлять искусственные конечности для инвалидов. Искушенный во всех областях знания — в оптике, акустике, механике, — он однажды покорил венцев исполнением Времен года Гайдна в сенсационной декорации, изменявшейся по желанию оператора. Когда речь шла о зиме, валил снег, и зрители видели, как лавины поглощают хижины пастухов, летом лили дожди и гремел гром… Этот одновременно наивный и изощренный аккомпанемент к знаменитому произведению вызвал, что вполне естественно, огромное любопытство, и имя Мельцеля уже не сходило с языка венцев. Однако многие подозревали его в черной магии, особенно после чудес, показанных им в день свадьбы Наполеона и Марии Луизы в 1810 году. Тогда он установил на балконе своего дома поющий автомат, распевавший нежные эпиталамы в честь молодых супругов; но его совершенно необъяснимым шедевром, обеспокоившим полицию и духовенство, было появление в темном окне этого же дома на Кольмаркте самой императорской пары: она периодически возникала в проеме окна, словно действительно находилась в доме волшебника, и приветствовала народ, который, естественно, не скупился на возгласы «виват», после чего пара исчезала так же тихо и торжественно, как и появлялась. Те, кто воочию видел живых императора и императрицу во дворце, были готовы поклясться, что именно они собственной персоной одновременно находились и в окне дома Мельцеля. Среди диковинных замысловатых изобретений этого человека, который взбаламутил всю Вену и которого в иные времена, наверное, сожгли бы на костре вместе с его автоматами, был «секретер, совершенно самостоятельно себя защищающий»; о нем в 1829 году писала Театер Цайтунг. Речь шла об обыкновенном предмете мебели, вроде стола, но устроенном так, что любой, кто бы ни попытался открыть выдвижной ящик, не приведя в действие секретного устройства, был немедленно схвачен железными руками ине мог убежать, а в это время громкий сигнал тревоги, который тогда называли «музыкой янычаров», собирал людей вокруг злоумышленника. Один гессенский краснодеревщик, использовавший это изобретение Мельцеля, добавил к нему жестокое устройство: шесть пистолетов, которые должны были открыть огонь по неудачливому взломщику, если ему не удастся в течение пяти минут освободиться от железных объятий.* * *
У Мельцеля был брат, возможно, еще более необыкновенный, чем он сам; о нем в Вене говорили, что он заключил договор с самим дьяволом. Он эмигрировал в Америку. Как писала Театер Цайтунг в номере от 2 августа 1829 года, сожалея о том, что это чудо не стало достоянием Вены, он показал в Бостоне оркестр из сорока двух автоматов, способный исполнять такие сложные произведения, как увертюры к операм Дон Жуан Моцарта, Весталка Спонтини и Ифигения Глюка, как подчеркивает газета, без единой ошибки… Увлечение венцев механической музыкой казалось невероятным. Требовали, чтобы она звучала повсюду. Люди просыпались у себя в комнате под пение кукушки и хотели, чтобы все этапы распорядка дня отмечались звучанием определенной музыки. Часы с боем каждый час играли какую-нибудь серьезную мелодию, каждые полчаса менуэт, каждые пятнадцать минут гавот. Открывали ли вы шкатулку с рукоделием или коробку конфет, из них тут же лились гармоничные звуки. Из-под крышки табакерки выскакивала певчая колибри, звонко заливаясь песней каждый раз, когда кто-нибудь брал табак. Добавим к этому желание постоянно слышать музыку «в воздухе» — Bring forth your music into the air,[70] — приказывает один из персонажей Шекспира, и вот уже на деревьях и домах появляются эоловы арфы, которые в ответ на малейшее дуновение ветра изливают непредсказуемую мелодию, а грозовой ветер исторгает из них громкие стоны и трагические угрозы, хитроумно рассчитанные на то, чтобы взволновать романтические души. Механические органы, создание которых требовало большого умения, привлекали к себе интерес самых крупных музыкантов. Сам Моцарт не погнушался написать несколько пьес для такого инструмента, в некотором роде предвосхитившего волшебство Мельцеля. Театер Цайтунг в 1830 году рекомендовала венцам — правда, неизвестно, с каким успехом, — кровать с музыкой, только что изобретенную швейцарцем Фирнгаммом. Кровать обеспечивала комфортный послеобеденный отдых и не давала дремать слишком долго. Так одновременно удовлетворялись чувство любви к комфорту и стремление к деятельности. Эта музыкальная кровать функционировала следующим образом: как только к ней прикасались, начинала звучать колыбельная, затем, когда на кровать ложились, начинали под сурдинку играть валторны, приглушенно приглашая вас погрузиться в сон, но ровно через час вдруг раздавалась такая оглушительная музыка, что, как бы крепко вы ни спали, вам оставалось только немедленно бежать с этого дивана, превратившегося в «музыкальный ад», напоминающий чистилище, изображенное некогда Иеронимом Босхом на створках триптиха, находящегося в Эскориале.Музыкальные фантазии
Владельцы кафе и развлекательных заведений завели у себя также «музыкальный бильярд», впервые появившийся в Лондоне у трактирщика Кловиса. Не знаю, довольны ли были этим меломаны, но мне кажется, что игрокам на бильярде он должен был скорее мешать. Судя по описаниям этого странного механизма в венских газетах, на протяжении всей партии звучали приятные, чарующие мелодии, но, когда кто-то из игроков допускал ошибку, аппарат начинал исторгать свист и хохот, высмеивая неловкого бильярдиста. Зато победителя механизм приветствовал звуками труб и литавр. Каких только музыкальных фантазий не наизобретали в этом помешанном на музыке городе, начиная с птичника, снабженного специально настроенными струнами, садясь на которые птицы вызывали звучание импровизированной мелодии, до «звукового обезболивателя» в кабинете дантиста: в момент самой сильной боли это устройство напевало в уши пациенту мелодию: «Дай мне приблизиться к твоим устам, чтобы видеть твои жемчужные зубы!» Можно было бы без конца перечислять самые необычные обстоятельства, в которых механические устройства предлагали одержимым музыкой венцам самые изощренные сюрпризы. Это действительно была одержимость, и Шенхольц[71] сообщает, что стало невозможно ни открыть дверь, ни дотронуться до стола, ни взять в руки какой-либо предмет, ни даже просто посмотреть на часы без того, чтобы какая-нибудь пружина не привела тотчас в действие устройство, изливающее волны гармонии. Шарлатаны и мошенники, которых развелось в этот период, наверное, больше чем когда-либо, ухитрялись использовать всевозможные изобретения в области оптики и акустики, которыми так гордились венцы, в подозрительных целях. Когда миражи и иллюзии уходят из области ярмарочных представлений в обиход тайных обществ, развлекательная сторона отступает, и дело приобретает серьезный оборот. Ни Мельцель, ни Робертсон не претендовали на использование своего могущества для воздействия на сверхъестественные силы. Какими бы фантастичными ни были их достижения, они оставались в принципе объяснимыми и в них не было ничего чудесного, кроме неординарного таланта изобретателя, механика и иллюзиониста. К сожалению, эти чудеса использовались также и по-своему оригинальными авантюристами иного толка, которыми, как представляется, конец XVIII века был более богат, чем любой другой период. Видения и замогильные голоса, в атмосферу которых Калиостро погружал своих оцепеневших гостей, относились, возможно, не столько к черной магии, сколько к мошенничеству, хотя в то время было очень трудно отличить самозванца от «посвященного». Идет ли речь об эпохе Просвещения, которую страстный культ божественного Разума делал уязвимой для всевозможных предрассудков, или о романтизме начала XIX века, изголодавшегося по всему странному, иррациональному и сверхъестественному, приходилось ли иметь дело с настоящими «магами» или с шарлатанами, аксессуары иллюзионистов, изобретавшиеся учеными и инженерами в период, когда стремительно развивалась механическая наука, благоприятствовали самому изощренному обману.* * *
Был в моде также и гипноз, и исследователь гипнотизма Месмер в Вене конца XVIII века представлял собой одну из самых примечательных личностей. Этот гипнотизер принимал в своем замке в окрестностях Вены, в том самом, где премьерой Бастьена и Бастъены Моцарта был открыт зеленый театр. К нему приходили все, кого город считал выдающимися и знаменитыми земляками. Ловкий Месмер практиковал все способы гипноза — от знаменитой «лохани», способной излечивать от всех болезней, до метода, который мы сегодня назвали бы «занимательной физикой», и этим удивлял и тревожил своих гостей. И если к нему спешило все лучшее общество города и придворные, а также иностранные знаменитости, приезжавшие в Австрию, чтобы повидаться с этим прославившимся на всю Европу человеком, то лишь потому, что этот изобретатель «животного магнетизма» умел предстать перед ними, в зависимости от состава аудитории, то с серьезным лицом ученого, то под интригующей маской шута. Месмер понимал, как нужно действовать, имея дело с обществом, одновременно наивным и утонченным, с обществом, за пышностью испанского церемониала которого крылось нечто деревенское, так счастливо сочетавшееся и с непринужденностью, и с этикетом. Версаль был гораздо более чопорным, нежели Шенбрунн, и это было одной из причин того, что королеве Марии Антуанетте было нелегко приспособиться к Франции и французам и склониться перед тиранией мелочности, которая была неведома при дворе ее матери, императрицы Марии Терезии, где столь характерное для Австрии смешение благородства и простодушия, сдержанности и доброжелательности определяло атмосферу, в которой воспитывались дети императорской семьи. Эту атмосферу хорошо передают два анекдота, относящиеся к детству Моцарта. Когда маленький музыкант, которому едва исполнилось шесть лет, был впервые принят в Шенбрунне, он поскользнулся в коридоре и упал. Его подняла одна из эрцгерцогинь, Мария Антуанетта, утешила и усадила к себе на колени. Подойдя потом к ее матери-императрице, Вольфганг указал на Марию пальцем и объявил: «Когда вырасту, я на ней женюсь». В следующем году Моцарт был представлен в Париже г-же де Помпадур. Он стал было карабкаться к ней на колени, но та грубо оттолкнула его. Уязвленный ребенок гордо бросил ей: «Кто вы такая, чтобы отказываться меня обнять? Сама императрица Мария Терезия обнимает меня, когда я к ней прихожу». Разумеется, это чисто детская реакция, но сам факт говорит о многом, и слова ребенка верно отражают как светлые, так и темные стороны австрийского характера. Дружелюбие, выказанное императрицей вундеркинду, возможно, не слишком отличалось от веселого любопытства к дрессированному животному. Во всяком случае, когда спустя несколько лет Леопольд Моцарт, стараясь найти для Вольфганга место при дворе, просил у ее сына, в то время великого герцога Тосканского, покровительства, которое защитило бы и Вольфганга, и его самого от превратностей жизни артистов, это дружелюбие не помешало ей отсоветовать сыну брать Моцартов к себе на службу. Нельзя не заметить, что совершенно исключительный успех Моцарта при дворе и в салонах вельмож во время первого пребывания в Вене в качестве вундеркинда померк именно тогда, когда он перестал быть ребенком, и что после этого вся его жизнь превратилась в сплошную цепь разочарований, несправедливостей и огорчений, потому что «венское легкомыслие» не понимало всей глубины гениальности Моцарта, как пятьдесят лет спустя не поймет гения Шумана.Эскимосы
Овладевшая жителями императорской и королевской (императорской применительно к Австрии и королевской — к Венгрии) столицы одержимость музыкальными устройствами типа только что описанных, а также популярность гипноза лишний раз подтверждают характерную для венцев почти детскую потребность в развлечениях, свойственный им инфантильный поиск удивительного. Можно было бы привести множество примеров этой мании, но ярчайшим из них бесспорно является появление в Бельведере эскимосов. Откуда взялись эти жители полярных областей в изысканно великолепном дворце, построенном в 1713 году Й.-Л. фон Хильдебрандом для принца Евгения Савойского? В 1825 году некий капитан Хэдлок, занимавшийся исследованиями Севера, привез пару эскимосов, чтобы показать своим соотечественникам этих жителей далеких земель, их нравы и манеры. Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы воспроизвести для них обстановку и пейзаж Баффинова залива, который они покинули, поверив обещаниям славы и богатства. Сочли за благо поселить их в Бельведерском парке, на берегу большого пруда, превращавшегося зимой в каток, где они могли чувствовать себя в более или менее привычной обстановке. Потоку любопытных не было конца, и эскимосы стали не менее знаменитой достопримечательностью, чем когда-то жираф. Все хотели увидеть их своими глазами. Бельведерский парк заполняли массы людей, восторженно созерцавших необычное зрелище. Один из очевидцев, Реалис,[72] пишет о своем восхищении играми эскимосов в большом пруду: «После полудня 4 августа можно было видеть одного из этих полярных жителей в национальном костюме плавающим на своем каноэ. Ничего подобного в Вене никогда не видели. Он передвигался по водной глади с невероятной скоростью. Тот, кто видел, как он смело переворачивается вместе с лодкой, погружается в воду и тут же мгновенно возвращается в прежнее положение, уже не удивляется тому, что эти обитатели полярных стран на своих хрупких суденышках не боятся ни штормов, ни айсбергов арктических морей. Он чувствовал себя в каноэ так же уверенно, как моллюск в своей раковине. Он попадал точно в цель копьем, без промаха перестрелял из лука всех пролетавших над прудом гусей и приканчивал их, прокусывая им голову своими зубами». Этот способ добивать раненую дичь просто ошеломил добрых венцев, приходивших по воскресеньям посмотреть на эскимосов. Только и было разговоров, что об этих обитателях полярных морей, остававшихся в течение некоторого времени центральными фигурами в жизни Вены, а газеты наперебой описывали все подробности их поведения и жизни.* * *
В обычное время венцы катались в гондолах по Бельведерскому пруду либо отправлялись вверх или вниз по Дунаю на прогулочных яхтах, и у пассажиров создавалась иллюзия настоящего морского путешествия. Одним из развлечений было катание на лодках по Нойштадтскому каналу, прорытому с чисто практической целью обеспечения быстрого и надежного снабжения столицы. В 1715 году, менее чем через год после открытия, его уже бороздили больше 1500 барж, перевозивших 573906 центнеров различных товаров.[73] Построенные специально для этой цели баржи в случае необходимости могли служить и грузопассажирскими судами; могучие лошади тянули их вдоль берега, и при этом какой-нибудь матрос небрежно подруливал штурвалом. Когда канал замерзал и флот приходилось отводить в затоны, льдом завладевали конькобежцы, а галантные кавалеры, укутанные до самого носа в меха, катали своих красоток на санках. Таковы были обычные развлечения, которые каждый год неизменно приносила зима, но при всей любви венца к зимним забавам он оставался не менее падким и на всякие удивительные вещи; каждое новое событие вызывало у него огромное любопытство.Фейерверки
Большими специалистами по фейерверкам были в Вене отец и сын Штуверы. Венцы обожали фейерверки и постоянно придумывали поводы для удовлетворения этой страсти. Предлогами для хитроумных и ошеломляющих комбинаций огненных цифр, инициалов и аллегорических эмблем были всевозможные праздники, а также дни рождения и другие знаменательные даты членов императорской семьи. Все это в нужный момент вспыхивало и изливалось каскадами огня. Дух и гений барокко видел в фейерверках способ самовыражения, пусть недолговременный, но яркий. Как барочный город, Вена XVIII столетия словно чувствовала себя обязанной придавать фейерверкам совершенно особый размах, и, по счастью, Штуверы были всегда под рукой. Добавим к этому, что даже фейерверк, заказанный по поводу семейного праздника какого-нибудь аристократа, всегда становился всеобщим развлечением, поскольку был виден отовсюду. Чтобы фейерверки могло видеть все население города, Штувер устанавливал свои устройства не только в Пратере, где число зрителей, как бы оно ни было велико, все же оставалось ограниченным, но также на городских бастионах и даже на горе Мариахильфе. По случаю религиозных праздников, например дней св. Анны и св. Терезы, устраивались роскошные фейерверки, созерцанием которых наслаждались все горожане. Один автор начала XIX века заметил, что фейерверки сделали среди его соотечественников широко употребительным слово браво, вернее его новое произношение; восхищенный ракетами и огненными колесами зритель кричал не «браво», а «бравó-о-о», либо запрокинув голову назад, либо продолжая звук «о», пока не угаснет, теряясь в глубоком мраке, пересекающая черное небо траектория очередной ракеты. «Это слово произносят так только в этом единственном случае», — уточняет доморощенный филолог-любитель.[74] Газеты начала XIX века давали объявления о фейерверках и публиковали отчеты о них, совсем как о театральных премьерах. Бойерлес Цайтунг (1832 г.) пользуется сложной и утонченной терминологией, описывая самые впечатляющие «комбинации» и их эффект, в том числе огненную ленту с надписью Нашим дорогим зрителям, которую несли в клювах два голубя, и совершенно удивительный образ знаменитого доктора Фауста, ужинающего под музыку дьяволов. Насколько мне известно, то был единственный раз, когда образ Фауста, так часто фигурирующий в операх, трагедиях, фарсах и опереттах и даже — усилиями Генриха Гейне — в комическом балете, стал сюжетом фейерверка. Бойерлес Цайтунг описывает этот фейерверк как выдающееся художественное полотно: «Было видно, как Фауст опустошает один за другим кубки вина под звуки дьявольской музыки и раскаты грома. Вокруг, вызывая настоящий ужас у зрителей, сновали страшные черные фигуры дьяволов, охваченные красными языками пламени, полученными путем смешения химических порошков». За эпизодом с Фаустом следовала в тот же вечер не менее необычная сцена осады расположенной на острове крепости эскадрой, обстреливавшей ее залпами из пушек. Передвижения раскачиваемых волнами кораблей были воспроизведены с непостижимой естественностью. Таким образом, можно было с полным основанием сказать, что в Вене жил настоящий король фейерверков, правда, этот король далеко не всегда расточал свои щедроты бесплатно. Некоторые празднества предназначались исключительно для платившей публики, и в такие дни подступы к лужайкам Пратера строго охранялись полицией, не допускавшей притока любопытных и оберегавшей от несчастных случаев, если кто-то по неосторожности подошел бы слишком близко к машинам. В 1808 году Гахейс в своем занимательном произведении Путешествия и развлечения[75] описал меры предосторожности, принимавшиеся полицией. «Солдаты верхом на лошадях, — пишет он, — поддерживают порядок и дисциплину в гуще теснящихся повсюду многочисленных экипажей. Аллеи Пратера охраняют стражники, а большая поляна, протянувшаяся вдоль Егерцайле, оцеплена сетью наподобие той, какую используют на охоте; ее патрулируют кавалеристы. Перед специальными входами стоят палатки, где можно приобрести входной билет. Он стоит двадцать четыре крейцера, а при желании получить сидячее место на второй галерее нужно заплатить еще двадцать четыре. Места на первой галерее стоят один флорин и двенадцать крейцеров. Детей до девяти лет с родителями пропускают бесплатно… Ввиду возможной плохой погоды продаются „гарантированные“ билеты на право посещения другого зрелища… С первым разрывом все сидящие в многочисленных пратерских кафе поднимаются из-за столиков и устремляются к месту действия. После разрыва третьей бомбы воцаряется торжественная тишина и начинается представление». Адальберт Штифтер, романист романтической Вены, описывает внимательную, сосредоточенную толпу, собирающуюся при самых первых свистящих залпах фейерверка; в толпе так тесно, что «можно подумать, что перед вами мостовая, вымощенная головами людей», зачарованных медленным, на парашютах, снижением ракет, навстречу которым мощными фонтанами вылетают снопы многоцветных огней, соединяющихся высоко в ночном небе. Штуверы пользовались огромной популярностью и по-настоящему обогатились, продавая в розницу снаряды, которые венцы запускали потом в своих садах. Начиная с XVII века это развлечение оставалось одним из самых предпочтительных удовольствий венцев, и лишь после революции 1848 года, которая разрушила гармонию народной жизни, введя дотоле неведомое чувство классовой ненависти, фейерверки, прежде собиравшие на улицах толпы горожан из простонародья и из знати, из тех, кто жил в роскоши, и из обездоленных, — эти фейерверки устраивались все реже, с каждым разом утрачивали былое великолепие, и если не исчезли окончательно, то теперь организовывались только по исключительным официальным поводам. Штуверы не довольствовались изготовлением фейерверков; они интересовались также развитием науки и в особенности той, которая могла обеспечить какой-нибудь совершенно особенный эффект. Такой наукой была аэронавтика. Подвиг Пилатра де Розье, поднявшегося на воздушном шаре, пробудил у этих мастеров пиротехники дух соревнования. Вена также пожелала иметь свой аэростат, и именно Йоганн Георг Штувер задался целью подарить его городу. Газеты того времени полны восторженных рассказов об этом совершенно необычайном событии. Слух о том, что Штувер собирается построить воздушный корабль, «способный поднять его выше башен церкви Св. Стефана и унести в заоблачное царство», взбудоражил все население города. Стоит прочитать на пожелтевших полосах Винер Цайтунг[76] и Винер Провинц Нахрихтен восторженные статьи, посвященные этому эксперименту: шар из материи «высотой с четырехэтажный дом» с подвешенной к нему деревянной корзиной, где поддерживали огонь, дым от которого заполнял шар и заставлял его подниматься в воздух… Чуткий к чувствам венцев, Штувер устроил перед подъемом фейерверк, насыщенный аллегорическими композициями в честь своего предшественника Монгольфье. Во время демонстрации первого подъема 20 марта 1784 года шар оставался привязанным веревками к якорям на земле, но успех, а также нетерпение публики, недовольной тем, что шар остается на привязи, привели к тому, что Штувер 25 августа решился на новый полет, на этот раз на свободном шаре. Эта затея, к сожалению, провалилась. Был очень сильный ветер, и аэростат рухнул на землю на некотором расстоянии от точки взлета, на другом берегу Дуная. Третья попытка также не имела успеха, и Штувер отказался от воздухоплавания, посвятив себя исключительно пиротехнике. Его последователи в области воздухоплавания, братья Энсслен, довольствовались тем, что развлекали венцев огромными, надутыми газом фигурами комических персонажей из газонепроницаемой пленки. Французу Бланшару, смелому и образованному первопроходцу воздухоплавания, в 1804 году удалось совершить первый достойный такого названия перелет от Пратера до Грос Энцерсдорфа, и в том же году механик-самоучка и фантазер Якоб Деген выставил напоказ громадной толпе свой летающий корабль, в котором, как пишет Райхсль, были объединены принципы воздушного шара и самолета. Если верить писавшим на эту тему авторам,[77] он добился полного успеха.Первые железные дороги
Венцы восприняли факт изобретения железной дороги не более серьезно, чем французы, и вовсе не думали о ее практическом применении. Добрые буржуа имперской столицы видели в ней прежде всего новое развлечение, которое помогало разнообразить аттракционы Пратера, катая по воскресеньям их задыхающиеся от восхищения семейства по обширной территории парка, — что-то вроде миниатюрного поезда в парижском ботаническом саду. И как если бы кому-то пришло в голову развлечь публику и одновременно придать этому новому способу передвижения характер ярмарочного аттракциона, первые попытки реализации этой затеи были сделаны именно в Пратере и вызвали, что нетрудно себе представить, энтузиазм, насмешки, скептицизм, а более всего изумление публики. Одно было несомненно: первый поезд, построенный в Австрии Францем фон Герстнером в подражание долго и прилежно изучавшимся им английским поездам, и впрямь начал ходить, и притом так быстро, что, по мнению некоторых известных докторов, скорость его движения представляла серьезную опасность для здоровья пассажиров. Это было в 1823 году. По замыслу Герстнера и венских властей, оказавших ему поддержку, железная дорога должна была поначалу соединить между собой две судоходные реки, Влтаву и Дунай, по которым шли огромные потоки грузов. Были построены несколько линий: в 1829 году — от Линца до Будвайса, вскоре после этого — от Линца до Шундена, а в 1838 году к большому удовольствию венцев открылась линия Флоритсдорф — Ваграм. Проезд туда и обратно занимал не больше часа, вагоны были комфортабельными, и, если верить современным газетам, «недостатков не было ни в чем: ни в элегантности, ни в удобстве». Дым и угольная крошка, вылетавшие из трубы паровоза, вынуждали пассажиров ехать с закрытыми окнами, что, впрочем, не мешало любоваться пейзажем, а во время остановок можно было перекусить и что-нибудь выпить в буфетах, немедленно открытых сообразительными рестораторами во всех новых вокзалах. Для любителей статистики отметим, что за первые шесть месяцев эксплуатации линия Флорисдорф — Ваграм перевезла 176 тысяч пассажиров, из которых очень немногие ехали по делам, большинство же, то есть практически почти все, отправлялись в путь просто из любопытства, привлеченные новизной, взрывом петарды, служившим сигналом к отправлению поезда, возможностью участвовать в порой случавшихся происшествиях — бывало, что локомотив под управлением одержимого скоростью машиниста сходил с рельсов, — и не было венца, который не жаждал бы повода воспользоваться этим изобретением, которое уже проклинали почтовики и кучера дилижансов. Действительно, с появлением железной дороги многие почувствовали угрозу своим интересам. И если буржуа наслаждались поездкой в подпрыгивающих на стыках рельсов мягких вагонах, то более информированные люди, главным образом при дворе, прямо заявляли, что железные дороги не имеют будущего. Побывав на венском вокзале, эрцгерцог Людвиг заметил, что все слишком преувеличенно: «Вокзал очень мил, но слишком велик для Вены».[78] Что же до остряков, то те веселились от души, и самым большим удовольствием для них было убеждать рассаживавшихся по вагонам пассажиров в том, что все предусмотрено для их полной безопасности, что наготове врачи и хирурги и что на станциях даже дежурят священники во всеоружии для соборования возможных жертв ужасной железной машины. Рядом с Пратером, добавляли они, строится громадная больница для пострадавших при крушениях, а железнодорожная компания в заботах о благе своих клиентов решила брать плату за проезд по прибытии к месту назначения, а не перед отправлением поезда, и, таким образом, погибшие не понесут бесполезных расходов. Что же касается тех, кто не лишится жизни во время поездки, то с них якобы будет взиматься плата, пропорциональная количеству оставшихся неповрежденными частей тела. В духе присущей венцам язвительности с притворной серьезностью сообщалось, что, проявляя особое внимание к пассажирам, власти вверили управление дорогой известному английскому механику, тому самому, который в день открытия Бирмингемской железной дороги стал причиной смерти министра торговли. Таковы были стрелы, выпущенные по первой железной дороге, по ее строителю и по финансировавшим строительство Ротшильдам, которые, однако, были не из тех, кто бездумно вкладывает деньги в проигрышные предприятия. И как бы их ни высмеивали, предшествуемые своими супругами венские буржуа в цилиндрах, с зонтами, в сопровождении дочерей и сыновей охотно отправлялись на «слишком большой» венский вокзал, чтобы купить билет для волнительной поездки, во время которой они чувствовали себя отважными путешественниками и смелыми новаторами.Глава шестая ВЕНА В ПЕРИОД ВОЙНЫ
Национальный траур. Наполеон в Вене. Французская оккупация. Возвращение французов. Жертвоприношение
Венцы испытывали настоящий ужас перед Французской революцией не только потому, что их любимая эрцгерцогиня Мария Антуанетта, дочь Марии Терезии, к своему несчастью ставшая королевой Франции, оказалась под непосредственной угрозой после событий 1789 года, но в особенности потому, что они питали отвращение к любому грубому свержению власти, ко всякому беспорядку, который мог иметь тяжелые последствия для жизни горожан. Как мы уже говорили выше, австрийцы, прочно вписавшиеся в рамки строгих структур организованной на испанский манер монархии, менее других народов открытые новым идеям и в своей массе не приемлющие никакой идеологии и абстрактных рассуждений, были несколько похожи на детей, которые верят в своих родителей, из естественной непоседливости с легкостью высмеивают своих учителей, но никогда не доходят до того, чтобы поставить под сомнение законность их власти. Реформы, проведенные Иосифом II, этим «просвещенным самодержцем», не встретили большого одобрения со стороны венского населения. Свойственное этому императору пренебрежение декором представлялось народу пошлым. Люди предпочитали театральных, роскошно одетых королей. В Иосифе II подозревали коронованного революционера, и это стало основной причиной нараставшего в течение всего времени его правления непонимания между полным благих намерений монархом и его подданными, которые не требовали от него этих благих намерений. Незадолго до своей смерти он так хорошо понял, что большинство его реформ непопулярны, что отменил их, дабы не усиливать недовольство страны. Каким волнующим выглядит его письмо к брату, написанное в один из далеко не редких моментов упадка духом, когда он сомневался в прочности того здания, которое возводил с такими большими усилиями! «Истерзанный болью, которую мне причиняют мое собственное несчастье и беды государства, я чувствую себя сейчас несчастнейшим из смертных. Терпение и смирение — вот мой нынешний девиз. Тебе известен мой фанатизм — я вправе использовать это слово, — обращенный на благо народа, которому я пожертвовал всем. Скромная слава, которой я пользовался, зачатки уважения к себе, которое заслужила монархия, — все это потеряно! Пожалей меня, мой любимый брат, и да убережет тебя Бог от такой судьбы». Может быть, именно потому, что Иосиф действовал с таким «фанатизмом» — употребим его слово, — венцы недооценили некоторые из его мер. Однако он был добр, щедр, и среди распоряжений этого монарха, высказавшего столько умных и современных идей и приложившего столько сил для претворения их в жизнь, есть одно, которое, казалось бы, должно было завоевать сердца всех венцев, — распоряжение о защите соловьев в публичных парках. С неосознанной жестокостью и наивным эгоизмом, которые свойственны множеству меломанов, венцы, любившие держать певчих птиц в клетках, никогда не задавались вопросом, не хочется ли порой этим певцам свободы и не нуждаются ли они в ней, чтобы лучше петь. Из-за системно-доктринерского характера политического мышления Иосифу II недоставало необходимой правителям гибкости и умения идти на уступки, умеряя свою строгость. Этот умный человек никак не мог понять, что какого-то одного способа сделать народ счастливым не существует, что этого можно достигнуть, лишь пользуясь сотней разных способов. Он сокрушался, что его не понимают. Правильное суждение о нем высказал Кралик: «Иосифа по праву раздражало всеобщее безумие народов. Французы восстают тогда, когда им отказывают в свободе и равенстве, брабантцы же и венгры восстают потому, что им хотят дать то, чего во весь голос требуют французы».[79] Он не понимал, что французы предпочли революцию войне с Турцией, в которую он силился втянуть своего шурина:{29} тому подобная экспедиция, возможно, спасла бы и корону, и голову. Зато турецкая война пробудила ревнивый гнев Пруссии, которая вступила в блок с морскими державами против Австрии, так мало значения придавая восточной угрозе. Что касается венцев, то они не забывали о том, что были спасены в последний момент благодаря энергии и смелости принца Евгения во время Великой Осады, когда знамя Пророка так долго развевалось на подступах к бастионам столицы. Иосиф II умер 20 февраля 1790 года, успев увидеть разрастание и укрепление Французской революции. Его преемник и брат Леопольд II, который был мудрее его, считал, что нет смысла пытаться сделать народы счастливыми вопреки их желанию, предлагая им счастье, которое они выбрали не сами и которого они не приемлют. Леопольд II старался, насколько мог, стереть следы того, что было революционного в актах его предшественника, в частности, отменил малопродуктивные и плохо рассчитанные налоги, которые довольно прожектерски ввел Иосиф. Таким образом, антиреволюционного темперамента венцев было бы достаточно для объяснения яростного гнева, пробужденного в их сердцах событиями во Франции. Они негодовали также и по поводу того, что французы называли свою королеву «австриячкой», считая это прозвище оскорбительным. Действительно, одной из главных причин непопулярности Марии Антуанетты было ее австрийское происхождение. Утверждение Кралика о том, что последовательность революционных войн представляла собой некую дуэль между Парижем и Веной, возможно, является преувеличением,[80] но враждебность Франции по отношению к Австрии была намного более выраженной, чем враждебность к другим врагам, и именно она с момента прибытия юной принцессы в Париж создала атмосферу недоверия к венке, за достоинства которой ее упрекали еще больше, чем за недостатки. Поэтому не будем удивляться тому, что Вена с чисто сентиментальной горячностью принимала французские события близко к сердцу, мало вдаваясь в политические аспекты проблемы и думая только о несчастной королеве, которую венцы привыкли видеть играющей в аллеях Шенбрунна и мило танцующей роли ангелов и амуров в придворных балетных спектаклях.Национальный траур
В марте 1792 года, когда на престол взошел Франц II, жизнерадостная Вена погрузилась в своего рода национальный траур: новый император рекомендовал венцам не предаваться обычным в подобных торжественных обстоятельствах дорогостоящим коронационным празднествам и развлечениям, потому что в то время было не до веселья, а также потому, что было бы лучше, говорил он, чтобы город расходовал на собственное благоустройство деньги, которые обычно разбазариваются на преходящие и бесполезные праздники. Теперь деньги, обычно уходившие на строительство помпезных триумфальных арок, которые разбирали после того, как под ними единственный раз проезжал императорский кортеж, и от которых не оставалось ровно ничего, кроме ярких, но быстро стиравшихся из памяти воспоминаний, были потрачены на серьезное градостроительное предприятие — освобождение от окружающей застройки собора Св. Стефана. Об этом будут сожалеть романтики, поскольку в результате город лишился трогательного средневекового колорита. Действительно, вплоть до 1792 года пространство перед собором оставалось застроенным зданиями, по древней традиции чуть не вплотную жавшимися к собору между его контрфорсами и загромождавшими площадь. Неоклассическое сознание, воцарившееся в тот период как в Вене, так и в других столицах, больше не признавало красоту готики или, лучше сказать, больше не понимало парадоксальной всеобъемлющей прелести средневековых городов, на которые архитекторы-градостроители пока еще не наложили свою святотатственную руку. Открытие греческой, римской, этрусской античности привело к распространению в Австрии стиля Людовика XVI, стиля Директории, являвших собой возвращение к искусству древности как абсолютному идеалу красоты. Отражение этого стиля ощущалось в убранстве квартир, в украшении мебели и в моде, главным образом женской, видевшей в длинных, прямых развевающихся туниках, в тюрбанах, причудливо обвивавших волосы, секрет элегантности престижного наряда, льстившего воображению модниц, чьим глазам изящество рококо представлялось устаревшим. Освобождение собора Св. Стефана и площади перед ним от загромождавших ее домов, которые не позволяли отойти на достаточное расстояние, чтобы полюбоваться взлетом монументальной и одновременно изящной стрелы его башни, было счастливой идеей, порожденной совершенно новым чувством пространства и перспективы. Если сравнить вид собора на написанной в 1832 году картине Рудольфа фон Альта, этого очаровательного бытописателя Вены XIX столетия, с изображениями его на старинных гравюрах, нельзя не отметить, что снос близлежащих зданий действительно открыл взорам все величие знаменитого сооружения. Когда все работы были закончены, городские советники и буржуазия нарекли новую площадь именем «римского императора… показавшего, что он предпочитает красоту столицы и радость горожан триумфальным аркам». Предписанные Францем II довольно жесткие меры экономии при организации коронационных торжеств одновременно означали, что венцы должны всем сердцем разделять страдания Марии Антуанетты, воздавая таким образом дань той твердости, с которой она осуждала революцию. Когда Национальное Собрание объявило войну Австрии, чтобы наказать ее за помощь эмигрантам и содействие их интригам, Вена радостно приняла этот вызов. Сентябрьская резня, во время которой погибло много венцев, сопровождавших Марию Антуанетту в Париж, лишь усилила народный гнев. Вена не могла поступить иначе как устремиться на выручку своим детям, терзаемым якобинскими варварами. В Письмах Айпельдауэра мы видим точное отражение этих чувств. В день, когда гильотина отрубила голову прекрасной и несчастной королеве, схватка между Парижем и Веной достигла своей высшей фазы, ведущей к неискупимым преступлениям, и самые смиренные из венцев почувствовали, что их сердца бьются в унисон с сердцем писателя, заявившего, что «о Марии Антуанетте будут говорить и тогда, когда французской империи уже не будет на свете, и на берегах Сены люди будут долго искать место, на котором когда-то стоял Париж».[81] Если революция была совершена в Париже, то очаг контрреволюции находился в Вене. Одной из слабостей империи было то, что она представляла собой совокупность наций, идеалы которых были совершенно различными. Например, поляки, целостность чьей страны была грубо разрушена преступным разделом, были всем сердцем на стороне французских революционеров, щедро плативших им за это своей симпатией. «Да здравствует Польша, месье!» — это выражение солидарности можно было постоянно слышать в революционной Франции в 1830 и 1848 годах, во времена Коммуны и даже в радикальной Франции 1900 года. Венгры, в свою очередь, постоянно требовали автономии, а о всегда ирредентистски настроенной{30} Италии нечего было и говорить, поскольку балканские банаты были незаконно отданы австро-венгерской короне. Таким образом, было бы неправильно думать, будто австрийская империя в целом была враждебна революционной Франции, ставшей такой одиозной в глазах всех европейских стран из-за кровавых бесчинств. Даже в самой Вене единодушие было не полным, здесь тоже были свои «якобинцы». Эти австрийские якобинцы, по-видимому, не были слишком опасными. Среди них, разумеется, было несколько франкмасонов типа Шиканедера, Моцарта, Гизеке и Игнаца фон Борна, который был техническим советником либреттиста и музыканта во всем, что касалось «масонской стороны» Волшебной флейты. Объявленное вне закона абсолютисткой Марией Терезией, терпимое и, может быть, даже тайно поощрявшееся Иосифом II, а затем вновь запрещенное Леопольдом франкмасонство по самой своей сути не было революционным, скорее совсем наоборот: тот факт, что оно с самого начала вербовало своих приверженцев путем строжайшей кооптации из высших классов общества, свидетельствует о желании противопоставить идеалу грубого ниспровержения власти стремление к прогрессивным реформам, ведущим к мудрой, терпеливой, органической эволюции без беспорядков и насилия. Гуманное, философичное, одержимое идеей прогресса, но враждебное народным восстаниям, созданное как раз для того, чтобы проводить реформы в условиях мира, легитимности, согласия, истинно человеческого братства по модели Зорастро, а не по примеру французских якобинцев с их абсурдным и преступным кличем «Свобода или смерть!», франкмасонство королей, князей, великих художников и мыслителей — достаточно одних имен Моцарта и Гёте, чтобы составить представление об этом движении, — было задумано, чтобы уберечь Европу от революции и слепого насилия, от катастрофических заблуждений… Разумеется, среди венских якобинцев было несколько франкмасонов либерально-идеалистического направления, интеллектуалов, чиновников, судей, профессоров, желавших возврата к реформам Иосифа II и их полной реализации. Нет сомнений и в том, что они хотели пойти дальше по пути, указанному энциклопедистами и «людьми 89 года». Главной претензией к ним были их связи с парижскими якобинцами. Эмиссары революции появились в Австрии вместе с эмигрантами, порой, возможно, именно под маской эмигрантов; они «обрабатывали умы» венцев как из фанатичного стремления вербовать новых сторонников, так и с целью внедрения в общественное мнение Вены течения, враждебного войне не на жизнь, а на смерть. Нужно было плохо знать венцев, чтобы считать, что они поддадутся франкофильской и революционной пропаганде в тот момент, когда Французская революция только что обезглавила венскую принцессу. Огромное большинство венцев было всем сердцем на стороне волонтеров, отправлявшихся сражаться против армии Республики, и даже обычно вовсе не воинственное простонародье с энтузиазмом маршировало вместе с ними. Те, кто почему-либо не имел возможности непосредственно участвовать в войне, помогали, чем могли. По примеру императора, отдавшего в переплавку свою золотую посуду, аристократия и буржуазия жертвовали столовое серебро. Даже цеховые корпорации несли в переплавку свои старинные регалии и чеканные кубки, многие из которых бережно хранились со времен Средневековья. Во всех классах общества царило единодушие, и каждый грош ребенка, рабочего или мелкого ремесленника служил наращиванию военной казны империи. Энергичные патриоты, проявлявшие незаурядное рвение в выявлении подозрительных лиц, предателей и шпионов, во весь голос требовали, чтобы правосудие преследовало якобинцев и истребляло их, дабы искупить кровь венцев, пролитую в Париже. Огромным успехом пользовались Воспоминания Йозефа Вебера, молочного брата Марии Антуанетты, которого она вызвала к себе в Париж, где он пытался защитить подругу своего детства. Принадлежавший к швейцарским гвардейцам, в большинстве вырезанным в Тюильри, и чудом спасшийся после казни Марии Антуанетты, которой тщетно пытался помочь бежать, он вернулся в Вену и написал книгу о своих приключениях. Рассказы этого очевидца событий укрепили в народе убежденность в том, что «с этими людьми невозможно договориться» и что плохие граждане, пытающиеся с ними договориться и ослабить волю к войне до победного конца, не заслуживают никакого сострадания и должны быть сурово наказаны. Следуя старинной традиции высказывания народных требований, эти патриоты вывесили на вратах собора Св. Стефана петицию с требованием смертной казни для всех австрийских якобинцев. Возбуждение населения заставило полицию, которая до того занимала выжидательную позицию, принять меры против возможных зачинщиков беспорядков. Были арестованы и осуждены насмерть один лишенный духовного сана и подстрекавший к восстанию в Венгрии монах, которого финансировали якобинцы, и лейтенант фон Гебенштрайт: у последнего была найдена подрывная литература и взрывчатые вещества, и, в довершение всего, он был связан с польскими ирредентистами. Других обвиняемых наказали менее сурово, удовлетворившись краткосрочным арестом, и, таким образом, венский яко-бизм, лишенный своих руководителей, угас сам собой; его злобность снова проявилась только спустя полвека, во время революции 1848 года.Наполеон в Вене
В 1797 году, когда Бонапарт объявил о своем намерении нанести удар по самому сердцу Австрии путем захвата Вены и продвинулся вплоть до Леобена, все венцы поднялись на борьбу с французами. Каждый из классов венского общества, в соответствии со своими ресурсами и возможностями, создавал военные формирования. Знать экипировала кавалерийские эскадроны, командование которыми взял на себя князь Лихтенштейн. Свои отряды собрала и буржуазия. Среди ремесленников наибольшую решимость проявили столяры: объединившись в добровольческий отряд из пятисот человек, они поклялись умереть до последнего, но не сдаться врагу. Университет, возглавлявшийся ректором профессором медицины Кварином, удостоился чести идти в бой под знаменами полков, прославивших себя в боях с турками. Даже студенты отделения изящных искусств, распевая старинные песни, отправились на защиту отечества вслед за размахивавшим их знаменем гравером Шмутцером. Отмечались сенсационные обращения в иную политическую веру, как случилось с историком Ваттеротом, свободомыслящим учеником энциклопедистов, космополитом и «левым», который вдруг высказался в пользу самого непримиримого патриотизма и отправился воевать в рядах студентов. Драматург Игнац Фридрих Кастелли, вступивший в шестнадцать лет в академический легион, напишет в своих Воспоминаниях из моей жизни живописную, правдивую картину венской атмосферы того времени. «У меня нет слов, чтобы описать энтузиазм, с которым все, молодые и старики, богатые и бедные, знатные и простые люди, проявляли готовность пожертвовать собой, защищая родину, — пишет он. — Я видел, как многие мои товарищи плакали, потому что им было слишком мало лет и их не брали в отряды». Это единодушие венцев совершенно изменило облик столицы, которая теперь походила на большую казарму, гудевшую патриотическими гимнами и военными песнями. Поскольку в этом в высшей степени музыкальном городе не только все кончалось песнями, но и каждое значительное событие в жизни нации сопровождалось гармонией, принялись за работу и музыканты. Бетховен сочинил по случаю отправки в поход венских добровольцев свои Военную песню австрийцев и Прощание с венцами, которые солдаты пели на полях сражений, а старый Гайдн написал Missa in tempori belli. Кроме того, он предложил графу Заурау написать национальный гимн, к чему до того не проявлял ни малейшей склонности. Этот торжественный, прекрасный гимн впервые прозвучал 12 февраля 1797 года в день рождения императора Франца. Возможно, именно эта мужественная позиция венцев заставила Бонапарта согласиться на мир или, вернее, на подписание предварительных мирных протоколов в Леобене. В данный момент угроза для Вены была снята. Войска вернулись в город с триумфом, как если бы они действительно сражались и одержали победу. Так или иначе, если они еще и не приняли боевого крещения, то показали, что идеал Вены уже совсем не тот, который ей традиционно приписывали, и именно это выразилось в трех словах названия знаменитого вальса Штрауса Wein, Weiber und Gesang (Вино, женщины и песня), которые переводят на французский язык словами Любить, пить и петь. Студенты были полны гордости: каждый получил серебряную медаль, а возглавлявшие их в походе профессора — золотую. Император устроил торжественный смотр всем полкам. Война этим не закончилась; все хорошо понимали, что французы не откажутся от мысли ввести республиканский строй во всех странах не силой, так хитростью. Продуманная пропаганда, которую вела Директория, должна была посеять беспорядки за границей, чтобы создать благоприятные условия для реализации французских амбиций и дезорганизовать изнутри волю врагов к сопротивлению. Эти приемы, ловко проводившиеся в жизнь тайными агентами, раздражали венцев, и в день, когда они увидели над крышей дома банкира Геймюллера, которого считали добрым патриотом, огромный трехцветный флаг, свешивавшийся до самой земли, разразилась настоящая революция. Что же произошло? Нет, вовсе нет, уважаемый банкир не перешел на сторону якобинцев: просто в Вену в качестве посла Французской республики прибыл генерал Бернадот, поселившийся именно в этом прекрасном особняке на Вальнерштрассе, где и поспешил вывесить цвета своей страны. Толпа сочла этот акт недопустимой провокацией и собралась на улице, криками и свистом требуя убрать ненавистный символ. Поспешивший к месту происшествия начальник полиции попытался успокоить манифестантов, объяснив суть происходящего и сославшись на дипломатические правила. Он попросил собравшихся мирно разойтись по домам. Как можно себе представить, никто и не подумал подчиниться этому требованию, и, чтобы понять позицию этих добрых, но внезапно разгневавшихся венцев, нужно учитывать, что для них не было никакой разницы между Террором и Директорией, что все французы казались им кровавыми чудовищами, зверски убивавшими священников и аристократов и не знающими большей радости, чем видеть, как катятся головы из-под гильотины. Бернадоту было сделано представление о желательности успокоить умы и положить конец инциденту, убрав флаг. Тот категорически отказался. Тогда народ ринулся на штурм особняка, расталкивая вызванных для наведения порядка имперских солдат. Люди били стекла камнями и даже скрестили шпаги с взявшейся за оружие охраной Бернадота. Какой-то смелый «альпинист» вскарабкался наверх, к древку флага, и сбросил его на землю, где флаг тут же разорвали в клочья и сожгли. Несколько манифестантов в этой потасовке были ранены, и этого оказалось достаточно, чтобы по городу мгновенно распространился слух о том, что французы убивают венцев. После этого никакая имперская полиция, даже при содействии срочно вызванного нового отряда солдат, не была в состоянии совладать с бунтом. Особняк несчастного банкира, из которого Бернадот своевременно ретировался, был разграблен. Говорили, что посол укрылся в резиденции папского нунция, и даже самые горячие головы не стали его преследовать в доме представителя Ватикана, расположенном поблизости, на Наглергассе. Когда сопротивление французов было прекращено, а дом Геймюллера окончательно разгромлен, толпа угомонилась, и полиции наконец удалось восстановить порядок. Однако инцидент не был окончательно урегулирован: из резиденции папского нунция Бернадот написал письмо протеста императору и потребовал вернуть ему верительные грамоты, усмотрев в этом инциденте оскорбление Франции и ее правительства в лице посла, оскорбление, за которое несли ответственность, если не являлись сообщниками нарушителей порядка, австрийские министры, поскольку они оказались неспособны защитить его, Бернадота, чей флаг подвергся тяжкому оскорблению. В связи с этим он потребовал, чтобы ему предоставили новый французский флаг и установили его собственными силами на здании посольства. Наконец, он настаивал на серьезности этого casus belli,[82] ибо подобное деяние являлось таковым, и объявил, что Бонапарт несомненно примет меры для решительного возмездия, если он, Бернадот, не получит полного удовлетворения. Император и министр полиции решили не вызывать новой манифестации лишь ради того, чтобы успокоить разгневанного посла, тем более что возбуждение венцев улеглось и они уже возвращались к своим повседневным занятиям. Следовало, однако, опасаться, как бы новое появление трехцветного флага опять не вызвало волнений. Они изучили представление Бернадота и вернули ему верительные грамоты, после чего негодующий генерал, проклиная Вену и грозясь ужасным возмездием, покинул город и возвратился в Раштадт. Угрозы были напрасными; Бонапарт дезавуировал своего посла. В тот момент он готовился к экспедиции в Египет и вовсе не желал новой войны с Австрией. Венцы сочли это своей победой, но впереди их ждали новые опасности, новые кампании, затеянные Первым Консулом, а затем и Императором, со всеми неопределенностями и случайностями, неизбежно связанными с войной. Они, однако, могли быть признательны императору Францу за то, что предосторожности ради он обеспечил Австрии сильных союзников, заручился помощью Англии, подписав с ней солидный договор, а также России, женив эрцгерцога Иосифа на дочери царя Павла. Венцы понимали, сколь полезна для них поддержка этих держав, и с любопытством посматривали на толпу иностранных офицеров, которые приехали в их столицу в результате заключения этих союзов. Английского адмирала Нельсона, чьи достоинство и простота вызывали у всех восхищение, приветствовали особенно тепло. Несколько оторопело посматривали на русского генерала Суворова, узнаваемого среди офицеров его штаба, увешанных орденами, сияющими на сверкающих мундирах, по почти грубой простоте его экипировки. Этот отважный человек невысокого роста, нервный, бескомпромиссный, со свирепым взглядом, носил старый выцветший сюртук и овчинный полушубок, как простой пастух-горец. О нем рассказывали удивительные вещи: что он, одетый, как простой солдат, ел, как и все солдаты, из котелка и спал на жестком ложе. В самых роскошных дворцах, где ему случалось останавливаться, он требовал, чтобы ему стелили прямо на полу небольшой соломенный тюфяк; перед его прибытием следовало убрать или закрыть зеркала, потому что он в гневе их разбивал, как только видел свое отражение; людская доверчивость объясняла эту странность тем, что он отдал дьяволу свою душу или, точнее, свое отражение — но не является ли это отражение самой его душой? — в обмен на все победы, которые дьявол пообещал ему за эту уступку. В качестве такого фантастического персонажа, «человека без отражения», Суворов проходит через всю знаменитую сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана Приключения в новогоднюю ночь. Однако война возобновилась. Население столицы с болью узнало об унижении, которое ей причинили в 1801 году Люневильский мир и исчезновение романо-германской Священной империи.{31} Теперь Франц II уже не мог носить титул короля более не существовавшей Германии. Он сохранил титул просто императора Австрии и стал в этом качестве Францем I. Но эта Австрия, хотя и сведенная к собственным географическим границам, оставалась потенциальным объектом нападения для Наполеона, который стал императором французов и жаждал европейской гегемонии. Франц сохранял союз с Германией и с Россией, но некоторые немецкие государства: Бавария, Баден, Вюртемберг — были заодно с Францией, и это опаснейшим образом открывало дорогу Великой армии к воротам Вены. Газеты, пытавшиеся как-то смягчить серьезность положения, с грустью констатировали поражение союзников, капитуляцию генерала Мака в Ульме, вступление Наполеона в Мюнхен, его прибытие в Линц. Чувствовалась непосредственная угроза столице, и в Вене принялись спешно организовывать оборону. Со времени разгрома турок ни один иностранный захватчик не подходил к венским бастионам ближе, чем на расстояние пушечного выстрела, теперь же речь шла о значительных силах, окрыленных победой, обстрелянных в многочисленных кампаниях, вооруженных мощной артиллерией, против которой старые укрепления могли не устоять. Консультанты-инженеры пришли к выводу о том, что самоуспокоенность, вызванная долгим отсутствием угрозы столице, а также присущая венцам беспечность привели к пренебрежению элементарными мерами предосторожности и что бастионы, когда-то остановившие османов, неминуемо будут легко разрушены снарядами французских орудий. Теперь не могло быть и речи о возможности какой-то осады: архаичные укрепления, такие живописные и приятные для прогулок, не обеспечивали никакой обороны городу, обреченному на вторжение противника. Оставался единственный способ предотвратить разрушение города: капитулировать. Приняв такое решение и желая избежать позора этого унизительного поступка, император Франц уехал в Ольмуц, где должен был встретиться с царем Александром. Из города были вывезены государственная казна, самые важные архивы, государственные бумаги и коллекции произведений искусства. Многие горожане, опасавшиеся, как бы вступление в город французов не стало сигналом к развязыванию террора, спешно покинули Вену, этот несчастный город, который удалось спасти от турок, но теперь предстояло сдать «варварам», ведь император Наполеон фактически олицетворял собой «коронованную революцию». Ушла из столицы и армия. В Вене осталась только гражданская милиция, которая должна была поддерживать порядок, если об этом вообще можно было говорить. Каждый в глубине души надеялся, что тиран примет капитуляцию. Это уберегло бы любимый город от ужасов оккупации и от ее неизбежных последствий — разграбления, пожаров, резни. В таком состоянии духа венцы ожидали возвращения своего бургомистра и городских чиновников, отправившихся в Пуккерсдорф для переговоров с Мюратом о сдаче города. Речь, однако, шла не о безоговорочной капитуляции. Венские полномочные чиновники соглашались на капитуляцию только в случае, если победитель гарантирует защиту религии, а также общественных зданий, личности горожан и их имущества. Поскольку Мюрат отказался дать такие обязательства, делегация отбыла в Зигхартскирхен, где находился Наполеон. Последний проявил великодушие и принял условия венцев, после чего французские полки заняли исходные позиции для вступления в город, в который в течение столетий не вступала ни одна иностранная армия. «Около полудня 13 ноября, — рассказывает Кралик,[83] — Мюрат и Ланн вступили в город через ворота Хофбурга во главе авангарда в пятнадцать тысяч солдат, двигавшихся в боевом порядке под звуки фанфар с развернутыми знаменами. Городская гвардия отдавала им честь. Французы очень быстро прошли через город по Кольмаркту, Грабену, площади Св. Стефана и мимо Красной башни, затем через Леопольдштадт и подошли к мосту Табор. Там еще находились австрийцы, готовые открыть огонь по деревянному мосту, как только увидят неприятеля. Но французы, использовав внезапность нападения, овладели мостом, а также артиллерийским парком за Дунаем, поставили, таким образом, под угрозу австро-русскую армию, которая вела арьергардный бой, и этим ускорили завершение кампании».Французская оккупация
Итак, венцы получили возможность почти ежедневно наблюдать «корсиканское чудовище», которого так боялись. Наполеон галопом проскакал через город с эскортом из маршалов и адъютантов, обвешанных орденами и медалями. В начале оккупации он было остановился в Хофбурге, но, сколь бы безобидными ни выглядели горожане, он не чувствовал себя в безопасности в самом сердце неприятельского города и через несколько дней переехал в Шенбрунн, в тот самый Шенбрунн, где, чего он, разумеется, не мог предвидеть, проведет впоследствии последние годы своей недолгой жизни и умрет, охваченный унынием, его сын, король Римский.{32} Наполеон устраивал смотры, организовывал парады и шествия, посещал балетные, оперные и драматические спектакли венских трупп, к которым прибавилась целая толпа танцовщиц, актеров и певцов, прибывших из Парижа. Эти спектакли всегда проходили в сопровождении одновременно напыщенного и суматошного церемониала, учрежденного Императором и сильно отличавшегося от смешения торжественности и простоты, характерного для австрийского двора. Венское общество, которому не хотелось сидеть в театре бок о бок с французскими офицерами, бойкотировало эти зрелища. Так, премьеру Фиделио в Театр-ан-дер-Вин 20 ноября 1805 года слушали одни французские офицеры, большая часть которых была, несомненно, совершенно равнодушна к музыке вообще. Шедевр Бетховена мало трогал их, хотя идеи этой оперы были как раз теми самыми, что вдохновляли революцию. Они с веселым любопытством указывали друг другу на большую, похожую на львиную, увенчанную взъерошенной черной шевелюрой с непокорными завитками голову композитора. Бетховен дирижировал с теми пылом и страстностью, которые овладевали им каждый раз, когда он поднимался к пюпитру. Этот романтический порыв смущал равнодушных и шокировал утонченных знатоков, ибо в наполеоновской армии были и такие. Говорили, что в Париже никогда не видели и не слышали ничего подобного. Что за забавный народ эти венцы! Хотя характер венцев позволял приспосабливаться к любым ситуациям, даже самым затруднительным и неприятным, французская оккупация зародила в их душах очень неприятное чувство тревоги. Совместное проживание горожан и оккупантов вызывало трения между ними, и, хотя ни одна сторона намеренно их не провоцировала, они порой превращались в потасовки. В таких случаях Наполеон грозил бургомистру наложить на город тяжкие контрибуции и взять заложников, что поддерживало страх перед французами, порожденный еще в 1789 году. Потом, в начале декабря, была битва при Аустерлице, а в конце месяца был подписан Пресбургский мирный договор. Надолго ли?.. Никто не хотел задаваться этим вопросом. В середине января 1806 года император Франц и императорская семья вернулись в свой добрый город. «Они были встречены в Донаушпице конной гвардией и бургомистром. Предместья и улицы города, по которым проехал кортеж, были украшены, как на праздник Тела Господня, но только сосновыми и еловыми ветками. В Красной Башне собрался муниципальный совет. Кортеж прибыл в собор, где отслужили благодарственный молебен, после чего он направился в замок. Двумя днями позже венцы так же радостно приветствовали эрцгерцога Карла, возвратившегося из Италии с победоносной армией. Заявление императора позволяло надеяться на „подъем государства за счет развития настоящей культуры, поощрения разума, процветания национальной индустрии и восстановления доверия общества“. Власти ревностно занялись укреплением военной мощи. Городская милиция непрерывно проводила учения. Воспоминания об ужасах войны вызывали у венцев и венок замечательные порывы благотворительности».[84] Годы, когда французская армия, захватившая Австрию, по-хозяйски обосновалась в столице, стали одним из самых волнующих и самых тревожных периодов в истории Вены. Воспоминания о том времени, в частности, знаменитые произведения романистки Каролины Пихлер, дают весьма точное представление о царившем тогда состоянии умов. Венский оптимизм потерпел жестокое поражение. Венцы привыкли быть уверенными в том, что «все образуется», но опыт показывал, что не всегда «все образовывалось» так, как им хотелось, и не всегда в их пользу. Их оптимизм был сильно поколеблен зрелищем Французской революции, которая, казалось, будет легко раздавлена земными державами при поддержке силы небесной. Революция же, наоборот, торжествовала, и даже такой император, как Наполеон, не в меньшей степени оставался якобинцем, попутчиком, а может быть, и другом Робас Боара,[85] который посеял такой страх, такой ужас в сердцах десятков тысяч Айпельдауэров. Горожан поражал внешний вид французской армии: необыкновенная форма гусар Мюрата, одетые под янычаров мамелюки[86] Гвардии (напоминание о ненавистных турках!), длиннобородые старые солдаты наполеоновской армии в мохнатых медвежьих шапках — все это являло собой зрелище, совершенно необычное для уличных зевак, привыкших к имперским солдатам, одетым в белое, розовое, голубое и нежно-зеленое обмундирование. Люди в изумлении передавали друг другу слухи о том, что некоторые наполеоновские маршалы, выступавшие в золоте, с плюмажами, и увешанные орденами, всего лишь бывшие трактирные гарсоны или мелкие ремесленники, заработавшие свои галуны на полях сражений. Фамилии у них были плебейские и не отличались благозвучием не в пример привычным для австрийских ушей именам генералов, напоминавшим о гербовнике империи. У венцев было в крови почитание всего того, что носит хоть какой-то титул, они с легкостью наделяли титулом фон, барон, превосходительство любого хорошо одетого господина, не интересуясь его родословной. Что, впрочем, не мешало и простонародью, и буржуа отлично разбираться в рангах и старшинстве аристократии и внимательно следить за всеми происходившими в знатных семьях событиями, а то и принимать в них участие. Прогуливавшиеся по воскресеньям и праздничным дням по Егерцайле горожане восхищались упряжками, направлявшимися к Пратеру, а когда какой-нибудь кучер замедлял скорость движения настолько, что можно было различить герб на дверце, они со знанием дела безошибочно определяли, кому принадлежит экипаж. Колоритное немецкое выражение «горностаева блоха» (Hermelinfloh), обозначающее людей, слишком увлекающихся титулами, старающихся во всем подражать знати и клеющихся к плащам придворных, очень хорошо подходит для венских буржуа. Они любили имперскую аристократию, восхищались ею, радовались тому, что она существует, и, когда им позволяли присутствовать на праздниках знати, будучи даже просто уличными зеваками, они воображали, что участвуют в действе на равных с устроителями, что принадлежат, пусть только в качестве зрителей, великолепному зрелищу, которое те собой представляют. Что же касается французов, то они гильотинировали своих монархов и свою знать, поставили на их место и наделили их функциями авантюристов, людей из простонародья, которых обогатила революция, а войны сделали генералами и маршалами. Венские буржуа с недоверием посматривали на эту новоиспеченную аристократию, на эту плохо отесанную солдатню, на этих графов и баронов, чьи жены были похожи на маркитанток или прачек. Их не восхищал, а всего лишь ошеломлял блеск и гигантский размах военных парадов; в театре Шиканедера, вспоминали они, было куда лучше, и цитировали наизусть отрывки из грандиозной постановки, для которой этот энтузиаст театра, гениальный постановщик, вооружал тысячи статистов, заставлял стрелять пушки и запускать в небо аэростаты. Оккупационная армия занимала очень много места и производила слишком много шума. Как остроумно заметила в своих Мемуарах Каролина Пихлер, в гостиные и даже в театр она привносила казарменные манеры и шум военного лагеря. Вот как, например, это выглядело в Опере: «Приехав в очаровательно построенный театр, мы увидели галереи, забитые шумной французской солдатней в ярко-красных униформах. Занавес не поднимали, ожидая Императора. После долгого ожидания, которое предоставило мне достаточно времени, чтобы сравнить все это с пунктуальностью нашего такого по-отечески простого монарха, который был всегда точен и никогда не заставлял себя ждать ни публику, ни своих чиновников, около восьми часов вдруг раздался яростный грохот барабанов, возвещавших о прибытии Императора. И я опять не могла не приравнять этот враждебно звучащий гром к тем звукам, которыми нас обычно извещали о каких-нибудь исключительных или трагических событиях, в том числе о пожаре… Он вошел в ложу и уселся с записной книжкой в руке. За ним вошли и остались стоять адъютанты и уж не знаю кто там еще. Да, это был он, человек, заставивший содрогнуться землю, потрясший столько европейских тронов и опрокинувший несколько из них. Чего он захочет еще, он, для кого, по-видимому, нет ничего невозможного, он, в чьих руках находится судьба всех нас? Вот что говорила я себе, пока шел акт „Сарджино“,[87] за которым последовал небольшой дивертисмент, на который я почти не обратила внимания, так как была поглощена созерцанием этого страшного человека, сидевшего там, наверху, в своей ложе!» Этот «антинаполеонизм» привел к тому, что приезжавших в Вену французских роялистов принимали с самой горячей симпатией. Именно потому, зная, что г-жа де Сталь не боится Наполеона и его солдат, а еще больше за красоту ее произведений и славу писательницы, Австрия устроила праздник в честь великой жрицы «сопротивления» Императору, которая ответила ей на это со свойственным ей лирическим красноречием похвалой красоте и очарованию столицы. Я рекомендую читателю прочесть описания венских пейзажей в книге г-жи де Сталь О Германии, которая стала для французов настоящим введением в знание о германском мире, о его поэтах и мыслителях. Романтическую чувствительность писательницы взволновали стада оленей, пасущихся в Пратере, любовь к готике вдохновила ее на написание блестящих страниц о соборе Св. Стефана, ее нежность изливалась на этот столь милый и счастливый народ, воплощающий в себе представление о согласии и мире. «Здесь не встретишь ни одного нищего, — замечает она, — каждый проявляет такую заботу о себе подобных, что в городе нет ни одного жителя, который терпел бы нужду в том, что ему необходимо». Все здесь ее восхищает, все очаровывает: бедные кварталы и аристократические салоны, старый город и Венский лес, доброжелательность знатных горожан к простым смертным, богатых к беднякам.Возвращение французов
Несмотря на то, что Пресбургский договор отнял у Австрии Венецию, Тироль и Швабию, несмотря на то, что Рейнский союз{33} отдал почти всю Германию в распоряжение Наполеона, а Россия в 1808 году встала на сторону Франции, чтобы парализовать амбиции Австрии в отношении Востока, и несмотря на то, что Австрия осталась практически в одиночестве, официально считаясь, впрочем, союзником Англии (но никто никогда не мог знать заранее, что сделает Англия в пользу или против своих союзников), она все же оказала сопротивление Наполеону и даже стала в глазах контрреволюционной Европы символом «легитимизма». По счастью, Австрию возглавлял великий государственный деятель Штадион,[88] которому удалось мобилизовать всю страну, душой и телом отдавшуюся делу борьбы против «узурпатора». Совершенно невоинственные венцы стали мужественно готовиться скрестить оружие с противником. Чтобы избежать повторения печального опыта 1805 года, они укрепили бастионы и создали специальную армию, Ландсвер, для защиты родины, о чем свидетельствует само ее название.[89] В ее ряды вступали все желающие, без различия классов и профессий. Пример тирольцев, оставшихся верными Австрии даже после того, как по Пресбургскому договору они оказались баварскими подданными, и непримиримая позиция их руководителя Андреаса Гофера, восхищавшего венцев своей длинной бородой, воинственным видом и странным костюмом горца, воодушевляли даже самых боязливых. «Это была прежде всего национальная война. Каждый принимал дела страны так же близко к сердцу, как свои личные. Нация превратилась в армию, а армия стала нацией, взявшейся за оружие. Всех переполняли любовь к родине, энтузиазм борьбы за независимость, ненависть к иностранной тирании, живое и благородное чувство собственной значимости и силы».[90] После этого великого и единодушного порыва, полного любви к родине, веры в свою славную судьбу и уверенности в победе, внезапное появление французов, подошедших к предместьям Вены 9 мая 1809 года, привело население в состояние растерянности, которое легко себе представить. Все надеялись на то, что немцы остановят или, по меньшей мере, задержат продвижение Наполеона, но те предали своих братьев-соплеменников, пропустили захватчика и, более того, в большинстве своем встали под его знамена. Труд, который весь народ вложил в усиление укреплений, в сосредоточение на бастионах артиллерии, которая должна была остановить врага, пропал даром. Тщетной оказалась попытка преградить путь вражескому потоку с помощью неэффективных, а порой и просто смехотворных средств: деревья, посаженные в Пратере Иосифом II для того, чтобы в их тени могли гулять венцы, спилили и построили из них совершенно бесполезные заграждения; мосты были сожжены, но вместо них элитные отряды французских понтонеров, которые прославятся своей самоотверженностью при отступлении из России, немедленно навели понтонные переправы. Эти отчаянные меры принимались в надежде на то, что они позволят выиграть время и армия эрцгерцога Карла успеет подойти из Богемии и преградить дорогу противнику. Хотя французы были уже в предместьях, еще оставалась надежда защитить окруженную стеной часть города в границах Гюртеля,{34} но было уже слишком поздно. Курьеры Наполеона привезли приказ о приведении в порядок «апартаментов Императора» в Шенбруннском замке, который победитель занимал четырьмя годами ранее, и вскоре после этого в великолепном замке Марии Терезии разместился главный штаб, а замковый парк вновь превратился в территорию для учений солдат, парадов и торжественных построений, которыми Император любовался с балкона замка. Однако не все еще было потеряно: со дня на день мог подойти эрцгерцог Карл, и тогда судьба сражения могла измениться в пользу австрийцев. Оставалось лишь продержаться до этого момента. И Вена сражалась с благородной отвагой и упорством, заслуживавшими лучшего исхода. «Однако французской армии удалось обложить город; французские цепи, описывая большой круг, продвигались, с одной стороны, от Шенбрунна к Дунаю через западные пригороды Отгакринг, Вэринг и Дёблинг, с другой — от Шенбрунна к Венскому лесу и Дунаю. На другом берегу реки находился австрийский корпус Хиллера, но его сил было недостаточно для атаки. Все ожидали армию эрцгерцога Карла, двигавшуюся из Богемии. Венцы отвергли предложение сдать город, и 11 мая французы начали военные действия с двух сторон. На юге Наполеон приказал навести понтонный мост через Дунайский канал, и по нему его войска прошли в Пратер. В Пратере находились австрийские гренадеры, обеспечивавшие связь между городом и противоположным берегом Дуная. Пока они тщетно пытались оказать сопротивление французским отрядам, внимание города было приковано к другой операции противника. Генерал Бертран разместил артиллерийские батареи за императорскими конюшнями, и, как только стемнело, они начали обстрел. В городе в нескольких местах возникли пожары».[91] Эта тревожная ситуация осложнялась тем, что батареи бастионов не могли не потерпеть поражения в артиллерийской дуэли, и тем, что после уничтожения гренадеров в Пратере связи с этим берегом больше не было. Это налагало тяжелую ответственность на эрцгерцога Максимилиана, осуществлявшего руководство операцией и командовавшего войсками. Упорствовать в сопротивлении противнику, намного превосходившему силы венского гарнизона, означало бы подвергнуть город опасности длительной осады и, что еще хуже, такому убийственному артиллерийскому обстрелу, что в случае продолжения сопротивления он превратился бы в дымящиеся развалины. Поэтому эрцгерцог предложил сдать город, и уместно воздать хвалу венцам за то, что именно они воспротивились унизительной капитуляции. Однако менее благородная позиция Максимилиана была более мудрой: эрцгерцог Карл уже больше не мог успеть вовремя подойти со своей армией, чтобы спасти положение. Отрезанный от всех связей с Ольмуцем, где находился Франц, он не мог информировать императора об обстановке и требовать от него решений. Франц, предупрежденный курьером, сумевшим прорваться через боевые порядки осаждавших, послал эрцгерцогу Максимилиану приказ продержаться еще по крайней мере два дня, но курьер прибыл слишком поздно: Максимилиан уже сообщил Наполеону о готовности сдать город. Он приказал отвести войска и открыть городские ворота. Пушки на бастионах смолкли. На воротах Хофбурга развевался белый флаг. На заре 13 мая делегация в составе бургомистра Воллебена, архиепископа Хоенварта и графа Дитрихштайна отправилась из подавленной событиями Вены в Шенбрунн. В этот момент французские войска спускались из Пратера по Егерцайле к центру города. Гарнизону было предложено сложить оружие и сдаться победителям. Все военные были признаны военнопленными и уведены из города. Ополченцев Ландсвера, военный статус которого Франция не признавала, вполне могли бы посчитать партизанами и попросту расстрелять, но Наполеон проявил великодушие и удовольствовался расформированием их частей. При этом он предупредил, что горожане, которые впредь будут иметь неосторожность вступить в какие-либо другие военизированные организации, будут казнены, их дома сожжены, а все их имущество будет конфисковано. Не была ли сдача города неоправданно быстрой? Не слишком ли поспешил капитулировать Максимилиан? Могли ли спасти Австрию от катастрофы те назначенные императором два дня, в течение которых он приказал продержаться? По всей вероятности, нет. К моменту, когда французские войска ставили на площадях в козлы свои винтовки и обосновывались в общественных зданиях, части эрцгерцога Карла дошли лишь до Бизамберга на Дунае, где столкнулись с двигавшимися им навстречу полками Наполеона. 21 мая в Асперне и Эсслинге между обеими армиями завязалось сражение. Война продолжалась до 12 июля, когда было заключено перемирие, которого одинаково желали и австрийцы, и французы: эрцгерцог Карл — для того, чтобы могли перевести дыхание его войска, Наполеон — чтобы избежать серьезного сражения, исход которого отнюдь не был предрешен. Эсслингское сражение прославило эрцгерцога Карла, который оказался один перед лицом Великой армии и ее союзников. Приветствуя эрцгерцога, к его имени отныне добавляли прекрасный титул, которым его наделил Клейст: «победитель Непобедимого». Многим венцам перемирие принесло облегчение. Действительно, они могли надеяться на то, что после подписания мирного договора французы уйдут. Их присутствие воспринималось огромным большинством жителей Вены как унижение и причиняло настоящую боль. Старый Гайдн не выдержал этого и умер от горя. 28 марта, еще до взятия города, Сальери исполнил его ораторию Сотворение мира в Большой аудитории университета, где взорам слушателей представилась трогательная сцена: Бетховен с пылкой нежностью целовал голову и руки старого маэстро. Французская военная форма, мозолившая ему глаза на улицах любимой Вены, была для него таким ударом, что старый музыкант слег и поднимался с кровати только к пианино, чтобы сыграть национальный гимн, сочиненный им тремя годами ранее; такое усилие и переживаемое при этом волнение отнимали у него последние силы, но он верил в то, что таким образом разделяет страдания своей страны. После смерти Гайдна 31 мая его по какой-то зловещей иронии судьбы окружили люди именно в ненавистной французской военной форме. Наполеон, этот великодушный победитель, также хорошо знавший цену людям, как и цену, которую придаст этому жесту Европа, прислал французский почетный караул к гробу старого капельмейстера князей Эстерхази. Однако город постепенно привык к присутствию французов. День рождения Наполеона 15 августа был отпразднован с соблюдением того же церемониала и так же весело, как и день рождения императора Франца, при этом обошлось без малейших инцидентов. Вена перестала считать великого Императора «корсиканским чудовищем»; его офицеров принимали в салонах аристократов и буржуа, они танцевали вальс с венскими девушками, и нет сомнений, что на этой почве зародилась не одна идиллия. Либералы были благодарны французам за некоторые принятые ими меры, в частности за отмену цензуры. Эта мера была хитрым маневром, так как Император сохранял за собой право конфисковывать все газеты и книги, тон которых ему не нравился, и следил за этим сам лично. Зато старый якобинец смотрел сквозь пальцы на брожение ниспровергательных идей, которому должно было благоприятствовать это послабление. Все то, что вдохновляло пропаганду, более или менее враждебную Габсбургам, служило одновременно целям его собственной политики, и он понимал, что ничто так надежно не ослабит Австрию, как распространение революционных идей. В результате этой расчетливой терпимости французы завоевали симпатии части населения. Сопротивление постепенно уменьшалось по мере того, как венцы с облегчением констатировали, что французы вовсе не террористы, каковыми они их себе представляли. И каков бы ни был ранее их страх перед Наполеоном, они не одобрили намерений сына немецкого пастора Штапса, явившегося из Наумбурга в Вену, чтобы ударом кинжала покончить с Наполеоном.[92] Вена теперь склонялась к тому, чтобы видеть в Наполеоне «человека, назначенного судьбой», и свойственный ей фатализм привел к признанию его триумфа, не исключая при этом желания, чтобы французская оккупация не затянулась слишком надолго. Однако это покушение нанесло большой ущерб престижу Императора. Наполеон пожелал, чтобы судивший Штапса военный совет признал его сумасшедшим; Европа должна была думать, что только сумасшедший мог покуситься на жизнь Непобедимого. Это позволило бы проявить великодушие по отношению к импульсивному душевнобольному студенту и сохранить ему жизнь. Штапс же с большой твердостью заявил, что желает понести полную ответственность за свое деяние, и, гордый, как древний римлянин, ответил судьям, предлагавшим ему заявить, что он жалеет о своем поступке, следующими простыми словами: «Я ни о чем не жалею, разве что о том, что не достиг своей цели». Он говорил с такой благородной простотой, отвагой и мудростью, что военный трибунал не мог не приговорить его к смерти и не поставить перед расстрельной командой немедленно после вынесения приговора. Сентиментальная Вена приняла сторону несчастного юного героя; ей не хотелось, чтобы Наполеон умалял величие его поступка, приписав его заблуждению безумного. Эта низость казалась ей недостойной такого человека. Ей хотелось также, чтобы после осуждения юноши, которого тот заслуживал, Наполеон его помиловал. Он завоевал бы, таким образом, сердца венцев и обеспечил себе популярность среди них. Приказав расстрелять Штапса, он возвысил его: какому-то несчастному сыну пастора, обреченному повторить бессмертную судьбу Брута, было суждено стать национальным героем, славной личностью, достойной навсегда остаться в памяти народа символом Свободы, восстающей против Тирании. Венский договор, подписанный через три дня после смерти Штапса, расстрелянного на краю городского рва, показался поэтому австрийцам еще более жестоким и несправедливым, не говоря уж о том, что он отнял у них многие прекрасные провинции. Природа «чудовища» взяла верх, говорили венцы, и они с весьма смешанными чувствами узнали полтора года спустя, что император Франц согласился выдать свою дочь Марию Луизу за этого «коронованного авантюриста».Жертвоприношение
Прибытие в Хофбург маршала Бертье с предложением об этом браке не вызвало бурной реакции, подобной той, которую спровоцировала история с Бернадотом и его флагом, оно ввергло венцев в удивленное оцепенение. Народ не понимал, как Габсбург может согласиться на брак австрийской принцессы с бывшим солдатом удачи, возведенным на трон горсткой людей. Все в отчаянии вспоминали печальный прецедент: отъезд в Париж Марии Антуанетты; теперь же женой «бурбона»{35} должна была стать Мария Луиза! Брак, заключенный в подобных условиях, не может принести счастья, думали венцы, неспособные проникнуть в далеко идущий политический подтекст этого дипломатического акта, который считали просто чудовищным. И народ, несомненно, оказался прав, поскольку выдвинутые обоими монархами политические соображения не привели к ожидаемым результатам. Наполеону пришлось довольно быстро убедиться в том, что никакой брак не гарантирует долговременного союза. Этой иллюзорной гарантии мира, этому соглашению, позволившему Наполеону войти в «семью» коронованных голов Европы, суждено было оставаться эффективным лишь столько времени, сколько Франц считал выгодным для своей страны. В день 11 марта 1810 года, когда в Вене была отпразднована эта свадьба, Наполеон не приехал в Вену, и в народе это сразу отметили. Суеверным людям не нравятся браки «по доверенности»; эти люди обратили внимание наивных обывателей, ожидавших тысячи радостей от свадебной церемонии, что представителем Наполеона перед алтарем был не один из его братьев и даже не один из его маршалов, а эрцгерцог Карл собственной персоной, триумфатор Эсслинга и Асперна, «победитель Непобедимого». Как могла Вена не усмотреть в этом обстоятельстве предвестия будущих несчастий и новых военных кампаний? Разве не было это свидетельством того, что эпоха окончательного мира в столице империи еще не наступила?Глава седьмая ТАНЦУЮЩИЙ КОНГРЕСС
Зрелища и скандалы. Мемуары и полицейские архивы. Сто тысяч иностранцев в Вене. Памфлеты и сатира. Первые роли. Каслри. Принц де Линь. Талейран. Александр I. Меттерних
Можно по-разному описывать Венский конгресс. Можно, например, подобно графу Гард-Шамбона, потерявшему голову от собственной светскости и очень гордому тем, что присутствовал на всех приемах, видеть только хронику интриг и удовольствий, которым предавались князья и князьки, в перерыве между двумя вальсами и двумя ужинами резавшие на куски Францию, не считаясь с правами национальных меньшинств. Можно смотреть на него глазами Байрона как на «гнусное зрелище», способное возмутить всякого благородного человека. Можно также проследить за одной из самых волнующих дипломатических шахматных партий, которые разыгрывали европейские государственные деятели, и распутать нити одного из сложнейших планов, которые пытались задействовать, чтобы обеспечить длительный мир Европе, выходившей из Наполеоновских войн обескровленной и опустошенной. Можно, наконец, — и только этот угол зрения соответствует теме и плану настоящего труда — смотреть на актеров этой пьесы, то трагической, то шутовской, а чаще всего шутовской и трагической одновременно, глазами венского буржуа, ошеломленного тем, что его любимый город внезапно стал цен-гром общеевропейской дипломатической игры, тем очагом, где создавался или, точнее, где пытались в соответствии с надеждами идеалистов создать новый мир. Да,несомненно гнусное зрелище представляли собой эти монархи, выступавшие с угрозами в адрес малых государств, пытаясь таким образом привлечь их на свою сторону и вынуждая других действовать в своих интересах с помощью подозрительных сделок, но тем не менее прежде всего это было зрелище, спектакль, что для рядового венца было основной стороной вопроса. Для «человека с венской улицы», плохо информированного о политических проблемах, лежавших в основе игры, и едва знающего собственную «историю» этих людей, собравшихся, чтобы делать историю, конгресс был всего лишь длинной последовательностью празднеств, более или менее отдаленным свидетелем которых он был, комедией, длившейся несколько месяцев, где актеры носили всемирно прославленные имена и роскошные одежды, придававшие спектаклю еще более высокую цену.Зрелища и скандалы
Для венцев — любителей исторического анекдота, а значит, решительно для всех венцев во время этого конгресса происходило нечто еще более интересное, нежели действие, разворачивавшееся на сцене: кипение скандалов за кулисами, потоки правдивых или ложных новостей, свежие утренние сплетни по поводу частной жизни высокопоставленных персон. Неписаная история этих интриг переходила из уст в уста, передавалась слугами, горничными, ливрейными лакеями и конюхами. Каждый, прослышав какой-нибудь пикантный слух, спешил поведать о нем соседям, и уже через несколько часов он становился достоянием всего города, докатывался до его предместий. Обычно чрезвычайно падкая на подлинные, а то и на сомнительной достоверности факты из частной жизни своих полубогов-актеров Вена интересовалась теперь тайными связями монархов и их разрывами, разнообразными вариациями той кадрили чувств, танцовщиками в которой были короли, а фигуры которой беспрерывно составлялись и распадались в зависимости от тех, кто правил бал на сегодняшний день. В салонах знати и в гостиных буржуа ни о чем другом не говорили. Слухи, исходившие из передних особняков, распространялись во дворах скромных домов, на улицах, и запутанная полицейская сеть, раскинутая надо всем городом министром Хагером, улавливала все эти слухи, которые могли представлять интерес для Полиции двора, и добавляла к ним по своему усмотрению новые детали, отмечая в картотеке малейшие пересуды, и не было ни одной самой мелкой сплетни, из которой полицейские ищейки не извлекли бы пользы для себя. Прибавьте к интересу, проявлявшемуся австрийской полицией к этому скандальному эхо, любознательность бесчисленных тайных агентов, которых привезла с собой в Вену каждая делегация под личиной секретарей или под ливреей слуг. Эти деятели тоже прислушивались во все уши ко всему, что можно было услышать, рылись в корзинках для бумаг и кучах выметавшегося по утрам мусора, уверенные в том, что в один прекрасный день в их руки попадет какой-нибудь важный документ, который они тут же передадут в зашифрованном виде в заинтересованную канцелярию. Поскольку изобретательность шпионов позволяла разгадывать самые сложные шифры, а все письма перлюстрировались на почте и читались в секретных кабинетах прежде, чем отправиться по месту назначения, поскольку каждый был заинтересован в том, чтобы задержать переписку другого и осведомиться о ее содержании, то случалось, что венская публика оказывалась проинформированной о том, что обсуждалось на заседаниях конгресса или решалось между дипломатами в кулуарах салонов, раньше, чем заинтересованные правительства получали эти сведения в своих далеких столицах. Все это возбуждало праздношатающихся, питало досужие разговоры в кафе, во время антрактов в театре, прогулок по Венскому лесу, и каждый житель столицы поддавался лестной для него иллюзии хоть какого-то скромного участия в конгрессе и сопереживания возбуждающим перипетиям этой монументальной комедии всеевропейского масштаба. Куда больше материальных выгод, которые удавалось извлекать в условиях такого притока богатых и праздных иностранцев, двигавших торговлю, ценилась совершенно необычная, выпавшая на долю Вены честь принимать в течение такого длительного времени столько монархов с их дворами и слугами. Впрочем, выгоды были реальными только для тех, кто получал немедленную прибыль от торговли, так как значительное увеличение спроса при остававшемся почти неизменным предложении вызвало дефицит товаров и рост стоимости жизни, и таким образом непосредственным экономическим последствием конгресса стало, с одной стороны, значительное обогащение достаточно многих лиц, но с другой стороны — нарушение равновесия состояний и доходов и появление скрытого недовольства в отношениях между общественными классами; отдаленные результаты этого позднее обнаружатся в революции 1848 года, о которой можно сказать, что она в определенном смысле была спровоцирована конгрессом. Результатом этого спектакля, ошеломившего добрый венский народ, но явившего ему очень плохие примеры, было заметное падение нравов. Распутство знатных иностранцев в этом мудром, серьезном городе, любившем развлекаться невинно, почти по-детски, в городе, само легкомыслие которого исключало развращенность, как бы оправдывало аморальность, которую подданные Марии Терезии, Иосифа II и Франца I привыкли осуждать и которую они, во всяком случае, никогда не встречали у своих собственных монархов. Похождения таких высокопоставленных особ, как царь Александр, великий герцог Баденский, король Вюртембергский, если назвать только самых известных, начинали казаться простительными или, по крайней мере, оставались вне критики. Некоторое падение нравственности было вызвано также и тем, что Полиция двора задействовала на время конгресса в помощь обычному персоналу множество внештатных, плохо оплачивавшихся горожан — их действительно требовалось много: за столькими людьми приходилось вести наблюдение! — а у этих полицейских-любителей, набиравшихся как среди светских дам, так и из числа персонала гостиниц, появился вкус к этому пикантному ремеслу, и они гордились тем, что играют роль, пусть и самого последнего плана, в этой грандиозной комедии, распорядителем которой был Меттерних. Совершенно невозможно узнать, кто принадлежал, а кто не имел отношения к этим добровольным шпионам, из которых некоторые, вероятно самые высокопоставленные, пользовались завидной привилегией направлять свои отчеты, подписанные настоящим именем, псевдонимом или же условным знаком, позволявшими определить имя отправителя, непосредственно Хагеру. Прочие сообщались с министерством через многочисленных агентов, являвшихся посредниками между ними и высшим руководством, и не имели ни малейшего шанса на вознаграждение за свои заслуги, но зато и не подвергались наказанию за излишнее рвение и за оплошности.Мемуары и полицейские архивы
Все, что мы знаем о «малой» истории конгресса, почерпнуто нами из бесчисленных мемуаров того времени, так как каждый или почти каждый из участвовавших в нем лиц, желая обессмертить свою причастность к нему, писал и публиковал воспоминания. Мемуары Гард-Шамбона, барона Витролля, Коленкура, Дневники г-жи д’Арбле и княгини Дино, Дневник леди Холланд и монументальный Дневник г-жи Жюно, письма неугомонной княгини де Ливен, Записки Криви и Записки Крокера, переписка леди Брагерш, Мемуары Буррьена и Мемуары графини де Буань, бесценный Дневник Бертучи дают достаточное представление о том, сколько всего написали действующие лица и свидетели событий этого периода. Я уже не говорю об откровенностях таких первых лиц, как Каслри, Талейран, Меттерних, Веллингтон, Генц и многие другие. Наиболее колоритными и ценными являются документы, предоставленные нам самой Полицией двора, позволившей полистать свои архивные материалы. Закулисная атмосфера конгресса раскрывается в них равно с бесцеремонностью и с проницательностью. Немного тайн, должно быть, ускользнуло от взглядов сбиров — полицейских агентов Хагера. Император Франц требовал представления ему по утрам отчетов службы наблюдения и погружался в их чтение с любопытством ребенка. Он от души веселился, узнавая о том, чем занимались иностранные особы, даже если их действия не представляли ровно никакого государственного интереса и были лишены политической подоплеки. Просматривая эти досье, мы узнаем, что в такой-то день и час прусский король вышел из своей резиденции инкогнито, одетый, как простой буржуа, в низко надвинутой шляпе, и не вернулся даже в десять часов вечера; что русскому императору каждое утро приносят большой кусок льда, которым он протирает себе лицо и руки; что великий герцог Баденский провел ночь у девиц… Осведомителей вербовали повсюду. Барон Хагер предлагает своему агенту Зиберу и правительственному советнику Ла Розу почаще пользоваться услугами евреев. «Поскольку вы имеете влияние на главные еврейские дома, вам легко найти среди глав этих семейств или среди самых толковых из их сыновей лиц, способных добывать сведения, представляющие интерес для политической полиции».[93] Подобные же инструкции направляются хорошо известным в обществе лицам, которые также не отказываются от сбора сведений, таким, например, как барон фон Лёрс, которому Хагер адресует следующее письмо:[94]Я имею честь просить Вас не только приложить все усилия к тому, чтобы извлекать как можно больше пользы из Ваших связей и источников информации и доставлять мне по утрам исчерпывающие сведения, которые я не замедлю оплатить с учетом Ваших расходов, связанных с их получением, но и соблаговолить назвать мне имена лиц, которых, по Вашему мнению, можно было бы использовать в нынешних обстоятельствах на всем протяжении конгресса. Их можно будет привести ко мне для соответствующей договоренности.Цинизмом, с которым начальник полиции предлагает титулованному лицу стать помощником его агентов и, что еще более интересно, вербовщиком новых, пронизана и записка к государственному советнику Зиберу, высшему руководителю венской полиции (Хагер руководил Государственной полицией). Ему рекомендовалось усилить бдительность ввиду большого притока иностранных гостей.[95]
Неизбежное прибытие высочайших особ налагает на нас обязанность сделать соответствующие распоряжения и принять такие меры для усиленного наблюдения, чтобы можно было ежедневно и во всех подробностях получать сведения, касающиеся их августейших персон, их непосредственного окружения и всех лиц, пытающихся к ним приблизиться, а также получать информацию о планах, намерениях и действиях, которые будут иметь отношение к этим блистательным гостям…Можно было опасаться того, что значительное количество лиц, подлежавших наблюдению и осуществлявших его, вызовет такой приток разнообразных донесений, что начальник полиции окажется неспособен отделить полезную информацию от не имеющей значения. Их сортировка могла стать очень трудным делом. Каждый день на стол барона Хагера мешками доставлялись конфиденциальные послания. Среди них преобладали, разумеется, не имевшие значения, потому что иностранцы, знавшие, что за ними следят, и сами следившие друг за другом, во избежание подслушивания тщательно избегали компрометирующих разговоров, а все важные документы прятали под замок. Хагер ждал чуда от инициативы изобретательного Зибера, который надумал использовать в качестве полицейских осведомителей общественных писцов. «Чтобы распознавать среди большого числа иностранцев тех, кто приехал неофициально с целью смешаться с официальными представителями, придется создать под наблюдением полиции специальные бюро письменных услуг для удобства иностранцев, наподобие существующих в Париже. Руководить ими будут надежные люди, принимающие на работу только писцов, рекомендованных полицией».[96] Зибер предлагает назначить руководителем одного из таких бюро русского по фамилии Лейман, который очень хорошо говорит и пишет по-немецки и по-французски, вполне прилично по-английски и по-итальянски, а далее сообщает другие подробности в отношении персонала, привлекаемого к работе в этих бюро, которые будут поставлять ценные сведения. Представляется, что даже такой высокопоставленный руководитель, как Зибер, несмотря на свои весьма специфические функции, оставался во власти крайней наивности, поскольку полагал, будто секретари дипломатов окажутся столь неосторожными, что станут диктовать письма общественным писарям. Впрочем, опыт научил его пониманию того, что дипломаты часто допускают совершенно неправдоподобную небрежность и надо всегда быть готовым воспользоваться этим. Иллюстрацией может быть случай, когда атташе французской дипломатической миссии герцог Дальберг выбросил в корзину для ненужных бумаг письмо, в котором французскому посланнику в Ливорно предлагалось похитить Наполеона, вступив в заговор с капитаном судна, на котором тот иногда ночевал. Это письмо, доставленное Хагеру и показанное императору Францу, пробудило среди членов конгресса некоторое беспокойство.
Сто тысяч иностранцев в Вене
Шестеро высочайших особ, еще семьсот дипломатов со своими секретариатами, прислугой, двором — всего пять тысяч иностранцев, мужчин и женщин, живших в Вене в период конгресса, внесли изрядный беспорядок в ее повседневную жизнь. С официальными гостями смешалось немало авантюристов, жуликов, профессиональных игроков, а полусвет делегировал в Вену массу хорошеньких девиц, которым было велено соблазнять высочайших особ. Этих девиц сопровождали их возлюбленные и покровители, и они находились под наблюдением полиции, следившей за ними и предлагавшей держать ухо востро и действовать проворно. Одна анонимная записка на имя Хагера от 9 октября 1814 года, в которой вместо подписи стоят два круга, пересеченные крестом, и автором которой, несомненно, является кто-нибудь, имевший доступ во все салоны и пользующийся полным доверием Их Высочеств, содержит поразительное суждение об этой мобилизации полицией Хагера людей светского общества. Письмо это заслуживает того, чтобы привести его дословно, потому что оно удивительным образом освещает нравы, царившие в Вене во время конгресса. На нем значится номер F. 2.4188 ad 3565 архива Полиции двора, и его перевод можно прочесть в захватывающем сборнике документов, опубликованном Вайлем под заголовком Закулисная сторона Венского конгресса.[97]Я слышу в доме князя Штаремберга много разговоров о шпионаже дворов и дипломатических миссий друг против друга и о шпионаже в обществе. Говорят, что «дворы и миссии усиленно занимаются взаимным шпионажем». Это вполне естественно и легко объяснимо. Совершенно несомненно, что, уезжая отсюда, иностранные монархи будут знать все о нашем дворе. Но общественный шпионаж между нами, венцами, шпионаж внутри самого общества становится нестерпимым. Фердинанд Пальфи из тайной полиции, графиня Эстерхази-Руазен и м-ль Шапюи шпионят на старую княгиню Меттерних, которая наставляет и вдохновляет их. Князь Кауниц, Франц Пальфи, Фридрих Фюрстенберг и Фердинанд Пальфи предлагали свои услуги присутствовавшим в Вене высочайшим особам, но их предложения были отклонены. Никогда в Вене не было такой развернутой шпионской службы. Меня уже расспрашивал об этом князь Меттерних, который сказал мне, что ему известно обо всех моих разговорах. Я сказал ему, что князь должен был бы оказать мне услугу, взяв меня на службу, и что я буду распевать похвалы ему на все голоса. Я действительно его должник из-за моей лотереи, но чего я не могу ему простить, чего не могу допустить, так это Биндеров, Пауля Эстерхази и его компании, с которыми он запирается на ключ, так как они являются его доверенными лицами. Вот что мне рассказал князь Штаремберг.Неизвестный агент, которому доверился, таким образом, с открытым сердцем один из самых влиятельных и высокопоставленных лиц империи — ведь он был послом Австрии в Лондоне, — оказался также близок к немецким дипломатическим миссиям. Он сообщает, что барон Шпат однажды повторил ему следующие слова обескураженного короля Саксонии: «Принц Антон Саксонский и его жена эрцгерцогиня сами сказали мне в Шенбрунне: „Саксония для нас потеряна. Мы туда никогда не вернемся“». Он оказался достаточно ловок или достаточно высокопоставлен, чтобы проникнуть во французское посольство. «Вчера граф де Латур дю Пен провел меня к Талейрану. Этот дом для наблюдателя, вероятно, самый интересный. Но это одновременно и refugium рессаtorum.[98] Именно здесь оба князя Кобургские, кардинал Консальви и нунций Североли упорно обхаживают хозяина дома, который едва удостаивает их взглядом. Шуленбург, Сен-Марсан, Кастельальфер, Сальмур, граф Маршалл, командор Руффо, барон Вринц — все эмигранты являются сюда, чтобы сообщить обо всем, что им известно, что они видели сами или сумели разузнать». Действительно, осмотрительные дипломаты заботились о том, чтобы их письма не попадали в чужие руки, что сильно раздражало их слуг — полицейских агентов, ревностно служивших своим патронам. Агент Шмидт жаловался Хагеру на то, что не может ничего добыть в доме Талейрана.
«Это своего рода крепость, в которой он держит гарнизон, состоящий из надежных и верных ему людей. Однако несмотря на все предосторожности, дело кончилось тем, что из канцелярии Талейрана удалось вынести несколько бумаг и войти в доверие к одному старому слуге, успевшему послужить трем французским послам, кроме того, удалось сблизиться с одним то ли охранником, то ли мелким служащим канцелярии и с его помощью получить несколько разорванных Талейраном документов из корзины для бумаг в его кабинете. У полиции нет никакой надежды на полезные контакты ни с посетителями, ни с гостями Талейрана. Все это либо иностранные дипломаты, преследующие только свои собственные интересы, либо местные чиновники и дипломаты, уже завербованные другими и находящиеся в полном повиновении у этих высокопоставленных лиц… У Дальберга полиция сталкивается с теми же трудностями, что и у Талейрана. Дальберг живет в том же доме, к тому же он немец и досконально знает город, а также обстановку, в условиях которой ему приходится работать».[99]Дипломатические миссии защищались, как могли, от нескромных поползновений как профессиональных, так и добровольных шпионов. Лучше всех свои секреты хранили англичане. Их почта отправлялась в Лондон в «дипломатических портфелях», и таким образом избегала «черного кабинета» Хагера. «Перехватить хоть что-то совершенно невозможно, — пишет 4 октября 1814 года начальнику Полиции двора анонимный агент. — Лорд отправляет всю почту со своими собственными курьерами, а секретари собирают и сжигают все ненужные бумаги. 2 октября были отправлены курьеры в Мюнхен, Брюссель и Неаполь, после чего до 2 часов утра жгли бумаги».[100] Один из агентов наблюдения за английским посольством сообщал своему шефу, что бесполезно пытаться узнать о содержимом сундука, хранимого лордом Каслри в своем кабинете, потому что он хранит в нем только личные письма, «и, таким образом, затрата времени и опасность таких попыток были бы неоправданными» (из рапорта Хагера императору от 8 октября 1814 г.). Англичане привезли с собой из Лондона даже горничных, так что ни один венец ни под каким предлогом не мог войти в этот дом. Опасаясь утечки информации в гостинице, где он поначалу жил — Im Auge Gottes (Под Всевидящим оком), — посол переехал на второй этаж дома номер 30 на Миноритенплац, но небезынтересно отметить, что полиция не отказалась от изучения разорванных и выброшенных в корзину документов; если горничные, считая клочья бумаги не представляющими интереса, не задумываясь сбывали их скупщикам тряпья, те тут же несли добычу на стол к Хагеру. Делались также попытки напоить секретарей Каслри за столом в случайной приятной компании и выспросить у них все, что можно. Один из агентов Полиции двора сообщает своему начальнику, что англичанин Парр, которого он спросил о том, как его соотечественники проводят досуг, ответил: «Они проводят свободный день, осматривая достопримечательности столицы и ее окрестностей. По вечерам же отправляются в дом принимающей их очень гостеприимно юной графини Ржевуской, а затем к какой-нибудь девице и напиваются будайским вином».[101]
Памфлеты и сатира
Император интересовался также мнением населения об иностранных высочайших особах. Он постоянно требовал сообщений о том, какие прозвища дают им острые на язык венцы. Они посмеивались над шведским наследным принцем Бернадотом, вспоминая его злосчастное посольство в Вене после Кампо-Формио и инцидент, который он спровоцировал, выставив на балконе особняка Геймюллера трехцветный флаг в момент, когда знамя революции было особенно ненавистно венцам. Прозвища часто давали по названиям улиц и площадей Вены, перекликавшимся с какими-нибудь характерными особенностями королей. Так, толстого и распутного короля Вюртембергского прозвали Флайшмаркт («Мясной рынок»), известного своею безденежностью датского короля окрестили названием улицы Им Эленд («В нищете»); теперь уже никто не знает, какому скандалу или какой особенно смешной черте поведения были обязаны русский великий князь Константин тем, что его имя связали с улицей Гвоздей, а прусский король — прозвищем по названию улицы Виндмюле («Ветряная мельница»). Все более частые галантные визиты царя Александра к придворным красавицам, отнюдь не выказывавшим неприступной добродетели при общении с владыкой всея Руси, стоили царю прочно закрепившегося за ним прозвища по названию уголка города, который венцы называли Им зюссен лох, что означает «приятная дырочка». Должно быть, именно по причине авантюрных вольностей, которыми так злоупотребляли некоторые члены конгресса, некто Майер, вхожий в дома князя Кауница и барона Хакке, занялся выгодным ремеслом — продажей князьям и другим вельможам лекарств от венерических болезней, что следует из доклада Хагера императору от 23 октября 1814 года.[102] Жители Вены недолго чувствовали почтительную робость к наводнившим их столицу великим мира сего. Они беспощадно высмеивали их пороки и комические черты характера. Русский император стал человеком, «Довольным всем» или «Любящим за всех», прусский король — «Думающим за всех», король Дании — «Говорящим за всех», король Баварии — «Пьющим за всех», великая княгиня Ольденбургская — «Любящей всех». Что же до императора Франца, на чью долю выпало оплачивать расходы по колоссальному гостеприимству, оказанному высочайшим особам, дипломатам и целой толпе сопровождавших их лиц — а уж налогоплательщики-то в этом кое-что понимали, — то его прозвали «Платящим за всех». Сатира обильно разливалась также в виде памфлетов в форме театральных афиш. В одной из них анонсировалась пьеса под названием Трон, поколебленный обрушившейся стеной. Второе представление Свергнутого Наполеона. Разбитый Мюрат — представление в пользу союзников. Цены на места были обозначены так: «На галерке: один луи. Место в партере: один наполеон».[103] Рекомендовали рецепт приготовления уксуса «Четыре Вора», знаменитой приправы того времени, из маршалов Наполеона: «Поставьте средних размеров котелок на сильный огонь, добавьте туда Даву, Нея и красавчика Бертрана, а также, без приправ, начальника полиции Савари. Доведите до кипения, удалите плесень и получите уксус „Четыре Вора“».Первые роли
Лорд и леди Каслри сильно веселили зевак чисто английским безразличием к тому впечатлению, какое они могли произвести на венцев. Они фланировали по улицам города рука об руку, одетые по лондонской моде, которая не имела ничего общего с венской, и, используя любой повод, смеялись решительно надо всем. Они заходили во все магазины, требовали, чтобы им показывали различные товары, долго их рассматривали и наконец уходили, ничего не купив. Венцы единодушно критиковали неуважительный поступок леди Каслри, которая на каком-то маскарадном балу в доме князя Меттерниха вплела в свою прическу ленту ордена Подвязки своего мужа.Каслри
Лорд Каслри был одной из самых необычных и самых таинственных фигур конгресса. Присущие ему холодность, непреклонность и непроницаемость сделали его непопулярным. По происхождению ирландец, он был одним из главных инициаторов пакта, согласно которому Ирландия была передана Англии. Томас Мур и О’Коннел называли его Убийцей родины, а Шелли в двух знаменитых великолепных строках заклеймил его следующим образом: «Я встретился с Преступлением, на нем была маска Каслри». Очень надменный и очень застенчивый, он страдал, когда его просили выступить публично: практически неспособный общаться с окружающими, он, естественно, всегда был очень одинок, и именно этим обстоятельством объясняется овладевшая им в конце жизни меланхолия, заставившая его перерезать себе горло бритвой. Байрон использует по его адресу самые оскорбительные эпитеты; он называет его «грубым потакателем рабству» из-за отсутствия энтузиазма в отношении отмены торговли нефами, обвиняет в «неспособности ни к чему даже в своей отвратительной торговле», называет его «интеллектуальным евнухом», «бесчувственным, безмятежным и медоточивым нехристем». В глазах либеральных поэтов Каслри разделял с Меттернихом позор «пособничества реакции»; романтический лиризм не мог не осуждать свойственную этому застенчивому человеку мрачную, холодную манеру говорить, его речь, по выражению того же Байрона, представляла собой «бесконечный поток крови и воды». Спесь этого дипломата, даже само его молчание, которое вызывало беспокойство и казалось угрожающим, — все это делало его неприятным для тех, кто к нему приближался. «Дворянину приличествует непопулярность», — говорил он. Гарольд Николсон в своей книге Венский конгресс[104] набросал прекрасный и верный портрет этой необычной личности, как говорили венцы, «странной даже для англичанина». Каслри страдал одиночеством души и получал очень мало удовольствия от радостей жизни. Малоспособный на близкие отношения, он никогда не раскрывал сокровенных уголков своего «я» даже перед единственными двумя существами, кого по-настоящему любил, — собственной женой и сводным братом Чарлзом Стюартом. Леди Каслри с ее вульгарно-веселым нравом и блаженным самодовольством была недостаточно умна для того, чтобы понимать тайны характера Каслри. Его одержимому тщеславием сводному брату недоставало чувствительности. Застенчивость, терзавшая Каслри с самого детства, проведенного в Каунти Дауне, привела к тому, что он стал прятаться за ледяным фасадом своих хороших манер. Этот человек с прекрасной осанкой и невозмутимым видом носил простую, строгую одежду, контрастировавшую с золотыми галунами и орденами высочайших иностранных особ и полномочных представителей; на не слишком правильном французском языке он обменивался стандартными ледяными комплиментами со своими собеседниками. Казалось, даже от соотечественников он старается отдалиться. «Он не может ни чувствовать, ни притворяться», — замечал Канниг. «Враг парадности», — писал герцог Бекингемский о его темпераменте. Тонкость его натуры понимали только те, кто видел, как нежно он ухаживает за цветами в саду Норс Грэй или играет с детьми. Для заполонившей Вену толпы иностранцев он был загадочной фигурой. Всех поражало достоинство его патрицианской походки, и они подшучивали над его частной жизнью, похожей на жизнь буржуа. Они рассказывали друг другу о том, как воскресным утром лорд Каслри с женой и свояченицей, с секретарями и слугами собираются в гостиной на Миноритенплац, чтобы петь под аккомпанемент фисгармонии гимны англиканской церкви. Осведомленные венцы посмеивались над уроками танцев, которые тайно брали супруги Каслри; извлекли они из этих уроков очень мало и задыхались, вальсируя одни в своей гостиной, чтобы выглядеть наилучшим образом на официальных балах. Каслри имел несчастье быть женатым на настоящей дуре, которая в молодости была хорошенькой, но быстро растолстела, а ум ее был столь же неповоротлив, как и тело. Ее отлично описала леди Бессборо,[105] сказавшая о ней следующее: «Я не знаю никого, кто был бы всегда так одинаково равнодушно настроен, и все же она порой меня раздражает; взгляд ее круглых серых глаз выражает такое самодовольное презрение к жизненным обстоятельствам, что я задаюсь вопросом о том, встречалась ли она когда-нибудь хоть с одной неприятностью и знает ли хотя бы смысл слова „тревога“. Она говорит с одинаковым равнодушием об артиллерийских обстрелах и о каких-нибудь собраниях, о детях и о мебели, о пустоте Лондона и о резне в Буэнос-Айресе, о нарастающей усталости лорда Каслри и о сомнительном успехе оперы г-на Гревиля — все эти темы проносятся в ее мозгу так стремительно, никак не влияя на однотонность ее голоса и выражение лица, что, судя по всему, эти события имеют в ее глазах совершенно одинаковое значение». Нелепая идея украсить для маскарадного бала свою прическу лентой ордена Подвязки — представьте себе жену президента Французской республики, отправляющуюся на званый обед с большой лентой ордена Почетного легиона, намотанной на голову в виде тюрбана! — была всего лишь одной из тех наивных глупостей, которыми она питала записные книжки недоброжелательных хроникеров. Другие члены английской делегации не отличались ни прекрасной выправкой, ни сдержанностью, присущими Каслри. Его сводный брат, сэр Чарлз Стюарт, который станет в будущем маркизом Лондондерри, был довольно хорошим дипломатом, но человеком тщеславным, порядочным хвастуном и в силу этого откровенно непопулярным по причинам, противоположным причинам непопулярности Каслри, которые, в общем, были достойны уважения. Если Стюарт кому-то не нравился, то виной тому были его недостатки, которые он выставлял напоказ, а также его смешные черты, потому что он был слишком доволен собой, чтобы их осознавать. «Наглый пройдоха, не умеющий себя вести», — вот мнение о нем немецкого издателя Бертуха, который был другом Гёте; венцы называли Стюарта «лордом Пумперникелем».[106] Это не мешало ему проявлять некоторый ум, в особенности когда речь шла о том, чтобы употребить его во вред другим. Это он говорил о британском после в Санкт-Петербурге лорде Кэткарте, довольно медленно соображавшем и не более прытком в разговоре: «Он всегда начинает думать только после того, как его собеседники уже закончат этот процесс». Другой англичанин, сэр Сидни Смит, не входил в состав британской делегации, а представлял в Вене шведские интересы.[107] Своим прозвищем «Морской бог», которое очень веселило венцев, он был обязан тому, что, будучи адмиралом английского флота, взял Сен-Жан-д’Акр. «Чистый фанфарон», — заметил, однако, Крокер, который третировал своих соотечественников не меньше, чем иностранцев. Единственной проблемой, интересовавшей Сидни Смита, было уничтожение берберских пиратов. Он считал, что у конгресса не может быть более важной и более неотложной цели. Очень самонадеянный на этой почве, одевавшийся со смешной, кричащей роскошью, он устраивал пышные праздники, на которые никто никогда не приходил, настолько уродливо-комичным и назойливым казался этот персонаж. Эксцентричные выходки этих англичан веселили венцев. О некоторых из них говорится в полицейских отчетах, например: «Позавчера лорд Стюарт опять отличился. Он возвращался домой через Грабен и Кольмаркт. Голова лошади, на которой он ехал, была покрыта ландышами, а сам он держал в руке огромный букет этих же цветов, смеялся во все горло, и весь его вид говорил о том, что он выпил лишнего. Прохожие останавливались на улицах, чтобы полюбоваться этим и посмеяться над ним».[108]* * *
Заботы о пиратах очень далекого от Стокгольма Средиземного моря, которые взял на себя Сидни Смит, этот «швед» по своему положению на конгрессе, дают представление о том, насколько многочисленны были вопросы, подлежавшие решению на этом европейском форуме. Речь шла уже не только о европейской проблеме, которую великие державы намеревались урегулировать между собой, но и о малых государствах, и о национальностях. Наряду с представителями государств как таковых на конгрессе присутствовали бесчисленные и разнообразные делегации всякого рода, приехавшие, чтобы защитить свои не менее разнообразные интересы: делегация Мальтийского ордена, великий магистр которого Каррачиоло хотел, чтобы конгресс его официально признал, делегация немецких издателей, представленных знаменитым книготорговцем Коттой, публиковавшим полное собрание сочинений Гёте, и его веймарским коллегой Бертухом, выпускавшим очень интересную газету о работе конгресса. Именно благодаря Бертуху мы знаем о большом бале-маскараде 8 ноября 1814 года у Меттерниха, где уже известным нам образом отличилась леди Каслри, а также об успехе концертов, на которых дирижировал Бетховен. Была там и турецкая делегация, руководитель которой Маврожени-паша поставил в повестку дня конгресса щекотливый вопрос о Греции и Балканах. Был и кардинал Консальви, представлявший папу и оставивший забавное описание бала у Сидни Смита. Были и такие гротескные персонажи, как Педро Гомес Лабрадор, выступавший от имени своего хозяина, короля Испании, и с чисто кастильской надменностью накладывавший вето на все решения, в которых, по его мнению, честь Испании не была достаточно удовлетворена. Участвовали в конгрессе и две делегации Неаполитанского королевства, одна — присланная Мюратом,{36} другая — Бурбонами, которые объединялись, когда речь шла о Южной Италии. Еврейская община Германии, представленная франкфуртскими евреями, требовала более либеральных законов для своих немецких единоверцев. Натан Ротшильд либерально «подмазывал» некоторых полномочных лиц, чтобы добиться принятия к рассмотрению этого требования, которое должен был изложить немецкий посол Генц.Принц де Линь
В повестке дня конгресса присутствовал и вопрос о работорговле, но рабы своих делегатов не прислали, что сильно вредило их делу. Понятно, что в этих условиях принц де Линь, который один думал не только о балах и вальсах, ответил кому-то на вопрос о том, как, по его мнению, идет конгресс, фразой, ставшей знаменитой: «Конгресс не идет, он танцует!» Этот любопытнейший человек принц де Линь, чьи словечки подхватывались и в салонах, и на улицах Вены, оставшийся молодым в свои восемьдесят лет, зимними ночами назначал свидания на улице красоткам, до которых был большим охотником. Там он простудился и 13 декабря 1814 года умер в своем доме на улице Мёлькербастай. Эта смерть погрузила в траур всю Вену: «Смерть принца де Линя произвела глубокое впечатление на венцев и огорчила всю Европу, где его знали, уважали и любили. Он был идеально добрым человеком, и если ему, разумеется, и были свойственны какие-то странности и даже недостатки, ему нельзя было отказать ни в шарме, ни в приветливости, ни в достоинстве, ни в уме, равного которому, может быть, не было и не будет».[109] Его насмешливость никогда не была злой. Он очень редко задевал кого-нибудь всерьез. Впрочем, генерала Уварова, повсюду сопровождавшего императора Александра, он называл «душителем», зная о его роли в убийстве Павла I. Передают отрывок его разговора с Талейраном, характеризующий склад его ума, его искренность и смелость. На его слова, обращенные к князю Беневента:{37} «Вы теперь играете великую роль, это вы французский король, а Людовику XVIII остается лишь плясать под вашу дудку, без чего он чувствовал бы себя плохо», Талейран ответил: «Принц, Бонапарт семь лет относился ко мне с подозрением». — «Как, только семь? — всплеснул руками принц де Линь. — У меня вы на подозрении уже двадцать лет!» Самым необычным надгробным словом этому умному человеку была фраза папского нунция, всегда смотревшего на него довольно косо: «Венские франкмасоны потеряли в его лице свою самую мощную опору, своего самого ревностного защитника». По крайней мере, именно эти слова приводит агент Фредди, имевший свободный доступ в резиденцию нунция и умевший извлекать из этого пользу.Талейран
Когда Талейран ответил кому-то на вопрос, что он делал во время конгресса, исторической фразой: «Я хромал», он имел в виду не столько свой физический недостаток, который с самого детства обрек его на необходимость стать священником, сколько своего рода «моральную хромоту», ставшую основным содержанием его политики на протяжении всей карьеры при различных режимах, которым он служил. Его позиция была двусмысленной и не могла быть иной в условиях, при которых Франция предстала на конгрессе. Самый беспристрастный его образ, нарисованный в журналах и в переписке того периода, — это образ обеспокоенного, сбитого с толку человека, чье лицо выдавало то «моральное и физическое разложение», о котором говорит мисс Берри.[110] Именно таким его видит и другой англичанин, Крокер: «Он немного тучен для француза, у него слабые лодыжки и деформированные ноги, заставляющие его передвигаться какой-то странной рысью. Лицо его ничего не выражает, разве что отражает нечто вроде алкогольного ступора. Действительно, он выглядит, как постаревший, подвыпивший и хромой школьный учитель. Голос у него глубокий и хриплый».[111] В действительности за этим отсутствием выразительности крылись размышления и планы государственного деятеля, верившего в необходимость реставрации, но понимавшего, что возможно и возвращение Орла{38} — ближайшее будущее это скоро подтвердит, — и намеревавшегося не только остаться в этой игре при своем интересе, но также обеспечить интересы Франции, какой бы оборот ни приняли впоследствии события. Таким мы видим его на портрете, написанном в тот период Ари Шеффером, — замкнутым, твердым, непроницаемым, с плотно сжатыми тонкими губами, с полуопущенными веками. Это не подвыпивший учитель начальной школы, каким его изображает английское недоброжелательство, но государственный деятель, прозорливый и осторожный, все более подозрительный по мере приобретения опыта в условиях неустойчивости человеческих ценностей и огромной ответственности, выпавшей на долю этого выразителя интересов Франции в те трагические месяцы. Талейран жил во дворце Кауница на Йоганнесгассе, недалеко от собора Св. Стефана. Он привез с собой в Вену профессиональных дипломатов Латура дю Пена, Дальберга, Ла Бенардьера, Алексиса де Но-ай, а также своего любимого музыканта Нойкомма, австрийца по происхождению, чьи родители по-прежнему жили в Зальцбурге. Любовь к музыке, которую выказывал князь Беневента, вызывала у венцев симпатию к нему; они наперебой рассказывали друг другу о том, с каким удовольствием француз слушает игру на фортепьяно, даже работая со своими документами. Хотя ему случалось по целым дням не обменяться ни с кем ни единым словом, Талейран просил играть находившегося всегда рядом Нойкомма, очевидно, испытывая потребность в музыкальном звуковом фоне, чтобы лучше сосредоточиться и собраться с мыслями. Нойкомм рассказывал друзьям, что, играя рядом с письменным столом министра нередко долгими часами (тот торопил его продолжить игру, даже когда усталость заставляла музыканта на минуту оторвать руки от клавиатуры), он не раз задавался вопросом, действительно ли Талейран его слушает или же размышляет, не обращая никакого внимания на то, что происходит рядом с ним. Талейран считал, что каждый должен пойти на некоторые жертвы, чтобы обеспечить Франции длительный мир. Тем, кто считал, что каким бы ни было решение, принятое перед закрытием работ конгресса, оно все равно никого не удовлетворит, он отвечал: «Так и должно быть. Все должно кончиться именно этим. Чтобы все пошло хорошо, каждый должен уехать недовольным и осознать необходимость пойти на жертву. Именно из этих отдельных жертв родится всеобщее согласие и всеобщее благополучие». Единственным иностранным монархом, понимавшим и уважавшим Талейрана, был император Франц. Как писал Талейрану маркиз де Боннэ в письме, известном нам потому, что австрийская полиция перехватила его и сняла копию перед доставкой адресату, «я не знаю, как это Вам удалось, но уверяю Вас, что он не перестает вас восхвалять, причем (может быть, даже не без злого умысла) больше, чем любого другого монарха и премьер-министра».Александр I
Русский царь в период с весны 1814-го до своего отъезда 28 мая 1815 года был, вероятно, самой популярной личностью из всех находившихся в Вене высочайших особ. Благодаря этой популярности, а может быть, из-за величественной правильности черт его лица бюсты царя не раз использовались для рекламы продукции венских пастижеров. Один из этих бюстов можно было видеть на соборной площади, другой — на Швертгассе. Они были установлены в витринах и служили для показа париков. Русские офицеры, считавшие это тяжким оскорблением для императора, попытались убедить пастижеров найти для этой цели другие манекены, а получив отказ, решили обратиться в полицию. Там им ответили, что это — проявление симпатии, вовсе не свидетельствующее о неуважении, и что сам царь, разумеется, никоим образом не обижается. На самом деле у Александра было слишком много других забот, чтобы разглядывать витрины парикмахеров. Самодержцу и мистику, наделенному богатым воображением и подверженному депрессии, ему было суждено таинственно закончить жизнь, возможно, перевоплотившись во искупление грехов в мужика-странника, своего рода отшельника, старца.{39} Всю свою жизнь он чувствовал себя подавленным трагическим событием, перевернувшим его отрочество, — убийством царя Павла I, организованным его женой императрицей Марией, матерью Александра.{40} (Екатерина II была бабушкой Александра I, а его матерью была княгиня Вюртембергская Мария Федоровна. Екатерина II всвое время тоже устроила заговор, в результате которого был убит ее муж Петр III.) Основные черты этого непостижимого человека высветил Гарольд Николсон, и мы в очередной раз цитируем его превосходный труд:[112] «Реакции Александра были непредсказуемы. „Было бы трудно представить себе человека, более умного, чем император Александр, — говорил Наполеон Меттерниху, — но ему чего-то не хватает, и мне так и не удалось понять, чего именно“. Современному психиатру не потребовалось бы большого труда, чтобы выявить этот отсутствующий элемент на фоне крупных дарований и выдающихся качеств царя: у него отсутствовала способность к согласованности действий. Отягощенный бременем отцовского безумия, император Александр страдал раздвоением личности, или шизофренией, которая в конце его жизни переродилась в неврастенический психоз». Выискивавший в Библии предначертания, которые руководили бы его поступками, находивший для себя удовольствие только в общении с солдатами, отстраненный и мрачный во время самых веселых празднеств, он предпочитал балам военные парады. «Я ненавижу гражданских, — сказал он как-то своим министрам, — я солдат, и мне нравятся только солдаты». Однажды вечером на балу у князя Меттерниха он сказал княгине Эстерхази, что предпочел бы большой парад, на котором присутствовал утром. «Этот праздник прелестен, но после утреннего он уже вроде бы ни к чему. Бал прекрасен. Зала большая и красивая. Но здесь всегда толкутся дипломаты, и мне не нравится вся эта фальшь». Когда он высказал эту же мысль своему послу Разумовскому, который был умным человеком и почитателем искусств — в его доме много музицировали, и Бетховен, с которым он был близко знаком, даже посвятил ему некоторые из своих самых прекрасных произведений, — тот ответил на критическое замечание императора: «Мне очень приятно это слышать. Чтобы доставить удовольствие Вашему Величеству, я приглашу на свой бал роту из вашего полка». Его непостоянство распространялось и на область «небольших приключений» — бесчисленных связей царя, которые были в Вене на протяжении всего конгресса предметом досужих разговоров и шуток. Он мучил оскорбительными высказываниями императрицу, без конца упрекая ее в том, что она не так красива и умна, как ее сестра, вынуждал ее принимать женщин, которые были — или считались — его любовницами. Он восхищался герцогиней Саган, княгиней Багратион, графиней Нарышкиной, княгиней Эстерхази и подчеркнуто ухаживал за ними. Его благосклонности были удостоены Юлия Зичи и другие женщины, принадлежавшие к нетитулованной аристократии и даже к полусвету. Он привез с собой из Санкт-Петербурга банкира Шварца специально для того, чтобы не расставаться с его женой, которая в последнее время была в самых близких отношениях с Его Величеством. Это, впрочем, не мешало красивой г-же Шварц принимать у себя также маленького фон Шольтена, адъютанта датского короля, который в часы особой доверительности добывал ценные сведения, вероятно, также не миновавшие Полицию двора. В Вене не было никого, кто не был бы в курсе «скромных забав», которым предавался царь со своими приятельницами. На одном из ужинов в доме графа Зичи Александр и графиня Врбна-Кагенек задались вопросом: «Кому нужно больше времени на раздевание и одевание, мужчине или женщине?» Для решения этой задачи они вместе вышли из гостиной, чтобы раздеться и одеться и проверить таким образом мнения, высказанные присутствовавшими. Говорят, что пари выиграла графиня. Невинные игры? Возможно, но разговоры об этом разнеслись по всему городу, и некоторые венцы высказали свое мнение об Александре в том смысле, что поначалу, мол, они восхищались его представительностью, прекрасным выражением лица и величием, но ко всему этому они быстро привыкли, а теперь он представляется им не больше чем обычным мужчиной, игрушкой в руках женщин. При этом они добавляли, что, когда он покинет Вену, жалеть об этом будут только девицы легкого поведения. В этом Вена была несправедлива: Александр приглядывал себе любовниц главным образом в высшем свете, где встречал полное угодничество, тогда как другие высочайшие особы, например, такие, как великий герцог Баденский, проводили все свои вечера в злачных местах. Папский нунций сурово осудил сеанс раздевания у Зичи. В присутствии агента Фредди, который все передал полиции, он весьма ясно высказался следующим образом: «Вот какие люди управляют миром! Скандальная хроника конгресса добавит сие премилое приключение к другим отвратительным и достойным порицания чертам этого фата из фатов, и история когда-нибудь напомнит потомству о том, что дворец Цезарей служил борделем для русского царя». Не будем столь строгими, как достойный прелат. Разумеется, во время конгресса много развлекались, много вальсировали, много занимались любовью, да и могло ли быть иначе? У этого общества была потребность развлекаться, и если ему нравились главным образом фривольные развлечения, если в целом оно охотнее слушало Иоганна Штрауса и его «дьявольскую скрипку», нежели Бетховена, то не потому ли, что в этих «сумерках монархий» люди тщетно пытались сохранить легкомысленное общество, все еще охваченное беспечностью XVIII столетия, блистающее изяществом, очарованием, роскошью и красотой? Как восхитительны были поцелуи всех этих женщин чарующей красоты, которой мода эпохи добавляла ранее неведомую пикантность, и они значили для собравшихся в Вене Высочеств, пожалуй, больше, чем судьба Европы. Герцогиня де Саган, княгиня Багратион, Аврора де Марассе, Юлия Зичи, княгиня Голицына, несомненно, оказали большое влияние на конгресс прежде всего тем, что заставляли его «танцевать» вместо того, чтобы «идти». Как и некоторые красавицы из буржуазных семей, такие, как г-жа Шварц, г-жа Морель, г-жа Биготтини, а также г-жа Фишер, продававшая свою дочь не самому титулованному, а тому, кто больше всего заплатит. Какой можно было бы издать прекрасный альбом портретов «женщин Венского конгресса», от гранд-дам до уличных шлюх, в чьих домах напивались англичане! Вся Вена знала — или, по крайней мере, догадывалась — о том, что у герцогини де Саган была внебрачная дочь от никому не известного отца и что в дома этих знатных дам наряду с Высочествами заглядывали на огонек мужчины из мелкого — или крупного — дворянства, состоявшие на учете в Полиции двора, а также авантюристы всех стран, ловившие рыбу в мутной воде этого карнавала наций, продолжавшегося почти целый год. Вена не могла избежать последствий этой деморализации, зрелище которой ежедневно разворачивалось у нее на глазах. Медлительность конгресса, заставившая Гумбольдта ответить на вопрос о том, когда закончится конгресс, знаменитым встречным вопросом: «Скажите мне лучше, когда он начнется», вынуждала Меттерниха расходовать много денег и воображения, чтобы развлекать блистательных гостей столицы. «Превосходный режиссер-постановщик» дипломатических заседаний, как его называет Лейтих,[113] Меттерних должен был без конца бороться с бережливостью, чтобы не сказать скаредностью своего хозяина императора Франца, которого справедливо беспокоили чрезмерные расходы на всю эту толпу иностранцев, живших на деньги империи. Было подсчитано, что каждый обед обходился в пятьдесят тысяч флоринов. С другой стороны, покупали все эти гости мало, даже если и не подражали привычке лорда и леди Каслри заходить во все магазины, не делая ни единой покупки. Народ жаловался на это, как отмечает датский дипломат Хегардт: «Однако венская публика, такая жадная до зрелищ и развлечений, начинает уставать от непрерывных празднеств, и праздник в честь отъезда августейших иностранцев был бы для нее, вероятно, самым желанным, тем более что венцы относят на счет столь длительного пребывания гостей в столице чрезмерную дороговизну, увеличивающуюся с каждым днем, и опасаются, как бы огромные расходы императора на удовольствия гостей не легли на плечи подданных контрибуцией, которую иронически называют Bürgeinquartierung Steuer (налог на размещение по казармам). Можно предположить, что император сам с удовольствием выпроводил бы из Вены всех этих августейших особ, которые с семьями и многочисленными свитами живут здесь за его счет да еще и обременяют заботой о том, чтобы их развлекать, вынуждая его самого вести совершенно непривычный для него образ жизни». Советник датской миссии был прав: Францу не терпелось покончить с этими бесконечными промедлениями; он знал, что народ недоволен, что дамы из аристократических и буржуазных кругов обижаются, если их не приглашают на празднества, а когда приглашают, они сетуют по поводу расходов на платья и украшения, необходимые для того, чтобы появляться на людях в лучшем виде. В свою очередь их мужья приходили в ужас от того, как тают деньги, расходующиеся на украшения, шали, шарфы и туалеты. Многие из них также хотели, чтобы из Австрии как можно скорее убрались шустрые адъютанты и галантные секретари посольств, слишком тесно прижимавшиеся к их супругам, заставляя этих дам без конца вальсировать. Люди устали от всего этого и даже от шуток по поводу ожирения вюртембергского короля, которого называли не иначе как вюртембергским чудищем. По рукам ходила карикатура, на которой он был изображен с воздетыми к небу руками в отчаянии от того, что огромное пузо мешает ему видеть пуговицу на собственных штанах, пуговицу, на которой изображено его королевство. Надпись на этом рисунке гласила: «О, как я несчастен! Я даже не могу увидеть свои провинции!» Все понимали, что возможность весело обсуждать быстро набившие оскомину внебрачные забавы русского императора не стоит миллиона флоринов, ушедшего на организацию его пребывания в Вене. Добрые венцы уже перестали замечать, проводит ли он ночи у той или у другой дамы. Для веселых пересудов было достаточно циркулировавших по городу копий перехваченного полицией[114] письма Александра красавице голландке Луизе-Фре-дерике Бооде, законной супруге Симона-Мориса де Бетмана. Воспользуемся нескромностью полиции и почитаем через плечо Хагера это любовное послание царя всея Руси. Оно было послано по адресу некоей м-ль Идцштайн из Франкфурта, которая была доверенным лицом и «почтовым ящиком» любовников, когда им приходилось разлучаться друг с другом:Наконец-то я получил, любимая, твое письмо. Мои глаза, так долго лишенные возможности читать написанные твоею рукой строки, счастливы созерцать твой прекрасный почерк, один вид которого подтверждает, как ты мне дорога, как вся вселенная стирается из моих глаз, когда от тебя приходит хоть какая-то весточка. Мое счастье дополняется уверенностью в том, что ты здорова, что то единственное маленькое существо, о котором ты так искусно даешь понять, тебе не безразлично, одним словом, предмет твоих нежных ласк… Как после таких слов выразить все то, что заполняет мое сердце? Мне необходимо все сознание своего долга, все…[115] понимание неосторожности, которую я допустил бы, если бы ускорил ход вещей и полетел к тебе на крыльях любви, чтобы умереть в твоих объятиях. Я осмелился дважды написать тебе, даже не получая твоих писем. Я послал эти письма, как и раньше, через нашу приятельницу, но ты не обмолвилась о них ни единым словом, что заставляет меня опасаться, как бы они не потерялись. Способ, который ты использовала для того, чтобы до меня дошло твое письмо, очень хорош и надежен. На коленях заклинаю тебя: пиши мне еще! Прощай, моя единственная любовь.Возможно, он был искренен. Непостоянство его характера приводило к тому, что он, как в политике, так и в любви, жил полностью и исключительно настоящим мгновением. И даже если он писал далекой возлюбленной с такой трогательной простотой, с такой наивностью школьника, при этом едва освободившись от объятий г-жи Шварц и в предвкушении ласк герцогини де Саган, это вовсе не означало, что все его слова не соответствовали самым точным образом его мыслям, его самому искреннему чувству.
Меттерних
В этом водовороте интриг и удовольствий, которым он руководил с трезвостью уверенного в себе гениального политика, Меттерних не переставал стремиться к успешному проведению в жизнь своей программы — возвращения к абсолютизму. Некоторые присутствовавшие на конгрессе Высочества его откровенно ненавидели, называли Скапеном от Дипломатии, но более прозорливы были те, кто дал ему прозвище Утес Порядка. О нем говорили также, что, действуя как борец за легитимность, он хотел остановить колесо истории. Несгибаемый, непоколебимый во всем, что он считал истиной, справедливостью и благом, Меттерних был полной противоположностью Талейрану, сурово осуждавшему князя уже в силу коренного различия их характеров. После одного особенно бурного заседания — против него крайне жестко выступал царь — князь Беневента писал: «Князь Меттерних показал на этом заседании всю глубину своей посредственности, склонность к мелочным интригам, сомнительную изворотливость, а также виртуозную способность пользоваться расплывчатыми формулировками и лишенными содержания словами». Зато его позиция была высоко оценена такими мелкими монархами, как вюртембергский король и неаполитанские Бурбоны, чьи интересы он защищал не из уважения к этим лицам, а единственно потому, что они олицетворяли собой принцип легитимности, ради которого он был готов идти на любые жертвы. Этот абсолютист, мечтавший о сохранении отживших способов правления и мышления, считал себя прогрессивным человеком. Он как-то сказал: «Мне следовало родиться в 1900 году, чтобы иметь перед собой весь XX век». Враждебно относясь к конституциям, парламентаризму, ко всему тому, что отдавало либерализмом или якобинством, Меттерних в этом отношении был отсталым человеком, но во внешней политике он исповедовал гораздо более передовые убеждения, нежели его современники. Гарольд Николсон, очень точно проанализировавший его характер и пропагандировавшуюся им «систему»,[116] справедливо заметил, что Меттерних искренне и твердо верил в «европейское согласие» как в нечто превосходящее интересы каждого из государств. И слова этого человека, написавшего, что «политика — это наука о конкретных жизненных интересах каждого государства в самом широком смысле», были пророческими. Он писал: «С тех пор как больше не существует изолированных государств, которые можно найти только в летописях языческого мира… мы должны постоянно рассматривать сообщество государств как основное условие существования современного мира. Великие аксиомы политической науки происходят от знания истинных политических интересов всех государств; именно на этих общих интересах зиждется гарантия их существования. Построение международных отношений на основе взаимности и гарантии уважения обретенных прав составляет в нашу эпоху самое существо политики, а дипломатия это лишь ее повседневное применение. Между той и другой, на мой взгляд, существует то же различие, что между наукой и искусством». Анархисты 1848 года, которые прогонят Меттерниха из столицы и возрадуются обвалу его «системы», превалировавшей на конгрессе, фактически окажутся менее современными, чем этот государственный деятель, которого считают ретроградом, потому что не понимают того, что он был фактически провозвестником и Лиги Наций, и Организации Объединенных Наций. Он понимал также, что рабочие заседания конгресса должны чередоваться с празднествами, потому что удовольствия и развлечения представляют собой некую смазку, необходимую этому механизму. Кроме того, подготовка и руководство развлечениями иностранных гостей были еще одним способом держать их под контролем. Пышность, которую афишировал Меттерних, должна была, по его понятиям, служить пропаганде Габсбургского дома и свидетельствовать о благополучии австрийских финансов. Идея о том, что для получения кредита, пусть даже только морального, следует основательно потратиться, была правильной идеей; венцы не всегда это понимали, и популярность Меттерниха уменьшалась пропорционально увеличению стоимости жизни, неблагоприятному для «средних кошельков». Если подвести итог тому, что конгресс принес венцам в смысле как выгод, так и потерь, то сальдо следует признать явно дефицитным. Торговля предметами роскоши выиграла от присутствия десятков тысяч иностранцев, но не слишком. Больше всего выгоды конгресс принес «продавцам удовольствий»: владельцам модных ресторанов, хозяевам танцевальных залов, поставщикам «свежатинки» для гурманов из высокопоставленных семейств. Большинство горожан с обычной для них мудростью наблюдали за безумиями своих блистательных гостей, но не подражали им; венцы хорошо знали, что все это не больше чем театр, которому можно удивляться, смеяться и аплодировать, но не стоит принимать это зрелище всерьез. Кроме того, продолжаясь слишком долго, оно становилось скучным и утомительным. Те, у кого кружилась голова от безумного коловращения ежедневных празднеств, достаточно быстро обрели равновесие, как только Вена избавилась от тех, в ком наконец увидела чужаков, переставших веселиться и, следовательно, не представлявших больше ни малейшего интереса. Так, после того, как погасли гирлянды танцевальных залов и отхлынуло на все четыре стороны Европы это «наводнение августейших особ», вызывавших улыбку принца де Линя, к Вене вернулся ее прежний облик. Однако Наполеоновские войны, да и сам конгресс, который был их последним актом, оставили заметные следы в общественной жизни. В Австрии, как и в других странах, они способствовали приходу к власти нового класса — буржуазии.Глава восьмая В ЦАРСТВЕ ВАЛЬСА
Опасности и радости вальса. Дворцы танца. Открытие зала Аполлона. Колоритные типы. Организаторы развлечений. Штраусы
Иностранцев особенно поражает любовь жителя Вены к танцу. Ирландский певец О’Келли, большой друг Моцарта, порой исполнявший его произведения, в своих воспоминаниях о пребывании в Вене в 1787 году уделяет много места тому, что называет неистовой, безумной страстью к танцу.«Когда приближается время карнавала, — пишет он, — всех охватывает лихорадка предстоящего наслаждения, в день его открытия достигающая пароксизма, степень которого трудно себе представить. Балы-маскарады давали в общественных залах императорского дворца, и маски до отказа забивали эти огромные помещения. Одержимость венских дам танцем и маскарадом настолько непреодолима, что они не терпят никаких помех этому любимейшему развлечению. Дело заходило столь далеко, что для женщин „в интересном положении“, которых даже это обстоятельство не могло заставить остаться дома, были предусмотрены специальные комнаты со всеми необходимыми принадлежностями на тот досадный случай, если бы наступили внезапные роды. Мне говорили об этом совершенно серьезно, и я охотно этому верю, так как действительно случались обстоятельства, в которых было совершенно необходимо принимать срочные меры».
Опасности и радости вальса
Если зрелище венских женщин, исступленно танцующих на девятом месяце беременности, и представлялось нашему ирландцу комичным, он тем не менее отмечает, что эти дамы, «вращаясь вокруг своей оси и никогда от этого не уставая, славятся грацией и изяществом движений». Они с таким энтузиазмом предаются новому танцу, что не отдают себе отчета в том, насколько вредно это упражнение для их здоровья, говорили хулители вальса. «Мне сказали, — продолжает О’Келли, — что вальсирование с десяти часов вечера до семи утра вызывает постоянное головокружение, ослабление зрения и слуха, не говоря уже о куда более серьезных последствиях». Чтобы отвратить общество от этого опасного развлечения, его противники настойчиво говорили о «смертельных» опасностях вальса, в особенности когда его танцевали так, как описывает Адольф Бойерле: в очень длинных залах, где пары, танцуя, стремились как можно быстрее преодолевать большое расстояние. Они по семь или восемь раз подряд с большой скоростью проносились по таким залам, причем каждая пара старалась обогнать другую, и нередко, как утверждает хроникер, это бессмысленное кружение останавливала чья-нибудь внезапная смерть. Несмотря на это, готовность жить для того, чтобы танцевать, и умереть от этого, казалось, настолько привилась в Вене, что ее жители не думали ни о чем другом. «Чем был танец для венца? — спрашивает Г.-Е. Якоб в очаровательной книге, посвященной Иоганну Штраусу.[117] — Было ли это своего рода успокоительное средство? Или, наоборот, возбуждающее? У нас нет ответа на этот вопрос. Это был некий отягощенный сладостной приятностью и демонизмом плод безумия и благородного легкомыслия, который не поддается анализу». К какой эпохе восходит любовь к танцу? Историки не потрудились рассказать нам об этом, но очевидно, что настолько утвердившееся и настолько распространенное коллективное пристрастие порождено не недавними временами; можно предположить, что, подобно любви к музыке, оно давно укоренилось в характере и привычках венцев. Нет сомнения и в том, что оно порождено прекрасными, порой забавными танцами, характерными для всех народов империи: тирольскими лендлерами, венгерскими чардашами, мазуркой и полькой польского происхождения, а, может быть, также и вариантами коло[118] балканских горцев. Все это перемешивалось с широко распространенными танцами XVIII столетия — гавотом, менуэтом и с другими многочисленными национальными и провинциальными танцами, которые все были почти полностью забыты, когда появился вальс. В период Венского конгресса менуэт, такой известный в предыдущем веке как самостоятельная музыкальная форма и как салонный танец, оказался забыт настолько основательно, что, когда однажды из чистого любопытства на каком-то княжеском приеме захотели вспомнить, как его танцуют, среди делегатов конгресса нашелся лишь один, способный исполнить его фигуры. Это был граф Гард-Шанбона, восхитивший зрителей своим искусством. По крайней мере, так описывает этот дворянин в своих Воспоминаниях собственные успехи в кругу участников конгресса. Нет никаких сомнений в том, что венцы всегда любили танец, но с появлением вальса эта любовь становится необузданной страстью, которую описали Бойерле и О’Келли и которая в эпоху Штраусов приобретает масштабы настоящего социального явления. Действительно, вальс — это головокружительный танец, поэтический полет, легкое опьянение, заставляющее на несколько часов забыть о банальностях повседневной жизни. Якоб задавался вопросом о том, успокоительное ли это средство или же возбуждающее. Ответ должен быть таким: и то и другое одновременно. Успех вальса кроется в том, что танцующие отдаются его завораживающему ритму, ошеломляющему кружению, усугубленному пьянящей близостью женского тела, прижимающегося к партнеру. Ведь, в отличие от вальса, в старых танцах такая близость не предусматривалась. Пользуясь словарем историков искусств, можно было бы сказать, что танец — это некая символическая форма, отражающая дух народа и эпохи. Тогда появление вальса можно было бы рассматривать как знак глубоких изменений, происходивших в обществе в конце XVIII века и перенесших в салоны крестьянский танец; такое объяснение звучит вполне правдоподобно. Но если обратиться к морфологии вальса в ходе преобразований в XIX веке, вплоть до «вальса-качания» 1910-х годов, то станет ясно, что он все больше и больше отдаляется от народных истоков, не переставая при этом оставаться самым любимым танцем жителей Вены. Нельзя будет не отметить также и то, что композиторы XIX века станут писать вальсы с тем же рвением, с каким их предшественники в XVIII веке сочиняли менуэты. И даже будет видно, как в ходе этих преобразований при переходе от Штрауса Старшего к Штраусу Младшему вальс, создаваемый отцом для танца, становится у сына симфонической формой, которую можно слушать в концертном исполнении и которую хочется больше слушать, чем танцевать, как, например, Императорский вальс. Предметом нашего внимания не является история вальса как формы музыкального выражения: она одна заняла бы целый том. Нас интересует влияние его на жизнь венцев и изменения, которые он привнес в самый облик города. Можно утверждать, что в социальном смысле приход вальса совпадает с закатом старой монархии, истинной символической формой которой был менуэт. Вальс можно рассматривать как некий «революционный» танец. Филологи связывают этимологию его названия с латинским глаголом volvere (кружить), так как его основным признаком является кружение — кружение вокруг своей оси как элемент участия в коллективном вращении, подобно некоторым танцам Востока, например тибетским. Большая подвижность этого танца и позволение тесно прижимать к себе партнершу привели к тому, что вальс стали считать непристойным и на этом основании изгонять из аристократических салонов. Слово «вальс» впервые были применено к танцу в 1780 году, и дебют этого танца на сцене состоялся в опере Мартин-и-Солера[119] Cosa rara во времена правления Иосифа II. Г.-Е. Якоб в уже цитированной книге замечает, что замена традиционного менуэта вальсом на сцене императорского театра никого не удивила. Вальс очень быстро входил в жизнь города. Вена, Австрия, вся Европа приняла этот увлекательный, чарующий танец, несмотря на все «опасности», которые он в себе таил, вероятно, по той причине, что европейское общество начала XIX века находило в нем ответы на свои стремления, видело удовлетворение своей потребности в веселье, средство выражения своего динамизма и одновременно желания забыться. Прилагательное «венский» соединилось со словом «вальс» начиная с момента, когда Европу воспламенила дьявольская скрипка Иоганна Штрауса, и «венский вальс», стержень, центр, пылающий очаг «венской оперетты», бесспорно, восторжествовал вплоть до «второго конца века», отмеченного Первой мировой войной. Вальс преобразил облик Вены, потому что удовлетворить тягу к этому «исступленному танцу», овладевшую всем населением города, от пролетариата до аристократии, было невозможно без того, чтобы директора заведений, которые в наше время так отвратительно называют «дансингами», не принялись строить большие залы одновременно с помещениями, где можно было отдохнуть, восстановить силы за едой и выпивкой. Менуэт танцевался почти без перемещения в пространстве, с изысканностью, изяществом и в темпе, который не вызывал усталости. Неистовая скорость вальса, с какой его танцевали в Вене начала XIX века, скорость, превращавшая его чуть ли не в гонку пар, приводила задыхавшихся танцоров в изнеможение. Я хорошо понимаю, что темп вальса был разным в зависимости от того, танцевали ли его в загородных ресторанчиках или в имперских салонах, но принцип был один и тот же. Чтобы воспламенить танцоров, требовался довольно большой оркестр, в котором главенствовала скрипка, этот в высшей степени романтический инструмент, полное превосходство которого объяснялось, возможно, той важной ролью, которую играли в жизни Вены венгерские музыканты, все эти цыганские примадонны, про которых говорили, что они рождаются со скрипкой в руках. Скрипка — это не только главный инструмент оркестра, играющего вальсы, но и орудие дирижера. Такие руководители оркестров, как Ланнер и Штраусы, дирижировали скрипкой, как в предыдущем веке дирижер сидел за клавесином.Дворцы танца
Люди, у которых хватило таланта для того, чтобы осознать потребности новой эпохи и нового общества, не просто хотели предоставить тысячам теснившихся в небольших зальцах вальсирующих людей место, где те могли бы свободно развернуться; они понимали, что эта публика, вероятно, состоявшая главным образом из представителей низших классов, среднего класса мелких чиновников, служащих, приказчиков, жаждала видеть себя окруженной роскошью, сравнимой с роскошью аристократических салонов, а может быть, и превосходящей ее. И они вкладывали всю свою изобретательность в то, чтобы украшать каждый залитый светом новый танцевальный зал отражающимися в громадных зеркалах хрустальными люстрами и снабжать его всевозможными аттракционами, которые превращали эти заведения в настоящий земной рай. Эта роскошь, возможно, несколько показная, но вовсе не вульгарная, как не были вульгарными ни Вена, ни дух самой эпохи, ни роскошь, знаменовавшая пришествие буржуазии и власти денег, была роскошью подлинной, воплощавшейся, например, в наличии достойной дворца серебряной посуды и в обилии цветов (балы в зале Шперля анонсировались афишами и как Sperl in floribus), в изяществе гардин, портьер и мебели. В пристроенных к танцевальному залу ресторанах по умеренным ценам подавали множество самых разнообразных блюд — как бы ни были роскошны подобные заведения, все там было достаточно дешево, чтобы каждый мог свободно наслаждаться всем этим великолепием. У посетителей с непривычки вызывало робость очень дорогое нововведение, разумеется, невиданное ни в мелких ресторанчиках, ни в пивных, а именно: превосходно натертый воском паркет, по которому можно было скользить без всякого усилия, будто вас подхватывает и несет сам демон вальса. Таких заведений становилось все больше и больше, и все они были вечно переполнены. Один немецкий журналист удивлялся тому, что каждый вечер туда устремлялись пятьдесят тысяч человек. Он подсчитал, что каждый четвертый венец посвящает свои вечера вальсу. Так было в 1809 году, когда мода на гигантские «дворцы танца» еще не достигла своего апогея. Соперничество между этими заведениями достигало такого накала, что смелые антрепренеры расходовали значительные суммы, чтобы удовлетворить спрос на роскошь, который сами же имели неосторожность пробудить в клиентах. Ловкие спекулянты, понимавшие, какую прибыль можно извлечь из танцевального безумия, охватившего жителей Вены, решили, что народные залы должны быть украшены так же богато и великолепно, как салоны знати, и часто вкладывали в это столько же вкуса, сколько денег. Это было прямо-таки феерическое зрелище. Именно тогда проявили себя такие незаурядные личности, как Прамер, Вольфсон, Шперль, Швенде, Доммайер, чья жизнь, пожалуй, похожа на удивительный приключенческий роман. Чтобы поразить воображение своих клиентов, эти директора при открытии очередного зала устраивали поистине ослепительные праздники, и сторонний наблюдатель ловил себя на мысли, что предприимчивые коммерсанты на этот вечер становятся гостеприимными бескорыстными хозяевами, ради собственного развлечения и удовольствия своих гостей раскрывающими перед ними все тонкости убранства, сравнимые с роскошью салонов крупных еврейских банкиров и дворцов Эстерхази и Кински.Открытие зала Аполлона
Возьмем в качестве примера открытие зала Аполлона, построенного Зигмундом Вольфсоном. Дата открытия была специально выбрана так, чтобы совпасть с днем свадьбы императора: оба события стали историческими. «Это было настоящим событием, — пишет Г.-Е. Якоб. — Было приглашено четыре тысячи человек. Поскольку объявленная цена входного билета составляла двадцать пять флоринов — цифра скандальная для того времени, — общий сбор в этот первый вечер дал сто тысяч флоринов. Баснословный доход, но сумма вовсе не чрезмерная, если учесть необходимость окупить по возможности в ближайшем будущем затраты на строительство дворца и в особенности на внутреннюю отделку. Одна серебряная посуда, выставленная в столовом зале, стоила больше шестисот тысяч флоринов». Вольфсон был дальновидным человеком и вовсе не казался обреченным на роль ресторатора. Он родился в Лондоне в 1765 году, учился медицине и, особенно заинтересовавшись протезами, изготовлял искусственные конечности. Революционные и имперские войны благоприятствовали развитию его производства. Он снабжал инвалидов искусственными руками и ногами, а также изобрел грыжевые бандажи, пользовавшиеся огромным успехом и принесшие ему славу филантропа. Этот щедрый благодетель хорошо умел обращать себе на пользу капризы своих сограждан. Не было ни одной красивой венки, которая не хотела бы спать на изобретенной Вольфсоном «кровати здоровья», навевавшей самые сладкие сны и возбуждавшей любовные мечты, хотя в ней не было ровным счетом ничего, кроме надувного матраца из оленьей кожи. Осыпанному почестями императором Францем, разбогатевшему на торговле бандажами, искусственными руками и «кроватями здоровья» Вольфсону удалось затмить все другие дворцы танца: зал Софьи, зал Флоры, зал У черного козла, зал Виноградная гроздь, зал У барана, зал Лунный свет, зал Новый свет. Он открыл свое заведение под знаком Аполлона, что, по его мысли, должно было обеспечить ему благосклонность как богов, так и венцев. Стоявшие вдоль стен большого зала статуи греческих богинь, муз и гениев чередовались с высокими зелеными елями. Тяжелые шелковые драпировки окаймляли двери. Вольфсон разжег любопытство венцев, опубликовав объявление, в котором сообщалось, что ему требуются двадцать четыре работника на кухню и в винный погреб, десять официантов в ресторан и четверо закройщиков. В Вене только и говорили о великолепии зала Аполлона, и каждому не терпелось в нем побывать. Перед входом теснилась громадная толпа, и для обеспечения движения пешеходов и экипажей пришлось вызвать наряд полиции. В обычные дни билет будет стоить всего пять флоринов, но и двадцать пять за вход на церемонию открытия никого не останавливали. В зал, рассчитанный на четыре тысячи танцующих, набилось пять тысяч человек, а у входа долго бушевала протестующая толпа венцев, для которых не хватило места… В одной анонимной брошюре с почти мифологическим трепетом описывается эта памятная ночь, о которой еще долго говорили венцы. «Вообразите, дорогая Клио, круглый зал с гармоничными пропорциями, со стенами пастельной голубизны, разделенными ионическими пилястрами, по обе стороны которых сверкают два зеркала. Под карнизом по всей длине проходят две выемки, перекрытые подсвеченными изнутри разноцветными стеклами. Потолок расписан мифологическими сценами. В ресторане на каждом из сотни столов либо сверкает подсвечник, либо возлежит вырезанный из мрамора дельфин, либо высится фигура какой-нибудь богини, либо мерцает сосуд в виде раковины, из которой бьет струя воды». Оркестра в танцевальном зале не видно, здесь, словно с неба, льется музыка, и яростные звуки скрипок придают ей совершенно дьявольскую окраску. В распоряжении уставших от головокружительного вращения танцоров бильярдные залы. В саду искусственные гроты, киоски со сладостями, которые расписаны горными пейзажами, создающими полную иллюзию живой природы; между купами деревьев виднеются беседки. На втором этаже здания к услугам посетителей укромные зальчики, где можно поужинать, укрывшись от тысячи глаз. Здесь предусмотрено все и учтены все вкусы. Открытие зала Аполлона прошло безукоризненно, если не считать того, что в гардеробе не обошлось без свалки, в результате чего несколько человек остались без пальто, а из-за неразберихи с экипажами кое-кому пришлось возвращаться домой пешком. В вышедших на следующий день газетах щепетильный Вольфсон извинялся перед своими гостями за причиненные неудобства и обещал возместить им все убытки. Пространные восторженные описания зала Аполлона читатель найдет в многочисленных газетах того времени и в таких трудах, как Прогулки по старой Вене (Alt-Wiener Wanderungen) Адама Мюллер-Гуттенбрунена и Описание зала Аполлона (Schilderung des Apollosales) барона фон Эфримфельда, вдохновившего Конрадена Крейцера на создание оперетты. Месяцы конгресса стали благословенным периодом для зала Аполлона. Его охотно посещали коронованные особы, с удовольствием развлекавшиеся там в компании венских буржуа. Вольфсон зарабатывал большие деньги, но кончилось тем, что из-за своей расточительности и любви к роскоши он потратил их еще больше. Девальвация 1811 года разорила венцев и сделала их более благоразумными. Флорин подешевел на восемьдесят процентов, и жители Вены стали экономить на всем. Вольфсон изо всех сил старался сохранить размах своего дела, но вскоре оно поглотило все его состояние. В разгар карнавала 1819 года на стенах, где афиши одиннадцать лет назад анонсировали грандиозную церемонию открытия зала Аполлона, появились объявления о его банкротстве: «Продается за сорок тысяч флоринов дом в Обернойштифте, бывший зал Аполлона, со всем находящимся в нем имуществом, в покрытие долгов его владельца Зигмунда Вольфсона». Поскольку каждому хотелось получить какой-то сувенир из зала Аполлона, будь то хоть какая-нибудь позолоченная серебряная тарелка или лакированный табурет, все было распродано довольно быстро, но это не спасло беднягу Вольфсона от падения с высоты роскоши и славы в мрачную нищету, и этот человек, когда-то купивший на шестьсот тысяч флоринов столового серебра, без гроша за душой прожил до восьмидесяти пяти лет исключительно благодаря благотворительности венцев.Колоритные типы
В исследуемый нами период Вена изобиловала в высшей степени характерными для нее весьма заметными и колоритными типами, вроде пивовара Антона Боша или портного Йозефа Гункля, чьи имена навсегда остались в памяти венцев. Нестрой обессмертил величайшего «чудодея одежды» в своей пьесе Der Zerrissene, что означает «Оборванец». Ее герой в какой-то момент заявляет: «У меня четырнадцать костюмов, одни светлые, другие темные. Фраки и брюки — все от Гункля, и все, кто меня видит, не могут себе представить, что, несмотря на такой гардероб, я просто оборванец». Успех этого портного определялся, разумеется, его талантом, но также и строгостью по отношению к клиентам. В одном из писем к матери юный Мольт-ке рассказывает о своем первом визите в ателье этого мастера. «Я отправился к Гунюпо, чтобы проконсультироваться по поводу моего туалета. Окинув инквизиторским взглядом мою одежду, он осведомился о том, кто мне ее шил. „Клей, в Берлине“, — отвечал я. „Сшито неплохо, — заметил художник, — но совсем не по вам“. Он порекомендовал мне темно-зеленый материал, отметил, что носить белый жилет просто глупо и что мне подходит только один вид черного галстука». Влияние Гункля на клиента было огромным: все венские щеголи безропотно подчинялись его воле, и дело кончалось тем, что он формировал не только внешний облик, но и манеры клиентов. «Он работал, как хороший живописец, — пишет Анн Тиция Лейтих,[120] — изучал клиента, его движения, привычки, возможно, даже тонкости его души и только после этого набрасывал эскиз идущего к нему платья. Поскольку он был человеком умным, его влияние выходило за рамки проблем одежды. Он добивался как внешней, так и внутренней утонченности мужской половины общества методами, которые считал необходимыми. В одежде, сшитой Гунклем, было невозможно вести себя грубо или, скажем, напиться допьяна: он считал своим долгом развивать у клиентов возвышенные чувства». Что касается пивовара Боша, то он воплощал собой дух крупного предпринимательства, овладевавший Веной в 1820-е годы. Немец из Швабии, он приехал без гроша в кармане, чтобы обосноваться в Вене, и с везением американских золотоискателей, сопутствующим удачливым авантюристам, сколотил огромное состояние. Он так кичился своим богатством, так гордился рангом, достигнутым им в буржуазном обществе, что, когда император решил пожаловать ему дворянство, отказался от этой чести, посчитав, что это было бы для него унизительно. В тогдашнюю эпоху беспорядочной и рискованной экономики скоротечное процветание часто не имело будущего. Боша разорил его зять, племянник одного из коллег по профессии Франц Денглер, баварец из Мюнхена, дебютировавший в столице небольшим кафе с садом в Хюттельсдорфе. Это заведение превратилось в огромный пивоваренный завод, поставлявший свою продукцию в роскошные салоны и по всей округе. Денглер держал множество слуг и разъезжал в карете. Художников и писателей в его роскошном доме, где звучала превосходная музыка, всегда ожидал богатый стол. Единственной печалью этого «пивного Наполеона» — называли же Иоганна Штрауса «Наполеоном скрипки»! — было отсутствие наследника. Его племянник, которому он доверил управление делами, довольствовался тем, что вел роскошную жизнь крупного сеньора, что поначалу даже восхищало его дядю и тестя, этих двух немецких пивоваров, приехавших в Вену в отрепьях и босиком. Однако мотовство юноши быстро довело до краха оба состояния, и после беспримерного изобилия Денглер и Бош впали в нищету и безвестность, подобно бедняге Вольфсону.Организаторы развлечений
Вена — это город женского склада, и как таковая капризна и даже отчасти ветрена. Ей были ведомы страстные увлечения, за которыми следовали внезапные разочарования. Своим идолам она поклоняется недолго, и самоубийство Раймунда служит предостережением всем тем, кто полагает, будто всегда можно рассчитывать на верность публики. Роскошь, фантазия и хороший вкус, которые содержатели танцевальных залов вкладывали в свои предприятия, вынуждали их постоянно поднимать цены, потому что посетители, привыкая к окружавшей их роскоши, становились все более и более требовательными. Внезапное обогащение буржуазии и, как следствие этого, расцвет торговли и промышленности в сочетании с финансовой нестабильностью — все это способствовало стремлению многих тысяч венцев забыться в вихре вальса в ярко освещенных залах, пропитанных ароматами духов, под звуки прекрасной музыки, прославившей эти заведения, каждое из которых походило на некий искусственный рай, где, казалось, все было рассчитано на то, чтобы опьянять чувства и усыплять разум. В Лунном свете, в Тиволи, в Казино Доммайера, в Одеоне, в Колизее Швендера все искали чувственного опьянения, когда радость вращать в своих руках какую-нибудь томную красотку под звуки нежного либо дьявольского вальса казалась гораздо более хмельной, чем венгерские вина или склоны венских холмов. Эпоха, отмеченная стремлением к развлечениям, — это всегда более или менее беспокойное время, и необузданная погоня за удовольствиями лишь отражает осознанное либо подспудное желание заставить умолкнуть неотвязную тревогу. Вальс был для танцующих своего рода фильтром сознания,чего нельзя было сказать о невинных танцульках на траве по воскресеньям. То, что происходило во дворцах танца, казалось сродни безумию времен Нерона, Сарданапала или Гелиогабала. Действительно, это было не что иное, как некая новая ипостась той сказочности, которую всегда ждут от театра. Человек, не бывший настолько поэтом, чтобы воображать экзотические феерии, видел, как они материализуются в этих заведениях у него на глазах. «Можно было прогуливаться по английскому саду с его живыми изгородями и кустами роз, потягивать щербет в турецком павильоне или смаковать омлет с рыбой в какой-нибудь лопарской лачуге. Чуть дальше высилась огромная скала, словно задрапированная низвергавшимися водопадами, которые ниспадали в чудовищные раковины, где плавали рыбы. Украшение этих танцевальных залов представляло собой смешение всех стилей — мавританского, индусского, греко-римского и готического».[121] В таких центрах развлечений, где вокруг каждого танцевального зала пестрела добрая сотня самых разнообразных аттракционов, господствовало увлечение экзотикой, этот в основном романтический феномен. Все дышало хорошим вкусом, изяществом и утонченностью, не было ни гвалта, ни грубости, ни вульгарности, типичных для современных луна-парков. Каждое из таких заведений отличалось своими характерными особенностями. У Шперля общество было смешанное, но оркестром дирижировал Иоганн Штраус, и этого было достаточно, чтобы привлекать толпы людей. Генрих Лаубе так писал об атмосфере, царившей в этих салонах: «Разумеется, это заведение не самого высокого полета. И даже публика здесь очень смешанная, но сочетание всех элементов этого зала делает происходящее здесь совершенно необычным зрелищем. Гости едят и пьют, болтают, смеются или слушают музыку под деревьями с подсвеченной листвой. В самом центре оркестр играет новые вальсы, которые раздражают наших ученых музыкальных критиков; их мелодии, приводящие в крайнее возбуждение, словно вливаются прямо в кровь. На эстраде возвышается современный герой, австрийский Наполеон, дирижер г-н Иоганн Штраус. Для венцев вальсы Штрауса — это то же самое, что победы Корсиканца для французов. Если бы у жителей австрийской столицы были пушки, они тут же переплавили бы их, чтобы воздвигнуть Вандомскую колонну в честь этого виртуоза скрипки… В пестрой толпе шутливо задирают парней смешливые девушки. Волны их горячего дыхания играючи овевают лицо церемонного иностранца, каким я им представляюсь, и мне кажется, что я вдыхаю чарующий аромат всех цветов Юга. Меня увлекает людской поток, порой грубовато подталкивая, и я оказываюсь в самой гуще этой толпы. Здесь никому и в голову не приходит извиняться за неловкое движение: у Шперля это не принято». Толпа проявляет сдержанность: никакой грубости, никакой развязности. В другой книге Лаубе отмечал, что «австрийская чувственность никогда не бывает вульгарной; она наивна и совершенно безгрешна. В Вене желание никогда не доводит до грехопадения: здесь любуются запретным плодом, но не надкусывают его». Как, впрочем, и не объедаются, несмотря ни на хороший аппетит, ни на присущее венцу гурманство, венец также никогда не допускает, чтобы вино помутило ему разум. Послушаем еще раз беспристрастного немца, почтенного Лаубе: «Я ни разу не видел никакой разнузданности или бесчинства. В этом радостном городе не ведают, что такое водка, это проклятие северных стран, и признают лишь одно опьянение — опьянение танцем, в котором нет ничего, принижающего человека. Легкое вино из плодов австрийских виноградников стимулирует чувства, не разжигая их до крайности, и если желудок у венцев вместительный, то глотка скорее узкая». Поэтому всеобщее веселье не омрачается ни неприятными инцидентами, ни развязными выкриками, проходя в атмосфере коллективной радости: увлекаемая вихрем вальса толпа словно обретает единую душу, единое тело. И так проходит каждый вечер в десятках гигантских танцевальных залов, куда вся Вена приходит в поисках счастья. Совсем другое дело в Тиволи. Это большой парк на склоне холма в Обермайдлинге. В своем Соловье Раймунд прославил этот парадоксальный пленительный рай с уходящими в глубину парка аллеями в густой тени деревьев, спускающихся по склону вместе со ступенями террас, откуда открывается широкая панорама окрестностей, где есть рощи и искусственные руины, как в романтическом саду, где ждут русские горки и ярмарочные аттракционы. Здесь можно увидеть даже петушиные бои, которые, впрочем, как отмечает Кроннер в своей книге «Вена, какой она была» («Wien wie es war»), не пользуются большой популярностью, потому что с тех пор, как Иосиф II запретил бои животных, венская публика быстро утратила к ним вкус и отвыкла от этого зрелища. Лишь на нескольких пригородных площадках еще устраиваются индюшачьи бои: торговцы лесом привозят этих птиц из Венгрии. Ничего подобного нет в Тиволи, где царит хороший тон, свойственный культурным людям, отвергающим варварские зрелища. Над этим парком, на вершине холма высится танцевальный зал — здание с высокими лестничными маршами, импозантными колоннадами, делающими его похожим на греческий храм — дань модному в то время классицизму с чертами дорогой сердцу романтиков неоготики. Рядом с церковью Св. Карла находится танцевальный зал Лунный свет (Mondschein). Вопреки ожиданиям он не имеет ничего общего с лунным светом, а его название прижилось согласно старой, сохранившейся либо из благоговения к старине, либо просто от лености венской традиции (действительно, слишком часто лень и пассивное нежелание менять укоренившиеся привычки сохраняют их на долгие годы): здесь находился кирпичный завод, принадлежавший некоей Маргарет Мондшайн; эта фамилия понравилась и сохранилась в названии зала. «„Мондшайн“ — сообщает Бойерле, — обрел бессмертие ценой смертей многих молодых людей, безоглядно предававшихся исключительно вальсу…» Особенно доброй репутацией этот зал не пользовался, так как его охотно посещали девицы легкого поведения, но и те должны были соблюдать приличия, потому что венская полиция сурово относилась к «приставаниям девиц». Любую женщину, заподозренную в приставании к прохожему, даже если он сам не выказывал при этом никакого неудовольствия, арестовывали, коротко стригли и в кандалах отправляли подметать улицы. Поскольку такое занятие позволяло им, дурачась, забрасывать обувь горожан уличной грязью и пылью, это наказание было быстро отменено, после чего их стали посылать стирать больничное белье, что было куда менее приятно. Это решение, несомненно, способствовало укреплению порядка в городе. Францу Моравцу пришла в голову блестящая идея дать своему залу имя эрцгерцогини Софьи. Выходец из небольшой богемской деревни Раднице, он устроился в Вене подмастерьем портного и вскоре женился на дочери своего хозяина, взяв приданое в сорок тысяч флоринов. Что ему было делать с такими деньгами? Моравец решил открыть бани с парилкой на русский манер и пристроил к ним бассейн, а затем, еще более разбогатев на этом, вложил двести тысяч флоринов в строительство гигантского бального зала. Строили его известные архитекторы Ван дер Нулль и Сиккардсбург, позднее построившие венскую Оперу. Здание оказалось таким огромным и непривычным, что полиция запретила людям входить в него, опасаясь, как бы на танцующих не рухнул потолок. Моравец пожаловался на министра полиции императору и выиграл дело. Этот потолок, так беспокоивший городские власти, оказывается, раскрывался, и на головы восхищенных посетителей сыпался дождь из роз. В июне 1838 года почти рядом с Шенбрунном открыл свое знаменитое Казино Фердинанд Доммайер. Его название и нынче связывается с именем знаменитого дирижера и автора вальсов Йозефа Ланнера, дирижировавшего в Казино незабвенными балами и сочинившего в честь Доммайера свой знаменитый Шенбруннский вальс. Подобно «войне вальсов», в которой противостояли друг другу бывшие друзья Лайнер и Штраус, работавшие раньше вместе, а потом ставшие соперниками и врагами, шла и «война балов» между Шперлем и Доммайером. Она угрожала разорением обоим конкурентам, и тогда они повторили ход двух крупных пивоваров, Боша и Денглера, поженив своих детей. Впрочем, пятидесяти тысяч жителей Вены, каждый вечер устремлявшихся на танцы, было вполне достаточно, чтобы заполнить все многочисленные залы и обогатить их владельцев, даже если размеры этих залов достигали, например, огромных размеров Одеона, в котором могли вальсировать одновременно десять тысяч человек. Превышающий в два раза размеры зала Аполлона и в три раза размеры зала Софьи, Одеон страдает одним недостатком: если в нем собирается всего какая-нибудь тысяча танцующих, создается впечатление, что они кружатся в пустыне. Никакой «атмосферы», никакой, как теперь говорят, «ауры», в таком почти пустом зале почувствовать нельзя. Но как из вечера в вечер заманивать сюда десять тысяч человек? В Одеоне, славящемся превосходной акустикой, лучше, чем в любом другом месте, звучат мужские хоры. Но и этого, к сожалению, недостаточно, и, чтобы оправдать затраты, здесь, кроме хоровых вечеров, стали проводить собрания более или менее политического характера. Мы приближаемся к 1848 году. Брожение умов будоражит население венских предместий. Ораторы находят в Одеоне, кроме подходящей акустики, достаточно места, чтобы собирать там и своих сторонников, и противников. На смену костюмированным балам и карнавальным праздникам приходят политические схватки. Одеон утратил свой дух, и его первоначальное назначение изменилось: он стал полем сражений. Здесь периодически происходят яростные схватки, когда собирается какая-нибудь религиозная секта, например «немецких католиков», выбравшая Одеон для своих собраний и месс. Теперь здесь звучал голос отлученного от церкви силезского священника Йоганнеса Ронге, яростно нападавшего на папу, на культ святых и на почитание Девы Марии. Участь несчастного Одеона была решена: после того, как под его крышей прозвучали еретические проклятия, он был сожжен 28 октября 1848 года, когда войска Виндишгреца отвоевали Вену у бунтовщиков. Последним по времени из крупных дворцов танца периода бидермайера был построенный немцем из Карлсруэ Швендером, начинавшим на должности маркера в одном из бильярдных залов. На скопленные деньги он открыл кабачок в одной из конюшен замка крупных банкиров Арнштайн-Перейра, к которой примыкал большой луг. Швендер расставил столики в тени деревьев и стал ждать клиентов. Те сбежались тут же, так как место было очень привлекательным, и ему удалось построить настоящий ресторан. Вскоре театральный директор Алоис Покорны, оценив преимущества этого места, построил там зеленый театр, где с успехом ставились многочисленные пьесы. Этот театр с его ложами и галереями произвел настоящий фурор, и Швендер объединил с ним свое заведение. После спектакля зрители заполняли оба танцевальных зала, названных Залом Любви и Залом Флоры, в которых устраивались невиданно пышные балы-маскарады. Еще один зал, Зал Гармонии, предназначался для концертов. Существовал также зал для представления очень модных в то время «живых картин». Одним из самых удивительных балов-маскарадов, традиционно дававшихся у Карла Швендера, был Бал Нищих. К нему вся богатая буржуазия и аристократия переодевалась под нищих и надевала отталкивающие маски. Накануне первого дня поста в честь его начала проходил праздник Копченой Селедки, когда на дорогих тарелках среди гостей разносили вяленую рыбу. Швендер, наладивший омнибусное сообщение между Веной и Шенбрунном, которого до него здесь никогда не было, привлекал в свой Колизей толпы танцоров и гурманов. Его кухня была поистине превосходна, и случались вечера, когда знаменитые повара устраивали прямо-таки эпические состязания в своем искусстве. Газеты того времени много пишут об этих кулинарных турнирах, которые могли бы приводить к изысканнейшим результатам, если бы вкус блюд отвечал оригинальности их названий: «Фреска из вареных омаров», «Менуэт из форели», «Орфей, плывущий на гигантском лососе» — вот далеко не исчерпывающий перечень этих произведений. Вокруг нагромождения танцевальных залов, ресторанов, театров Швендер развертывает великолепие своей новой затеи, которую называет Новым Светом, с искусно подсвеченными садами, дворцами Тысячи и одной ночи, громадными оранжереями, фонтанами и ярмарочными аттракционами. Все это прекрасно отвечает характеру и облику «веселой» Вены, а значит, большой части венцев: надо было пребывать в очень мрачном настроении или не иметь совсем ничего такого, что можно было бы отнести к ростовщику, чтобы отказаться от всех этих соблазнов, не отозваться на страстный призыв скрипок, приглашающих к вальсу весь город.Штраусы
«Специфично само начало танца. Штраус начинает свою трепетную, пылкую прелюдию, трагическую, как счастье, отмеченное печатью родовых мук Венец обнимает рукой свою партнершу, и пара, раскачиваясь на месте, постепенно входит в ритм вальса. В течение нескольких тактов они вслушиваются в музыку, похожую на меланхоличную соловьиную песню, бесконечно мелодичную и захватывающую. Затем внезапно взрывается триумфальная трель. Начинается вальс: в головокружительном темпе он обрушивается на танцующих, увлекая все на своем пути».[122]Лаубе очень точно описал также и ту напряженность, то почти мучительное предвкушение, то нетерпение, с которым толпа ждала момента, когда дирижер поднимет свою палочку. И когда Иоганн Штраус появлялся за пюпитром, от этой замершей в ожидании публики к музыканту словно поднималась волна идолопоклоннической страсти. «Все взоры обращались к нему. Это было мгновение всеобщего благоговения. Поскольку будущие поколения несомненно захотят узнать, как он выглядел, этот Иоганн Штраус, я попытаюсь его описать. В нем было что-то африканское, экзотическое, буйное, сверхсовременное, дерзкое, безудержное, беспокойное и пылкое… Каждый волен выбрать любое из этих прилагательных. Этот человек был черен, как мавр, с вьющимися волосами, с чуть приплюснутым носом, с дерзким ртом, очерченным готовыми затрепетать от звука мелодии полными губами. Если бы его лицо не было таким бледным, он был бы вылитым царем Валтасаром. В период царствования Ирода этот черный властитель принес Сыну Божьему опьяняющий ладан. Именно это делает и Штраус. Он также изгоняет своими вальсами злых духов. В общем, это современный заклинатель, колдун. Он подчиняет себе наши чувства, опьяняет их своей музыкой. И даже дирижирует он по-африкански. Как только ураган вальса разворачивается в полную силу, его члены словно перестают ему принадлежать. Смычок пляшет где-то там, где кончается рука, ноги полностью отдаются ритму музыки. Начинается оргия звуков!» Имена дирижеров, вдыхавших жизнь в венские балы, забывались, как только исчезали очарованные ими поколения. Их можно теперь найти только на пожелтевших страницах газет да на старых афишах, обещавших роскошное гала-представление. И лишь одно имя остается бессмертным — имя композитора и дирижера Иоганна Штрауса, «Наполеона вальса». Как и имена его троих сыновей, тоже музыкантов, Иоганна Штрауса Младшего, самого знаменитого, автора Прекрасного голубого Дуная, а также Йозефа и Эдуарда Штраусов. Рядом с первым Иоганном Штраусом следует поставить его друга и соперника нежного Йозефа Ланнера, чьи вальсы несут в себе более томное, более меланхоличное очарование, на которое впоследствии отзовется Шуберт. Иоганн Штраус родился в 1804 году в квартале простонародья Леопольдштадте, где его отец держал небольшой кабачок. С самого раннего детства он был одержим гением ритма и постоянно выражал эту свою страсть, ударяя друг о друга двумя палочками. Ритм был настолько новым и главенствующим элементом в его музыке, я хочу сказать, и в его сочинениях, и в том, как он их исполнял, что когда во время гастролей в Париже его услышал Гектор Берлиоз, автор Фантастической симфонии был поражен до глубины души, и здесь стоит напомнить о том, как музыкальный критик Берлиоз судил о таланте этого австрийца в одной из своих статей, опубликованных в Журналь де деба в 1837 году. «Не правда ли, как странно видеть, что в таком городе, как Париж, где встречаются самые великие виртуозы и композиторы Европы, настоящим событием музыкальной жизни смог стать приезд какого-то немецкого оркестра? Оркестра, который в основном умеет играть только вальсы и не претендует ни на что другое? Почему первый же концерт этого коллектива вызвал такой восторг?.. Одного профессионализма исполнителей, кстати, далеко не заурядного, было бы совершенно недостаточно для того, чтобы объяснить огромный успех этого ансамбля. Настоящая причина кроется в другом. В мире музыки существует одна область, которой до сих пор все пренебрегали — как виртуозы, так и композиторы — и которая тем не менее имеет основополагающее значение… Вы не догадываетесь, о чем я хочу сказать? Да о ритме!.. Музыканты Штрауса куда лучше наших способны преодолевать ритмические трудности. Вальсы, которые они нам представляют, вальсы, в которых такты ускоряются в безумном ритме, словно подчиняясь своему собственному внутреннему порыву, — эти вальсы необыкновенно трудно играть. Венцам же это удается превосходно. Именно благодаря их мастерству кокетство ритма обретает все свое очарование. Вот почему успех Штрауса представляется мне счастливым предзнаменованием развития парижской музыки. Ибо я уверен в том, что этот успех в большей степени определяется именно ритмичностью вальсов, а не их мелодичностью или блестящей оркестровкой. Штраус бродит в мире, врата которого открыли нам Бетховен и Вебер, — в чудесном мире ритма с его бесконечно плодородной почвой, на которой тем, кто ее обрабатывает, суждено собрать прекрасные урожаи…» Пяти лет от роду маленький Иоганн получил в подарок дешевую скрипку, на которой играл беспрерывно. Поскольку звук ее был пронзительным, бедным и сухим, он решил налить в инструмент пива — нововведение, которое, по-видимому, имело счастливые последствия. На этой скрипке он повторял по памяти все, что ему доводилось слышать, а кроме того, целыми днями импровизировал. Узнав о его одаренности, один из друзей семьи стал давать ему уроки. Так ребенок избрал карьеру музыканта и нанялся поначалу в игравший в одном кабачке оркестр дирижера Прамера, а потом — какая удача! — и в заведение Шперля. В пятнадцать лет он встретился с трио подростков, как и он, игравших в ресторанах: это были братья Драганек и Йозеф Ланнер. Они вместе поднимались по лестнице успеха: из квартета оркестр Ланнера превратился в ансамбль в составе двенадцати исполнителей; его дирижера уже обожала венская публика, чьему легкому, беспечному, порой меланхоличному, но быстро находившему утешение характеру превосходно соответствовала его музыка. В Штраусе есть что-то цыганское, Ланнер же чистый венец. «Наверное, в гораздо большей степени, чем Штраус, Ланнер всю свою жизнь оставался сыном предместий. Его сочинения хранили в себе отзвук народной песни, гармония которой основывается главным образом на терции. Как скрипач Ланнер казался не чувственным, а скорее сентиментальным, и именно эта сентиментальность сделала его богом венцев. Когда несколько позднее в австрийскую столицу приехал великий норвежский виртуоз Оле Булль, критики отметили сходство его манеры игры с манерой Ланнера. Булль слегка модифицировал свой инструмент: применив очень плоскую кобылку, он в несколько раз облегчил возможность играть многоголосие, правда, за счет объема и силы звука. Совсем как Ланнер, умевший взволновать публику своей игрой на несколько голосов, искусством „рыдающей терции“. Штраусу же был ведом секрет внезапной атаки, яростного и одновременно чувственного удара смычка, властного ритма, совершенно отличного от ласкающего увещевания, характерного для его друга. Таким образом, они дополняли друг друга как в физическом смысле — один был блондином, другой ярким брюнетом, — так и в психическом: Ланнер был мягким, Штраус динамичным».[123] Соотечественники Оле Булля считали, что великий норвежский скрипач, друг Шумана, Андерсена и Грига, обрел свой талант волшебным путем: секрет песни ему якобы открыла русалка — ведь все русалки великие музыканты. Что же касается Ланнера, то он, должно быть, получил свой дар из рук какой-нибудь феи Дуная. К сожалению, в Вене не было места для двух королей. Танцоры и меломаны разделились в соответствии со своими предпочтениями и склонностью души к тому или другому музыканту, и это положило начало «войне вальсов», из которой Штраус вышел блестящим победителем. Смена идола в музыкальной сфере соответствовала победе Нестроя над Раймундом. После того как оба друга, чьи характеры оказались несовместимыми, разошлись и каждый стал дирижировать собственным оркестром, добрый Ланнер излил свою печаль по поводу этого разрыва в своем романтическом так называемом «прощальном» вальсе. Иоганн Штраус привнес в развлечения венцев достаточно новый элемент бешеной вакханалии, самоопьяняющейся сентиментальности. Вагнер, присутствовавший в Бригиттенау на празднике св. Бригитты и увидевший там, как Штраус увлекает танцующих в бессмысленное круженье, назвал это «праздником краснокожих». Свое впечатление он объясняет в следующем описании: «Под огромной луной гирлянды фонариков связывали друг с другом огромные своды, образованные ветвями деревьев. Казалось, что весь окружающий пейзаж увлечен всеохватным вращением. Это круженье не ограничивалось ни выстланными досками танцевальными дорожками, ни палатками, ни балаганными павильонами, ни ложбинами, ни холмами, в безумный вихрь вальса увлекались даже кусты и деревья». Особенно поразила его личность самого музыканта и восторг, который он вызывал у своих слушателей, неподдельный, физически ощущаемый экстаз, исходивший от него самого, от того колдовства, которое он в себе нес. «Этот демон венской народной музыки, — пишет Вагнер, — трепещет в начале очередного вальса, как если бы у него начинался транс. Настоящий рев, испускаемый аудиторией, опьяненной скорее музыкой, нежели выпитым вином, возводит эту страстность виртуоза Штрауса в степень мучительной тревоги». Праздник краснокожих, вакханалия, шабаш колдунов… и в истоке этого всего — волшебная скрипка сына еврея-кабатчика из Леопольдштадта. Индивидуальность Иоганна Штрауса настолько совпадала с существом его родного города, что его смерть отдалась в сердце каждого венца национальным трауром. Маэстро умер в доме своей возлюбленной Эмилии Трампбуш от скарлатины, занесенной из школы одним из пяти его незаконнорожденных детей от этой женщины (его законные дети также стали известными музыкантами). Успех, которым он пользовался в Германии, в Лондоне, в Париже, ничто в сравнении с тем культом, каким его почтили земля-ки-венцы. Похороны Штрауса по торжественности и волнению, в атмосфере которого они проходили, были сравнимы с похоронами короля. Обратимся к трогательному рассказу Г.-Е. Якоба:
«Тысячи людей стояли вдоль тротуаров вплоть до самого портала собора Св. Стефана. Четверо оркестрантов несли гроб дирижера. За ними следовал старый отец Амон, первая скрипка, держа в руках черную подушку, на которой лежал инструмент маэстро с вырванными струнами. Все алтари в огромном нефе были освещены горящими свечами. После благословения гроб поставили на повозку, запряженную четверкой вороных лошадей. Кортеж двинулся медленным шагом до Шотландских ворот, откуда музыканты понесли его на плечах на Дёблингское кладбище. Два полковых оркестра играли похоронные марши. Могила Штрауса была вырыта рядом с могилой Ланнера. Гроб медленно покрывался землей. День уже клонился к закату, свежий ветер доносил из соседних виноградников грустный запах осени. Одинокий колокол скромной Сальмансдорфской церкви словно пел отходную. Его подарил здешней небольшой коммуне сам Иоганн Штраус; здесь его родители часто проводили лето. Звук каждого суховатого удара колокола долго трепетал во влажном воздухе окрестностей. Сама природа словно присоединялась к трауру большого города».[124]
Глава девятая ВЕНСКИЙ РОМАНТИЗМ
Романтики немецкие и австрийские. «Жизнь в поэзии». Австрийский романтизм и искусство. Портреты и жанровые сцены
Хотя они пишут на одном и том же языке и по большей части вдохновляются одними и теми же чувствами, немецкие и австрийские романтики существенно отличаются друг от друга. Последним недостает скорбного, трагического характера, Эсхиловой концепции предназначения, радикального бунта «Бури и натиска», волшебной добродетели, провидческого пыла, которые проявляются одинаково, хотя и различными средствами, в поэзии Гельдерлина, музыке Шуберта, живописи Каспара Давида Фридриха.Романтики немецкие и австрийские
Немецкий романтизм основан на болезненной неудовлетворенности, беспокойстве, тревоге, проистекающей из разлада между индивидуумом и миром. Романтик — это, как правило, человек, чьи чаяния находятся в противоречии с законами общества и с ограничениями, которые ему навязывает человеческая природа. Проблема божественного есть источник тревоги. Индивидууму также трудно реализовать свою гармонию с Богом, как найти в природе свое истинное место. Средства выражения, которыми располагает художник, будь он поэт или музыкант, чтобы передать то, что он видит, что испытывает, ограничены рамками используемого языка, и, оказавшись перед невыразимым, страдая от невозможности высказать невыразимое, художник, осознающий свое призвание провидца, приходит в отчаяние из-за невозможности передать в своем произведении ничего другого, кроме того, что может быть выражено языком искусства: то же невыразимое, что является в его представлении главным, не может быть передано при помощи какого бы то ни было словаря, и при помощи словаря музыки не больше, чем при помощи словаря живописи или поэзии. Бегство в суицид или в безумие, которое так часто оказывается последним прибежищем немецких романтиков, представляется своего рода уходом в тишину, в молчание. Ничего похожего нет в романтизме австрийском. Природа страны, национальный темперамент, чувство меры заставляют австрийских художников исповедовать тот поверхностный романтизм, в котором нет места драме. В Вене мы не видим бушевания ни одной из тех тяжелых и ужасных «глубинных волн», которые потрясали немецкий романтизм. Насколько немец пребывает в конфликте, в состоянии реакции на публику, которая следит за ним из очень далекой дали, настолько австрийский художник пребывает или стремится пребывать в гармонии с собой. Обращаясь к характеру австрийского произведения искусства, будь то музыка Шуберта, романы Адальберта Штифтера, полотна Морица фон Швинда или Фердинанда Георга Вальдмюллера, мы констатируем, что в Вене не существует разлада между искусством и публикой. Читатель или слушатель умеют инстинктивно настроить себя на волну писателя или композитора, а те, со своей стороны, без всякого усилия дают публике то, что она желает получить. Таким образом, произведение искусства становится результатом скрытого сотрудничества между творческой личностью и обществом, для которого она творит. Австрийское искусство романтического периода — я имею в виду искусство в целом, независимо от его выразительных средств — сохраняет идиллический характер, определяемый любовью к окружающему миру, всеобщей нежностью, гораздо менее демонической, нежели германская романтическая страсть; ему присуще очарование, несколько поверхностное, немного сентиментальное, но очень привлекательное, эдакая легкая любовь, скорее любовь-игра, чем любовь-страсть. Не следует, однако, понимать буквально эту пресловутую австрийскую «легкость», как не следует и пренебрегать глубиной чувств, абсолютом страсти, которую она, возможно, маскирует. И если венские художники не обращаются к патетике, погруженной в паническую природу,{41} которая возбуждает, потрясает, увлекает и даже может раздавить, то они более активно, но без драматизации используют красоту пейзажа, потому что наделены способностью дружить с окружающими вещами и явлениями. Мориц фон Швинд удачно описал состояние этой дружбы: «Когда мы с любовью и радостью рисуем какое-нибудь красивое деревце, мы выражаем его любовь и радость, и это деревце принимает тогда совсем другой вид, чем было бы, если бы его походя обгадил какой-нибудь осел». Немецкий романтизм любил Вену за изящество старого средневекового города, за ее барокко и рококо. Карл Кобальд[125] писал: «Эта Вена, прославленная музыкой Гайдна, Моцарта и Бетховена, представлялась тогда молодым немецким поэтам Меккой их мечтаний. В этот имперский город с толпами паломников приезжали Клеменс Брентано, Фридрих Шлегель, Захариас Вернер, Беттина фон Арним, Айхен-дорф». Они приезжали сюда, но здесь не укоренялись. И Вена не числится среди очагов романтизма. Она не может сравнивать себя с такими кипучими центрами бурной деятельности, как Берлин, Йена, Гейдельберг, Дюссельдорф. Среди венских салонов вы не найдете таких, где разрабатывались бы принципы романтизма, — салонов Варнхагенов или Шлегелей. В этом смысле, хотя Вена и является столицей, в истории литературы и даже живописи она предстает в облике провинциального города. Своего высшего, несравненного совершенства она достигает в музыке, хотя она и отринула Шумана, величайшего и значительнейшего из романтических музыкантов. Не приходится долго раздумывать, чтобы перечислить великие имена австрийской романтической литературы; самое крупное из них, сравнимое с немецкими поэтами-романтиками, — это Николаус Ленау,[126] по происхождению не венец. Нимбш фон Штреленау (таково его настоящее имя) по национальности венгр. Потеряв в ранней юности отца, он приехал в Вену с матерью, легкомысленной, беспечной и совсем не занимавшейся сыном. Его истинный темперамент даже в поэтическом творчестве остается темпераментом искателя приключений, ностальгию по которым он испытывал всю жизнь и даже пытался найти утешение в американской пампе, куда его увлекла авантюрная жизнь. Сам выбор героев его книг — а это Савонарола, Дон Жуан, Альбигойцы, Фауст — показателен для его беспокойного характера. Ленау всегда любил кочевой цыганский народ, живущий без родины, без домашнего очага, без корней, как и он сам. Подобно цыганам, он чувствовал себя изгоем в мире, в котором ни для них, ни для него не было места. Если отталкиваться от национальной принадлежности, то Ленау принадлежит австрийскому романтизму, но ему не свойственны никакие его черты, а тревожная жизнь кочевника привела к тому, что он чувствовал себя в Вене как дома не в большей степени, чем в любом другом городе. И если мы упоминаем о нем в этой книге, то, возможно, лишь для того, чтобы подчеркнуть контраст с чисто венским писателем Адальбертом Штифтером. Адальберт Штифтер является воплощением австрийского духа во всех своих самых крупных и самых изысканных произведениях. Это вовсе не провинциальный романист, хотя он тесно связан с нравами, языком и вкусами провинции; будучи скорее сельским жителем, нежели горожанином, он обожает Вену, однако периодически возвращается в горы, причем не к холмам Венского леса, а в горы Богемии, где расцветает его могучий, интимный, тонкий лиризм. Даже если бы он не написал книг, сделавших его знаменитым, этих романов нравов и поэм, навеянных образами лесов, ему принесли бы репутацию блестящего художника написанные им картины. В них, как и в литературных произведениях, раскрывается его очень тонкая, обостренная чувствительность, полное внутреннее согласие с природой, способность сливаться с обыденной повседневной действительностью, которая сделала бы из него почти натуралиста, если бы он не вдохновлялся главным образом тем эпическим величием, которое, по его мнению, всегда существует в реальности. Штифтер становится мастером новеллы, которой он умеет придать емкость и полноту романа, поднимая ее символическое значение гораздо выше простого идеала «изображать кусочек жизни», характерного для реалистов. Содержание австрийской литературы в целом, как и живописи Петера Фенди, Михаэля Недера, Карла Шиндлера, представляет собой лирическую интерпретацию повседневной действительности, вещей, которые были бы банальными, если бы не были озарены симпатией и любовью. Эта любовь, о которой говорил Мориц фон Швинд, преображает самые простые предметы просто потому, что способна раскрывать и черпать в них глубокую интимную поэзию. «В Вене люди всегда живут наполовину в поэзии, — писал Грильпарцер (Abschied von Wien), — и каждый венец — поэт, даже если он никогда не написал ни одной стихотворной строки». Было бы неправильно думать, будто буржуазная прозаичность эпохи бидермайера иссушала источники поэзии. Венский буржуа, карикатурно изображавшийся в образе Бидермайера, очень отличается от г-на Прюдома,{42} с которым его порой сравнивают: ему недостает церемонной наставительной глупости героя Монье, его претенциозности, низости сердца и духа, которые всегда будут чужды Вене. Бидермайер, который, сам того не понимая, был поэтом, окружал себя комфортабельной мебелью, формы которой удобно облегали тело; если эта мебель и была несколько тяжеловатой, слишком массивной, то дело в том, что тело венца, как говорили его хулители, часто бывало слишком тучным из-за хорошей еды. Люди того времени жили просто, удобно, достойно, без позерства и тесно общаясь между собой. Они умели поддерживать спасительную гармонию между веселостью и хорошим тоном, между изяществом и строгостью, между изобилием и простотой, между разумной экономией отца семейства и щедростью мецената, друга артистов и художников. Венец любил компанию и гулял всей семьей. Он никогда не ездил за границу, потому что любил свою бесконечно разнообразную Австрию. Он лишь ненадолго и недалеко уезжал из изысканной и неисчерпаемой Вены. Уже ближайшие ее окрестности представляли собой сельскую местность, где природа была такой ослепительно щедрой, а деревни очень колоритными, населенными отзывчивыми и веселыми людьми, еще продолжавшими носить традиционную одежду. Такие костюмы теперь можно увидеть разве что в Тироле, да и там их зачастую носят не местные жители, а иностранные туристы, развлекающиеся переодеванием в костюмы охотников на серн или в крестьянскую одежду. Тогда же их можно было увидеть на рынке, они переливались своим радостным многоцветьем в дни семейных и церковных праздников, совсем как на полотнах художников того времени, например, на картинах Фердинанда Вальдмюллера Свадьба в Пехтольдсдорфе или Отъезд супруги.«Жизнь в поэзии»
В романтическую эпоху поэтическое чувство, способность естественным образом «жить в поэзии» в Австрии были распространены больше, чем в Германии, но Австрия не породила таких великих поэтов, как Германия. Действительно, нельзя считать великими поэтами, хотя их произведения вовсе не являются недостойными внимания, таких писателей, как Йоганн Габриель Зайдль, многие из поэм которого положены на музыку Шубертом, или Эрнст фон Фойхтерслебен и Анастазиус Грюн; их можно отнести к «малозначительным» в сравнении с их немецкими современниками Айхендорфом, Новалисом, Гельдерлином и Брентано. Их поэзии недостает волшебства, которым лучатся произведения великих романтиков. Тем не менее они представляют интерес для историка, так как точно отражают облик Вены своего времени. Фойхтерслебен, например, был гениальным врачом, в некотором роде предвестником психоанализа, теорию которого именно в Вене разовьет впоследствии Фрейд. Он охотно общался с писателями, посещавшими изысканно украшенные залы Нойнерс Зильбернен, модного в то время литературного кафе, и писал там стихи в перерыве между двумя визитами к пациентам. Что же до Анастазиуса Грюна, то этот псевдоним скрывал имя знатного вельможи — графа Антона Александра Ауэршперга: император запретил этому дворянину публиковать свои произведения не столько потому, что это плебейское занятие считалось недостойным аристократа высокого ранга, сколько по той причине, что Ауэршперг афишировал свои достаточно передовые либеральные убеждения. Он жестоко, с язвительной иронией критиковал политику Меттерниха. Книги, которые он издал под псевдонимом Анастазиус Грюн, в особенности же та, что носила многозначительное название Обломки, представляли собой жестокую сатиру на монархию и, возможно, сыграли важную роль в подготовке революции 1848 года. Более невинным и более привлекательным для нас, читающих в нем очаровательные описания столицы, является произведение, озаглавленное Прогулки венского поэта, которое заслуживает места рядом с Венскими картинами Адальберта Штифтера и с прекрасными книгами Грильпарцера. С Францем Грильпарцером мы приобщаемся к поэтическому уровню едва ли не самых великих романтиков. Грильпарцер любил свою Австрию, как он сам говорил, поистине «детской» любовью, и были бы тщетны попытки понять, не являлась ли эта Австрия, целый культ которой создал Грильпарцер, некой идеальной страной, страной мечты. Но даже если он и идеализировал Австрию, его Вена была подлинной. Он точно определил характерные черты этого приятного народа, которым было легко править, потому что он дорожил легкой жизнью. Главным образом в его личном дневнике, а также в его Автобиографии, которая, к сожалению, останавливается на сорок пятом году его жизни — а дожил он до восьмидесяти лет, — мы обнаруживаем Грильпарцера, который должен интересовать нас и сегодня как свидетель венской жизни того периода. Несмотря на прекрасные достоинства его Сафо, Золотого руна или Оттокара, исторические драмы Грильпарцера интересны для нас в меньшей степени, нежели его восхитительные и волнующие новеллы, потому что в последних действительность описана чернилами, замешанными на смеси нежности и язвительности, шедевром чего является Бедный музыкант. В дневнике же и в автобиографии мы увидим подлинное лицо романтической Вены с плохими скрипачами на углах ее улиц, доведенными до нищеты жестокостью времени, собственной беспечностью, а также нередко желанием избежать ограниченности буржуазной жизни и предаться приключениям. Подобно многим венцам, например Шуберту, склонным предпочитать великолепные сны банальностям обычной жизни и лелеять не находящую реализации влюбленность, потому что она никогда не обманывает, Грильпарцер также почитал «далекую возлюбленную», Кэти Фрелих, которая не вышла за него замуж исключительно из опасения увидеть, как рассеется сон при соприкосновении с действительностью. В его воспоминаниях, в особенности на страницах, посвященных Воспоминаниям о юности средь зеленой листвы, можно найти описание его любви к этой мягкой и нежной невесте, до женитьбы на которой дело так и не дошло. Может быть, именно из-за нее он отказывал другим женщинам, которых любил. Грильпарцер любил и был любим, причем даже трагически, поскольку отвергнутая им красавица Мария фон Пико покончила с собой от печали. Его безразличие так потрясло другую его любовницу, Шарлотту фон Паумгартен, что и она умерла от горя. В свою очередь он и сам пострадал от равнодушия к нему прекрасной Марии фон Смолениц и премилой Элоизы Хёхнер. Он восторгался певицами, актрисами, что не мешало ему по-прежнему любить свою вечную невесту. Возможно, Грильпарцера страшили красота и слишком большая любовь. Известно его многозначительное высказывание о Марии Даффингер — бывшей Марии фон Смолениц, жене художника Морица Даффингера, с которой муж писал очаровательные портреты: «Эта женщина прекрасна, прекрасна, прекрасна, но да будет осторожен тот, кто к ней приблизится!» У Марии Даффингер был глубокий, загадочный, одновременно мягкий и опасный взгляд «глаз оленихи», глубоко волновавший уязвимые сердца. Сигнал тревоги, поданный поэтом, говорит о том, что и он слишком приблизился к этим глазам и не мог не увлечься до головокружения их соблазнительной тайной. Среди венских романтических поэтов современники оценивали очень высоко талант Бетти Глюк, писавшей под псевдонимом Бетги Паоли.[127] Грильпарцер называл ее самой великой австрийской поэтессой; Иеронимус Лорм набавлял ей цену, называя самой великой немецкой поэтессой. Мы не будем здесь ни критиковать, ни оправдывать право этой женщины на славу: в наши дни она совершенно забыта. Бетти Паоли пострадала от несчастной любви. Будучи компаньонкой княгини Шварценберг, она имела неосторожность влюбиться в ее сына, прекрасного князя Фридриха, который долго переписывался с нею, но тем дело и кончилось. За исключением Ленау, Грильпарцера и Штифтера австрийский литературный романтизм не оставил бессмертных имен.[128]Австрийский романтизм и искусство
Оставаясь столицей музыки на всем протяжении своей истории, Вена не всегда была литературной столицей. А какое место она занимала в романтическую эпоху в изобразительных искусствах — архитектуре, скульптуре, живописи? Мы уже видели, как барочное великолепие наложило свой отпечаток на памятники времен Иосифа II и Марии Терезии и как по воле монархов, столь же великих строителей, как и страстных музыкантов, после осады 1683 года развернулись работы по восстановлению города. Эволюция венской архитектуры наглядно отражает изменения вкуса и эстетики следовавших одно за другим поколений. Было вполне нормальным то, что над барочными излишествами восторжествовал классицизм. Это был неоклассицизм, вдохновленный Грецией и Римом. В свою очередь романтизм привил Австрии, как и всей Европе, любовь к Средневековью и, начиная с последней четверти XVIII века, возродил интерес к готике. Именно напрямую вдохновлявшийся идеями XVIII века, просвещенный самодержец Иосиф II положил начало, если можно так выразиться, романтической готике, когда приказал архитектору Хетцендорфу убрать с церквей орденов миноритов и августинцев все излишества, произвольно привносившиеся начиная со времен Средневековья. При правлении Франца I романтизм создает свой архитектурный стиль, по-настоящему индивидуальный,оригинальный, уже не являющийся подражанием античным храмам или готическим соборам, а представляющий собой своего рода гармоничный сплав элементов Средневековья и Ренессанса, свободно связанных друг с другом и рассматривающихся как новый набор форм, в котором выражается дух эпохи. Романтизм отказывается от подражания или от повторения того, что уже существовало, — он творит свободно, и самыми лучшими из его творений являются Йоганнескирхе на Пратергассе, построенная в 1846 году Резнером, который модифицировал старое здание, не изменяя его духа, приходская церковь в Майдлинге, построенная в тот же период тем же архитектором, а также более характерная приходская церковь в Альмансдорфе, построенная в 1838 году Лесслем и декорированная Фюрихом, Штайнле и Купельвизером. Фюрих участвовал в возрождении живописи, начатом Корнелисом и Овербеком и приведшем к неопримитивизму назарейцев.{43} В Женеве была основана Гильдия св. Луки, распространившая эту эстетику, до некоторой степени сравнимую с эстетикой английских прерафаэлитов,{44} затем Гильдия переехала в Рим. Члены Гильдии обосновались в монастыре в Сант-Исидоро и делали росписи в стиле, который называли тогда «примитивом», иначе говоря, в стиле Рафаэля и его непосредственных предшественников. В то время еще не умели различать истинных примитивистов — Джотто, Чимабуэ, Дуччо, Каваллини и плохо отличали Средневековье от Ренессанса. Таким образом, Фюрих участвовал и в создании «неопримитивистских» украшений виллы Массимо, принадлежавшей немецкому дипломату Бартольди, поручившему назарейцам расписать ее картинами на религиозные сюжеты. Фюрих вернулся в Вену в 1834 году и написал там крупные романтические циклы картин на легендарные и религиозные сюжеты, сцены из Ветхого и Нового Заветов, интерпретированные им с большой свободой, свежестью, с несколько холодным изяществом и элегантностью. Эдуард Якоб фон Штайнле после окончания академии в своем родном городе Вене также жил в Риме, в окружении назарейцев. Он дружил со многими немецкими поэтами, в особенности с Клеменсом Брен-тано, который подталкивал его к изучению и иллюстрированию древних легенд, сказок и народных поэм. Отделавшись в конце концов от назарейского неопримитивизма, Штайнле приблизился к истинно романтическому лиризму: бродячие студенты, проходящие через волшебные леса, романтические замки, гнездящиеся на горных откосах, старинные города со стрелами готических соборов сообщают его произведениям очаровательный оттенок ностальгии по Средневековью и одновременно очень современное чувство. Он был учеником Купельвизера, вместе с которым работал над украшением Альтмансдорфской церкви, того самого Купельвизера, который был другом Шуберта и написал много его портретов, а также стал историографом тех радостных и волнующих сцен, импровизированных друзьями композитора праздников искусства и дружбы, которые называли шубертиадами. Религиозная живопись была не единственным средством выражения венского романтизма; он проявлял свои специфические черты и свое очень своеобразное вдохновение в портрете, а также в жанровых сценах. Заметим мимоходом, что если здесь не идет речь об австрийской романтической скульптуре, то только потому, что она почти полностью отсутствовала или же не оставила ни одного значительного произведения. В эпоху романтизма в австрийской пейзажной живописи преобладали два имени — Йозефа Антона Коха (1768–1839), принадлежащего к первому романтическому поколению, и Фердинанда Георга Вальдмюллера, олицетворяющего второе, поскольку он родился в 1793 году и умер в 1865-м. Кох — любопытнейший персонаж. Эльгибленальпский тиролец, он отправился умирать в Рим, потому что был настолько околдован итальянскими пейзажами, что решил закончить свою жизнь среди них. Он писал картины на религиозные сюжеты в назарейском вкусе и пытался соперничать с Гирландайо и Перуджино.{45} Он иллюстрировал Данте и Шекспира и разделил восторг всех романтиков перед Оссианом — псевдо-Оссианом англичанина Макферсона.{46} Сам Наполеон был так взволнован приключениями кельтских героев этой легенды, что Энгр в самой романтической манере написал для потолка предназначенной императору комнаты в Квиринале Сон Оссиана. Кох заслуживает известности не за то, что подражал старым итальянским живописцам, а за то, что первым создал романтический пейзаж на своих главным образом швейцарских и тирольских полотнах, тогда как в римский период он уже менее оригинален, больше связан с лотарингской традицией и с итальянскими ведутистами.{47} Кох первым понял и изобразил горы, водопады, ледники — все эти реалии дикой, могучей, величественной природы, которую люди XVIII века еще не научились видеть и часто находили «ужасной» — это прилагательное постоянно слетает с кончика их пера, когда им случается ее лицезреть. Может быть, дело в том, что это всегда были горожане, люди, привыкшие к спокойным, размеренным горизонтам, которые не могли испытывать никакой тяги к дикой, непокоренной природе, о которой чаще всего знали лишь понаслышке, так как экскурсии в горы и подъемы на вершины тогда еще не были в моде. Путешественники созерцали окутанные облаками заснеженные вершины из окна экипажа, проездом, и у них никогда не возникало желания ни подняться на них, ни даже приблизиться к склонам. Кох научился видеть и изображать горы, тогда как ни один из его современников ими не интересовался. Коху же эти места были знакомы, и он горячо любил их. Вплоть до того момента, когда всепоглощающий культ Италии заставил его забыть родную страну — буквально или почти буквально, поскольку с 1795 по 1839 год он покидал Рим только один раз, чтобы провести три года в Вене, между 1812 и 1815 годами. Но именно во время этого пребывания в Вене он будет вдохновлять таких молодых пейзажистов, как Роттман, братья Оливье, Фогр, подавая им пример и щепетильно уважая их индивидуальность. Фердинанд Георг Вальдмюллер был венским венцем, и именно жители Вены, а в особенности мелкая буржуазия предместий поддержали и защитили его во время его мучительного дебюта. Сын кабатчика, он познал нищету, постоянно нуждался, и родители постоянно ругали его за выбор бесперспективной карьеры. Поначалу, до того как стать модным художником, портретистом знаменитых красавиц и аристократии, он писал представителей класса бедняков, среди которых жил. Потом были портреты ради куска хлеба, которые он писал с такой уверенностью и с таким блестящим мастерством, что они сделали его знаменитым в Лондоне и Париже, а также и в имперской столице, которая после нескольких лет пренебрежения увлеклась его мастерством и обеспечила ему огромный успех. В его портретах чувствуются спокойное достоинство, непринужденная изысканность, сдержанная элегантность дворян и крупных буржуа, задававших тон в бидермайеровском обществе. Когда он пишет какую-нибудь семью, он доходит почти до создания жанровой сцены, потому что воспроизводит вокруг персонажей знакомую им атмосферу, мебель из красного или светлого лимонно-желтого дерева, портьеры с тяжелыми складками, элегантные безделушки. Достаточно бросить взгляд на полотна Вальдмюллера, чтобы понять, как жило это общество, о чем оно думало и что его волновало. Популярностью и состоянием он был обязан своей репутации портретиста. Но для нас он в еще большей степени остается толкователем пейзажей окрестностей Вены. Он не едет, как Кох, на швейцарские ледники и на водопады Тироля, а довольствуется ближайшими к столице прекрасными полями и гармоничными лесами, в которых оказывается, едва выйдя за околицу предместья. Зеленеющий горизонт, слегка волнистый и соразмерный человеку, эта подлинная и простая природа, которая зовет на прогулку и является продолжением садов и внутренней части города, лежащей между Фольксгартеном, Аугартеном, Пратером и свободно разрастающимся лесом, где человек может забыть о городском шуме, удалившись от него на расстояние, которое можно пройти пешком самое большее за час, — вот мир, принадлежащий Вальдмюллеру. И он дает нам такие прекрасные, такие трогательные образы этого мира, так тонко передает утреннюю свежесть лужаек Пратера, величие закатов на поросших лесом высотах Каленберга,[129] что эти пейзажи — если верить парадоксу Оскара Уайльда, заметившего как-то, что природа становится похожей на картины, — заставляют зрителей почувствовать себя Вальдмюллером, настолько глубоко взаимосвязаны чувствительность художника и мир, который он изображает. Рядом с Вальдмюллером следовало бы назвать многих других австрийских романтических пейзажистов: Антона Ганша, специализировавшегося на высокогорных пейзажах, Франца Штайнфельда, от чьих горных потоков веет музыкальной свежестью, Фридриха Лооса, которому любы обширные пространства Дунайской равнины, давно позабытого Эразма Энгерта, чья превосходная картина старой Вены, такой узнаваемой, спокойной и улыбчивой, была обнаружена совсем недавно, Йоганнеса Тома, живописца очаровательных деревенских домов, построенных в романтическую эпоху на полпути от предместий до Венского леса…Портреты и жанровые сцены
Еще большей или, по меньшей мере, такой же популярностью, как пейзажная живопись, пользовался у любителей искусства портрет. Причем речь идет не только о богатых, просвещенных любителях, но и о мелких буржуа, и о людях из простого народа. Если вспомнить о том, что Йозеф Крихубер написал больше трех тысяч портретов и что он был всего лишь одним из многих художников, достигших совершенства в этом искусстве, то остается лишь удивляться тому, что в таком городе, как Вена 1830 года, у такого огромного множества художников всегда была масса клиентов. Это увлечение портретом происходило от той любви к реальности, которая была основой художественного вкуса австрийцев. Венец не искал в искусстве средства ухода от мира, в котором жил; совсем наоборот: он ждал, что искусство поможет ему наслаждаться этим самым миром, который он любил и в котором был счастлив. Ему не были нужны ни фантастика, ни нечто сверхъестественное. Его очаровывала поэзия действительности, и этого ему было вполне достаточно. Увлечению портретом благоприятствовал и экономический фактор, чем также не следует пренебрегать: по всей вероятности, портреты обходились клиентам художников очень дешево. Хотя у нас и нет сведений о том, какую цену назначал художник за свою работу — она, естественно, менялась в значительных пределах в зависимости от его таланта и известности, — цена эта, очевидно, была довольно низкой, поскольку до наших дней сохранилось множество портретов людей из простонародья. Похоже, что одна такая картина обходилась не дороже современной фотографии, и надо было быть очень бедным, чтобы отказать себе в удовольствии за столь небольшие деньги украсить свой дом собственным изображением. Красота женщин, изысканность мужчин, изящество мод придавали портрету особенное очарование. Ниспадавшие по щекам локоны, шали, соскальзывающие с округлых плеч, глубоко декольтированные, очень узкие в талии платья, отделанные облаками воздушной кисеи, причудливые шляпки с перьями и лентами добавляли пикантность физиономиям этих княгинь и дам из буржуазии, скромную миловидность или аристократическое величие которых увековечивали Фридрих Амерлинг, Вальдмюллер, Йозеф Данхаузер, Петер Фенди, Мориц Даффингер. Такие широко известные полотна, как Играющая на лютне Амерлинга, портрет Кэти Майрхофер кисти Франца Шроцберга, миниатюра Даффингера, изображающая вечную невесту Грильпарцера Кэти Фрелих, и портрет Марии Смолениц, на которой художник женился и которую Грильпарцер находил так угрожающе красивой, потому что тоже ее обожал, прекрасные Жительницы Тироля работы Франца Эйбля, карандашный портрет княгини Шварценберг Крихубера лучше любого описания говорят о той атмосфере, которую эти восхитительные женщины создавали в Вене эпохи романтизма. Это уже не были парадные портреты эпохи барокко, застывшие в псевдоиспанском церемониале окаменевшего от этикета двора: сердца и души смягчились и одновременно обрели больше свободы, больше фантазии, больше подлинного изящества. Модель не позирует перед художником в нарочитой позе, а художник стремится сделать портрет по возможности естественным. Он озабочен не только достижением физического сходства, формальной точности изображения, но в гораздо большей степени отображением психологической реальности, того уникального облика личности, который делает каждого человека не сравнимым ни с кем другим. Венские художники довели до совершенства изображение индивидуального характера, оригинального облика и темперамента, и достаточно одного взгляда на изображение Марии Смолениц, чтобы согласиться с Грильпарцером и представить себе бездны радостей и мук, ожидающие того, кто отважится ответить на призыв этих «глаз оленихи». Естественно было также и то, что всеобщая любовь к поэтической реальности не в меньшей степени, чем к пейзажу и портрету, благоприятствовала изображению жанровых сцен. Сущность изображаемой картинки жизни здесь та же, что и в романах Штифтера и Грильпарцера, в пьесах Нестроя и Раймунда и даже в насмешливых описаниях Айпельдауэра. Можно также предположить, что она не слишком далека от истоков Песен Шуберта, в которых соединение непринужденности сюжета и вдохновения творит волнующую музыкальную красоту. Шубертовская Песня является по-своему жанровой сценой, кусочком чувственной, радостной или же полной отчаяния жизни, как, например, в его циклах Прекрасная мельничиха и Зимний путь. Легко себе представить, что мотивы жанровых сцен могут варьироваться до бесконечности в зависимости от каприза художника и предпочтений заказчика. Народные празднества Леандера Русса, эпизоды городской жизни, в иронической манере изображенные Иоганном Ранфтлем, лирические сцены Иоганна Рейтера, деревенские обряды Фридриха Тремля — вот диапазон тематики этого жанра. В жанровой картине проявляется все простодушие «бидермайера», пронизанное реализмом, созвучное тонкому, интенсивному, но сдержанному романтическому чувству, которое словно из осторожности не хочет, чтобы его принимали всерьез. К самым замечательным и самым известным живописцам, работавшим в этом жанре, следует причислить Вальдмюллера, Даффингера, Данхаузера, Амерлинга, Эйбля, которые не ограничивались пейзажами или портретами. В этой области отличились также Карл Шиндлер, Михаэль Недер, Петер Фенди, которых также необходимо назвать в этом перечне, потому что их личности типичны для повседневной венской жизни, тонкими, веселыми и пылкими выразителями которой они пожелали остаться. Некоторые из этих художников особенно преуспели в изображении эпизодов народной жизни потому, что сами вышли из народа. Таков, например, Михаэль Недер, который в свое время чинил обувь в предместье Дёблинг. В творчестве Недера нет никакой прозаической тяжести; могущество симпатии и любви преображает у него самые обыденные моменты повседневной жизни. В чем-то очень близкий своему современнику баварцу Карлу Шпицвегу,[130] он наделен даром одновременно иронического и исполненного любви видения окружающих его людей и вещей. Неприметный мастер, не интересовавший богатых коллекционеров и работавший для простых людей своей деревни и для своих коллег-ремесленников, Михаэль Недер прожил всю жизнь в бедности и умер в больнице, но никто не смог лучше и правдивее его передать спокойную и жизнерадостную скромность венских предместий. Петер Фенди — живописатель зажиточной буржуазии и семейной жизни. Несколько сентиментальный, он опустился бы до преувеличенной сентиментальности, если бы не владел в совершенстве ремеслом живописца и не старался умерять свою типично венскую чувствительность, останавливаясь точно в тот момент, когда умиление угрожало перейти в театральность. Теплые и мягкие интерьеры бидермайерского декора создают обрамление его лирических сцен, изображенных в приглушенном свете и словно бы покрытых вуалью. Портреты и композиции Фенди, предпочтительными героями которых являются красивые, бойкие и ласковые дети, наводят на мысль о Шумане в его Детских сценах. Карл Шиндлер, напротив, выискивает несколько театральные сюжеты, в традиции, которая во Франции считалась бы традицией Греза и слезливой драмы.{48} Этот венец из старинного рода, отец которого преподавал рисунок в высшей школе св. Анны, умер двадцати одного года в Лааб-им-Вальде, близ Вены. На протяжении всей своей короткой карьеры он специализировался на выразительных эпизодах из военной жизни — на изображении не боевых сцен, а печали новобранца, оторванного от семьи, или родителей, которым сообщают, что их сын убит на войне. Его предпочтительной техникой является акварель, в которой он достиг виртуозности, сделавшей его знаменитым. В жанрах австрийской живописи первой половины XIX века, о которых мы только что говорили, мало что можно сопоставить с великим немецким романтическим искусством той эпохи, воплощенным в работах Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Карла Густава Каруса, Карла Блехена, Людвига Рихтера, Эрнста Фердинанда Эме, если говорить только о самых «романтичных». Этот романтизм был недоступен австрийским художникам, только некоторые пейзажи, рисующиеся воображению в Песнях Шуберта, заслуживают того, чтобы поставить их рядом с мистическими пейзажами немцев. Зато другая ипостась романтического искусства, относящаяся скорее к иллюстрированию, нежели к живописи в полном смысле этого слова, рассказывающая легенды и сказки и считающая то, что рассказывается, не менее важным, чем манера рассказывать — если хотите, программная живопись, — обрела своего мастера в лице Морица фон Швинда и, в меньшей степени, в лице другого замечательного художника Шнорра фон Карольсфельда: первый был урожденным венцем, второй — учеником венской Академии, в которой прошла часть его творческой жизни. Шнорр фон Карольсфельд жил в Риме, в окружении назарейцев. Он написал ряд религиозных картин в стиле этих художников, которых называли итальянскими прерафаэлитами. Он также прекрасно писал австрийские пейзажи и был горячим сторонником обращения вслед за Карстенсом, Кохом и Рунге к средневековым эпопеям, которые были в этот период заново открыты. Он очень четко ощущал эту обновленную готику, которая разрабатывалась у романтиков под влиянием многочисленных обращений протестантских художников в католичество, а, возможно, также под влиянием Священного Союза и Венского конгресса. Средневековая германская готика и первый итальянский Ренессанс в его представлении — как и в понимании Петера Корнелиуса, Овербека, Франца Пфора или Фердинанда фон Оливье — не слишком отличались друг от друга. Эклектик Шнорр обязан многим, с одной стороны, атмосфере немецкого романтизма, с другой же — романтизму назарейцев, в котором, однако, легко узнавались австрийские черты. Искусство Морица фон Швинда трудно отнести к исторической живописи. Чтобы обозначить его более корректно, следовало бы изобрести термин «легендарная живопись». Мир, который он творит с несравненным изяществом, близкий ему мир — это общество заколдованных принцесс, очарованных рыцарей, картины лесов, оглашаемых звуками охотничьего рога, гномы и русалки, водяные духи и волшебницы. Мир этого художника — арена непрерывных метаморфоз, удивительных преобразований; он прогуливается в окружении этой привычной фантастики, как другие живописцы прогуливались по лишенным какого бы то ни было колдовства тропинкам Венского леса. У Морица фон Швинда все встречи сопровождаются восхищением, вызываемым присутствием сверхъестественного. Эти чудодейственные леса оживали и шелестели листвой в его воображении. Этот веселый друг Франца Шуберта воссоздавал мир чудес, не покидая Вены, которую любил так сильно, что готов был отказаться от расставания с ней даже на время короткой поездки в Мюнхен. Что же до Рима, то он взглянул на него только проездом. Ни Италия, ни жившие в Риме немецкие художники не могли его там удержать. Действительностью для этого проснувшегося мечтателя были образы, которые фантазия навевала ему еще в большей степени, чем ночные сны. Когда он изображает сверхъестественное, он пользуется словарем чуткой природы, ее привычными формами. Из всего вновь открытого романтиками Средневековья, чью традиционную литературу изучал Гердер, а Брентано и Арним поднимались к истокам столетий по долгой, непрерывной последовательности песен, басен и поговорок, из всего того, что звучало в «волшебном роге мальчика»,{49} Мориц фон Швинд выбрал самые красивые сказки и вдохновлялся ими, иллюстрировал их. Ведь эти сказки, наряду с изобретательским гением народа, отражают изначальную истину, волшебную силу, то, что Новалис считал символом самой высокой и самой глубокой реальности. Очаровывавшие романтических писателей сказки, начиная с Зеленой змейки и Новой Мелузины Гёте и кончая Гофманом, озаряли радужным светом картины Морица фон Швинда: прекрасная Мелузина, красавица Лау, Семь Воронов, Белоснежка, Кот в сапогах, Золушка были для него неисчерпаемыми источниками вдохновения. Наряду с Рихтером он является превосходным иллюстратором романтических произведений, потому что поэма или сказка только дают толчок его изобретательному воображению, и далекий от того, чтобы придерживаться текста, он «вышивает» по канве, предложенной писателем, с той полной воодушевления и изысканности оригинальностью, которая сообщает редкое изящество и неодолимую силу воздействия всему тому, что он пишет. Любители чистой живописи, которые верят только в пластику, в живописность, в материал, в мазок, будут притворяться, будто осуждают его за то, что он придавал слишком большое значение «историям», но кто еще умел рассказать какую бы то ни было историю с такой блестящей непринужденностью, с такой веселой и взволнованной искренностью, с такой интимной поэтичностью, всегда достаточно далекой от патетики? Среди живописцев-поэтов, воплощающих в себе немецкий романтизм, Мориц фон Швинд является одновременно одним из самых характерных и самых очаровательных. Он в самом прямом смысле этого слова представляет австрийский вклад в романтизм, венский дух, перенесенный в фантастику, безо всякой пародийной окраски, присутствующей в феериях Раймунда по той причине, что Раймунд не верил в волшебниц, тогда как (в этом я абсолютно уверен) восхищение волшебным Морица фон Швинда возникало именно в ответ на то, с чем он встречался в легендарных лесах, на явления сказочных персонажей, которых он носил в себе и считал реально существующими.Глава десятая ЦАРСТВОВАНИЕ ГОСПОДИНА БИДЕРМАЙЕРА
Венский Жозеф Прюдом. Воцарение буржуа. Начало индустриальной эры. Венские евреи. Пережитки абсолютизма. Социальная напряженность
«Эпоха бидермайера», «стиль бидермайер» — эти слова повторяются непрестанно, когда речь идет об образе жизни, чувств и мыслей, о том, как выбирали и обставляли квартиры в период XIX века, примерно от Венского конгресса до революции 1848 года. Люди «передовых» идей и авангардистские художники употребляли слово «бидермайер» с насмешкой. Некоторое время оно казалось таким же смешным, как во Франции стиль Луи-Филиппа,{50} который является его современником. В наши дни мы более справедливы, более широко смотрим на вещи, особенно когда речь идет о вкусах, и стиль «бидермайер» из нашей отдаленности, придающей изящество и красоту вещам, которые считались безобразными или неприятными при непосредственном контакте с ними, представляется перегруженным устаревшими, но чрезвычайно трогательными, привлекательными особенностями, эстетическая ценность которых при этом часто не вызывает сомнений. Г-на Бидермайера, человека, давшего имя этому стилю, в то время клеймили как филистера, обывателя и ретрограда, одним словом, как буржуа, и, действительно, царствование г-на Бидермайера — это и есть господство буржуазии.Венский Жозеф Прюдом
Если значение, придаваемое личности г-на Бидермайера, действительно было так велико, что его именем оказалась отмечена целая эпоха, можно думать, что он был человеком ярким и оригинальным, вполне достойным того, чтобы его имя вошло в историю наравне с другими великими создателями стилей, скажем, с Людовиком XIV или с Людовиком XV. Что же это был за человек? Приходится с удивлением признать, что если говорить о реально существующем и обладающем гражданским статусом человеке по имени Бидермайер, то такого человека никогда не было, и что даже если когда-то и существовал кто-то по фамилии Бидермайер, то это была никому не известная личность, оказавшаяся неспособной оставить свой след и повлиять на умы, чувства и вкусы. Действительно, г-н Бидермайер существовал на свете не более чем его французский вариант г-н Прюдом. Он был плодом фантазии писателя Людвига Пфау. Тот просто придумал этого добряка и, чтобы придать ему больше реальности, представить во плоти, опубликовал под этим заимствованным именем стихотворения бедного сельского учителя, наделенного более искренностью, нежели талантом, чье наивное, несколько церемонное, а порой и глуповатое морализаторство, по-видимому, прекрасно соответствовало характеру этого псевдо-Бидермайера. Сельского учителя звали Самуэлем Фридрихом Заутером. Он родился в Флеингене в 1766 году и на совесть исполнял свои благородные обязанности деревенского просветителя, будучи человеком прямолинейного ума и глубокой наивной доброты, а потому заслуживал, наверное, лучшей участи, нежели созерцание своих скромных творений, подписанных выдуманным именем «Бидермайер». Он воспитал восьмерых детей и посвятил свою долгую жизнь в достойной и отважной бедности обучению азбуке деревенских ребятишек. Впрочем, в действительности он не видел издания своих стихов, потому что они были напечатаны лишь спустя несколько лет после его смерти, когда два сатирика, Адольф Куссмауль и Рудольф Родт, в течение двух лет печатали эти довольно смешные стихи в газете Флигенде Блеттер под заголовком «Избранные произведения Вейланда Готлиба Бидермайера». Так был рожден почти полностью фиктивный персонаж, который проторил себе дорогу в мир, и теперь его окруженное почетом имя фигурирует во всех книгах по истории искусства. Случается, что нереальные существа формируют характер эпохи даже более успешно, нежели живущие в действительности художники или государственные деятели, и хотя это имя, собранное из нескольких кусков шутником-памфлетистом и соответствующее французскому «добрый малый Дюран», является чистой выдумкой, оно стало незаменимым в наши дни, когда мы так привыкли говорить о мебели «бидермайер», о безделушке в стиле «бидермайер», — при этом оно утратило заглавную букву, и стало таким же обычным прилагательным, как «готический», «барокко» или «романтический». Выяснив таким образом вопрос о личности г-на Бидермайера и не забывая о том, что в сознании его создателей это имя связывалось со словом «буржуа» и означало все, что относится к буржуазии, мы констатируем, что, за исключением некоторых артистических или пролетарских кругов, Вена в течение целых тридцати лет покорно пребывала под скипетром г-на Бидермайера: эти годы явились свидетелями обогащения, процветания и прихода к власти класса, который до того влачил скромное растительное существование, обретаясь на пути между народом и аристократией, причем гораздо ближе к первому, чем ко второй.Воцарение буржуа
Огромные расходы, которые возложила на уже обедневшую из-за войн аристократию обязанность «вести себя достойно», ненадежность «деревянных денег», инфляция и увеличение массы банковских билетов довольно сильно ударили по классу дворянства, которое оказалось в долгах у банковских воротил, иными словами, у буржуа. Золотой век банкиров начался еще при правлении Иосифа II, который, как это ни парадоксально, одновременно с ратованием за уравнивание сословий благоприятствовал созданию категории финансистов, и те не замедлили впоследствии прибрать к рукам наследство матушки Австрии. «Сто флоринов в сотне бирж, — писал император, — стоят больше, чем тысяча флоринов в одной». И тем не менее он позволил австрийским или иностранным финансистам, главным образом швейцарским, до некоторой степени монополизировать достояние страны. Расчет был хитрым. Иосиф не любил аристократию; имперские вельможи раздражали его и вызывали у него опасения. Идея опереться на класс, который будет обязан ему своим богатством, и создать единый с ним фронт против «феодалов», против всех этих венгерских, австрийских, польских дворян, командующих миллионами подданных и кичащихся порой большей родовитостью, чем у императора, — эта идея привела «просвещенного самодержца» к образованию буферного класса, который, как он надеялся, будет ему предан и поспособствует осуществлению реформ. Абсолютизм, о котором мечтал Иосиф, как бы он ни желал считать себя революционером, был нереализуем, поскольку серьезным препятствием на его пути была аристократия. Так пусть какая-нибудь партия или каста, которую он сделает такой же сильной, как аристократия, или еще сильнее, поможет ему опрокинуть это препятствие. Он создал «блок» финансистов против Кауница, который за многие годы правления обрел мудрость, рассудительность, осторожность и опыт.«В этот период венский банк был в основном в руках иностранных финансовых воротил. Чтобы привлечь к себе этих могущественных людей, Иосиф II пожаловал некоторым из них баронский титул. Так получили дворянство Фуксы, Пауль Казати из Праги, Якоб Гонтар из Франкфурта и еврей Арнштайн, а протестантский банкир Фриз к большому возмущению австро-венгерской аристократии был удостоен графского титула. Иосиф II, часто бывавший у Арнштайнов, говорил о музыке и литературе с красавицей женой банкира Фанни Ициг».[131]Стремление буржуа занять места, традиционно сохранявшиеся за аристократами, не обошлось без сопротивления со стороны последних, но, поскольку толчок был дан, остановить процесс было уже невозможно. Войны Империи, сделавшие монархов должниками банкиров, Венский конгресс, во время которого последние стали кассирами Величеств и Высочеств, собравшихся для решения судьбы Европы, укрепили финансовые позиции буржуазии и открыли ей дорогу к процветанию и почестям. Порой это происходило настолько быстро, что разбогатевших буржуа нельзя было не считать выскочками, гордившимися тем, что было средством их выдвижения, — своими деньгами. Однако в Вене никогда не было безудержного, всепоглощающего, почти патологического культа денег, характерного для периода французской Реставрации, бесчисленные примеры чего мы находим в произведениях Бальзака. Австрийцам никогда не были свойственны жадность и скупость. В Вене, где все легко тратили свои доходы и очень часто жили не по средствам, что было на руку крупным и мелким заимодавцам — я имею в виду тех, кто авансировал сотни тысяч флоринов аристократам, оказывавшимся в стесненных обстоятельствах, а также скромных ростовщиков, позволявших какому-нибудь мелкому служащему дотянуть до конца месяца, не умерев с голоду, — в этой Вене был немыслим такой, например, персонаж, как папаша Гранде. Поставщики государства: банкиры, промышленники, оптовые торговцы — эта буржуазия, укреплявшая свой престиж и веру в себя и гордившаяся принадлежностью к «достойному и процветающему классу», по мере дальнейшего обогащения навязывала свой образ жизни и свои вкусы эпохе, отмеченной сгущавшимися сумерками европейских монархий, предвещавшими эру демократизации независимо от желания или нежелания монархов. Возрастание роли буржуазии, которая сложилась в Австрии в то же время, что и во Франции, если не по одним и тем же причинам, то, по меньшей мере, в результате сходных процессов социального развития, является одной из основных черт жизни Вены в первой трети XIX столетия. Сложные экономические и политические условия благоприятствовали воцарению буржуа, которое совпало с наступлением индустриальной эпохи и, конечно же, зависело от него. Успех буржуазии объясняется тем, что в ее руках оказывается сосредоточена вся экономическая жизнь. Буржуазия обогащается по мере обнищания дворянства, всех этих крупных землевладельцев, нередко владевших огромными поместьями размером с провинцию, приносившими при этом лишь незначительные доходы. Вплоть до начала XIX века Австрия оставалась в основном сельскохозяйственной страной. Развитие промышленности повлекло за собой развитие финансов. Дворянство, постепенно лишившееся части своих состояний в результате войн, девальвации денег и невозможности сбалансировать расходы с доходами, оказывалось все в большей и большей зависимости от финансовых воротил. Безденежные дворяне, легкомысленные в силу национального характера и традиций своего класса, с презрением относились к деньгам, в которых так нуждались. Они беспечно опустошали счета, которые открывали им банкиры, не думая о том, что придет день, когда придется возвращать ссуды, отягощенные большими процентами. По мере того как богатство таяло, уменьшались их влияние и авторитет. Поскольку престиж и власть всегда на стороне денег, в момент, когда они перестали быть хозяевами — или, по меньшей мере, единственными хозяевами — этих денег, они потеряли все, что у них оставалось. Таким образом, можно сказать, что крупными фигурами эпохи бидермайера являются представители буржуазии, не лишенные оригинальности, а порой даже блистательные. Облик общества и характер самой Вены претерпели глубокие изменения в результате этой социальной эволюции, которая существенно ускоряется с конца XVIII века и вплоть до революции 1848 года. Революция же обозначала, разумеется, не упадок буржуазии, потому что в ее руках остались командные рычаги, а рождение новой силы — пролетариата. Действительно, появление пролетариата является неизбежным следствием развития промышленности, и, чтобы предотвратить скопление беспокойных бедняков, способных в любой момент превратиться в ниспровергателей режима, правительство в течение длительного времени пыталось защищать Вену и ее ближайшие окрестности от вторжения и разрастания заводов. Развитие промышленности было одной из основных необходимых мер, провозглашавшихся энциклопедистами и просвещенными самодержцами, претендовавшими на роли учеников и соперников философов. Иосиф II, разумеется, не забыл, что Петр Великий, которого он считал для себя образцом, работал собственными руками, дабы познать ремесла и технологии, и что индустриализация России была одним из самых эффективных средств ее модернизации. Несомненно, все мечтали о прогрессе, который обеспечил бы скорейший и легчайший доступ к счастливой жизни, когда можно будет доверить большую часть ручной работы машинам. Эта главная идея заканчивавшегося XVIII века представлялась слишком соблазнительной, чтобы кто-нибудь захотел воспрепятствовать ее реализации. Частью кредо, питавшего химеры века просвещения, было доведение городского рабочего до уровня цивилизации и счастья, превосходящего уровень крестьянина. Мыслители и инженеры, возлагавшие надежды на прогресс машинизации, не подозревали, что могут получить какие-то иные результаты, кроме благоприятных. Радикальные изменения, которые не мог не внести в равновесие социального порядка рост промышленного пролетариата в ущерб сельскому хозяйству, изначальному источнику богатства во всех странах, и в особенности в Австрии, сосредоточение богатства в руках фабрикантов, торговцев и банкиров, скудость денежного содержания, от которой страдали военные и чиновники, и, наконец, упомянутое выше перемещение денег, повлек шее за собой моральные и психологические последствия не в меньшей степени, чем социальные, серьезность которых было даже невозможно предвидеть, — все это начинает служить подготовке революции за полвека до того, как она разразится. Как мы видели, политическая ситуация в Австрии слишком сильно отличалась от того, что происходило во Франции, чтобы на нее могло повлиять движение 1789 года. Шестьюдесятью годами позже промышленная империя окажется почти в таком же положении, что и Франция Луи-Филиппа, и если австрийская революция не привела, как это было во Франции, к смене режима, то это произошло потому, что она была обуздана репрессиями и жестокими мерами подавления, на которые Франция была неспособна, потому что привязанность огромного большинства народа к монархии в Австрии оставалась незатронутой, а также потому, что присущее венцам добродушие помешало этому народу стать по-настоящему революционным.
Начало индустриальной эры
Индустриальная эра начинается в Австрии около 1780 года; этому предшествовала нараставшая активность в области производства бумаги и шелка, полотна и шерстяных тканей, а также пивоварения. Первые венские бумажные фабрики появляются в Раннерсдорфе в 1732 году, но это пока еще очень мелкие предприятия. Намного более значительны предприятия, построенные Траттерном и Пахтером в 1767 году в Эбергассинге и в 1793 году в Клайн-Нойзидле. Число таких предприятий растет не слишком быстро, и в 1811 году во всей Нижней Австрии было всего восемь бумажных фабрик В противоположность этому предпочтительными отраслями являются бурно развивающиеся в этот период шелковая промышленность и производство предметов роскоши. Число фабрик, производивших пользовавшиеся большим спросом шелка и ленты, выросло за несколько лет с пяти десятков до ста с лишним. В это же время появляются заводы, постоянно вызывающие тревогу у градостроителей и властей, озабоченных здоровьем народа: это предприятия, производящие химические продукты — аммиак, ртуть, краски, а также маслоочистительные заводы, нагло вторгающиеся в предместья, доступ в которые не был запрещен. В городе работали пять тысяч станков для изготовления шелка, шерстяных и хлопчатобумажных тканей, причем подобные станки часто устанавливали даже в жилых домах. Прогресс, от которого столь многого ждали философы, зачастую приводил к катастрофическим последствиям. В декабре 1810 года были остановлены две трети из десяти тысяч ткацких станков, работавших в Вене, и обезумевшие разорившиеся коммерсанты потребовали помощи от государства, которое, чтобы избавить их от произвола финансистов, организовало правительственный ссудный банк на беспроцентной основе или с минимальными процентными ставками. Эта благотворительная мера нарушила равновесие в имперских финансах — настолько велико было число предприятий, оказавшихся в тяжелом положении или потерпевших полный крах. Таким образом, вовсе не все было к лучшему в этом лучшем из миров, даже в беспечной Австрии. Экономические преобразования в структуре общества вызвали глубокие изменения в межклассовых отношениях и постепенно разрушали то единство общества, которое, несмотря на различие в уровнях благосостояния, все еще существовало в XVIII веке.Венские евреи
Не проводя явно выраженной антисемитской политики, правительство Марии Терезии не скрывало своих намерений держать евреев в узде и не допускало того, чтобы они занимали слишком значительное место в экономике страны. Последствия этой недальновидной политики пришли в противоречие с самой ее целью. Например, евреям было запрещено заниматься розничной торговлей продуктами питания, которая, кстати сказать, была очень малодоходной и поэтому малопривлекательной. Эта мера вынудила евреев обратиться к торговле деньгами, в которой они преуспевали и которая стала для них источником громадных доходов. Всему венскому населению, легкомысленному, беспечному, одержимому гурманством, закладывавшему ростовщикам самые жизненно необходимые вещи, чтобы шикарно, в новой одежде отпраздновать день св. Анны или св. Бригитты, ростовщичество казалось спасительной соломинкой в море финансовых трудностей. Даже взимая разорительные для клиента проценты, заимодавец оставался благодетелем, и к его услугам прибегали все чаще и чаще. Постоянными клиентами ростовщиков были прежде всего офицеры, вовлеченные в большие расходы для поддержания своего престижа и оплаты развлечений, так как их жалованье не позволяло ни приобрести роскошную форму, ни держать пару лошадей. Им приходилось занимать деньги, даже если они жили не слишком разгульно и не проводили дни и ночи за игорным столом, но зато имели то, что называют ужасным словом «перспектива», иными словами, богатых родителей, на будущее наследство от которых рассчитывали в самом буквальном смысле слова. Чиновники получали от государства так же мало, как и военные, к тому же чаще всего даже это мизерное жалованье им платили очень нерегулярно, и в этих обстоятельствах визиты к ростовщику становились печальной необходимостью. Венец, мало склонный к заботам о своих делах, живший сегодняшним днем и не задумывавшийся о завтрашнем, подписывал любую бумагу, которую ему подсовывали. Говорят, что за пользование ссудой в сорок флоринов пражские ростовщики Кореф и Хух требовали с чиновника, получавшего в год пятьсот флоринов, долговой расписки на шестьсот.[132] Обычной и почти нормальной ставкой были 20 %. При этом бедный служащий, которого, скажем, болезнь вынуждала обратиться к ростовщикам, тут же непоправимо разорялся. Зная об этом ужасном положении вещей, Иосиф II пообещал учредить государственный банк, призванный оказывать помощь оказавшимся в нужде низшим служащим (предполагалось, что высшие чиновники не испытывают денежных затруднений). К сожалению, этот проект так никогда и не был осуществлен. По мере ухудшения финансового положения в результате девальвации и инфляции бумажных денег, которые приходилось печатать во все больших и больших количествах без обеспечения драгоценным металлом (причем печатались они так небрежно, что их без труда подделывали фальшивомонетчики), а также из-за непрерывного ускоренного роста стоимости жизни мелкие чиновники не знали, как свести концы с концами. Неудивительно, что выручавший ихна короткое время ростовщик считался благодетелем. Заметим, что, вероятно, не все венские ростовщики были евреями и что неевреи, торговавшие продуктами питания после введения новых полицейских правил, вовсе не были филантропами. Однако репутация детей Израиля в этой ультракатолической стране была достаточно плохой, и в 1670 году был издан декрет о выселении евреев за пределы Вены. При правлении Иосифа II этот суровый декрет был смягчен в том смысле, что любой еврей, либо имевший заслуги на государственной службе, либо ссужавший государство деньгами, получал право на привилегии. Власти терпимо относились к евреям, посвящавшим себя промышленной деятельности и строительству фабрик. Так, в начале XX века в столице империи насчитывалось несколько сот евреев, постоянно проживавших в городе, и несколько тысяч проживавших временно, в связи с деловой необходимостью. Похоже, что эти индивидуальные исключения стали очень многочисленными, поскольку император в 1808 году отдал распоряжение о проверке всех актов о привилегиях. Однако в этот период евреи составляли незначительный процент от общего венского населения: за десять лет терпимостью властей воспользовались всего сто тридцать еврейских семей, но их сопровождало такое множество прислуги и наемных работников всякого рода, что это вызвало тревогу у австрийцев, склонных видеть в них опасных конкурентов. И тогда власти надумали обложить их налогом на проживание, составлявшим первоначально тридцать крейцеров с человека за две недели. Всего за восемь месяцев этот налог принес доход в сумме более пяти тысяч флоринов. В дальнейшем он постоянно увеличивался. Хотя евреям было запрещено торговать продуктами питания, в 1816 году им разрешили продавать зерно, слухи о плохом урожае которого приводили в ужас венцев, потреблявших в большом количестве хлеб и кондитерские изделия. Лазарь Бидерман даже удостоился благодарности императора за успешную деятельность в области импорта зерна, а Герц стал первым евреем-поставщиком армии. Поскольку евреям пока еще запрещалось приобретать недвижимость из опасения, как бы они не стали спекулировать на дефиците жилья, такие еврейские предприниматели первых десятилетий XIX века, как Мозес Лакенбахер, Маркус Лейдендорф и Соломон Герц, прибегали к услугам подставных лиц. Финансовые трудности, которые империя испытывала в результате войн, вынудили государство обратиться к богатым банковским воротилам, чтобы спасти государственную казну. Такие выдающиеся государственные деятели, как Меттерних, предлагали компенсировать щедрость этих дарителей или заимодавцев предоставлением им дворянства. Именно так богатейшие банкиры Ротшильды, Арнштайны, Эскелес, Либерман, Герц стали рыцарями и баронами. После получения ими этой привилегии становилось все труднее отказывать им в назначении на административные должности. Первой жертвой этой политики стало приносившее крупные доходы государству управление табачной монополией (импорт иностранных табаков был запрещен, и австрийский табак навязывался, например, Италии, что вызвало большое негодование итальянцев в эпоху Рисорджименто{51}). Судьбы курильщиков определял назначенный имперским и королевским советником Аарон Хёнг фон Хёнигсберг. Леопольд II открыл евреям доступ сначала к юридическим профессиям, а потом к медицине. В этой последней отрасли науки евреев вскоре оказалось так много, что, во избежание перепроизводства обычных врачей и хирургов, из этих профессий стали изгонять поляков, что, как нетрудно себе представить, вызвало состояние постоянной напряженности между империей и польскими провинциями, которые показали себя такими беспокойными во время Венского конгресса и с почти вызывающим энтузиазмом высказывали свое восхищение Наполеоном и симпатию к имперской Франции. Лишь несколько самых непримиримых деятелей удивлялись или выражали свое негодование, видя, как самые высокопоставленные лица, включая самих монархов, посещали во время конгресса салоны «знатных евреев». Еврейские приемы ничем не отличались от приемов в домах христиан, разве что на них, вероятно, преобладали беседы более интеллектуального содержания и более современный дух. Да и роскошь таких приемов была более пышной, поскольку банкиры обогащались в темпе, пропорциональном обнищанию государства и аристократии, и именно они предоставляли казне деньги, мгновенно поглощавшиеся бездонной пропастью совершенно излишних расходов. Ресурсы аристократов не увеличивались в противоположность стоимости жизни, которая становилась все более высокой, и, сохраняя свое лицо в этом оглушительном водовороте празднеств, на которых женщины должны были постоянно демонстрировать все новые платья и украшения, дворяне-земле-владельцы лишь смотрели на то, как на их глазах, подобно снегу на солнце, таяли последние деньги, поступавшие от фермеров-арендаторов. Они не могли увеличить арендную плату, так как удорожание жизни лишало прибыли или оставляло лишь малую ее часть производителям. Несмотря на все меры предосторожности, объявленные императором, на торговле продуктами питания, как всегда, обогащались посредники. Во время конгресса в Вену съехалась масса потребителей, и потребителей требовательных, чья привычка к богатому столу способствовала дефициту и, следовательно, подорожанию всех продуктов, что вполне отвечало непреложному экономическому закону повышения цены на продукцию по мере роста спроса. И если социальная ситуация начала ухудшаться по мере расширения пропасти между образом жизни знатных вельмож и народа, включая мелкую буржуазию, то причиной этого было главным образом неравенство, бросавшееся в глаза во время вызванного конгрессом разгула роскоши и расточительности. Постоянное увеличение численности промышленного пролетариата в перенаселенном городе, где иностранцы (а венская аристократия не могла им в этом не подражать) бросали на ветер деньги, отнюдь не попадавшие в народный карман, в очень большой степени предопределило появление недовольства, чувства неудовлетворенности и зависти, ранее не известных или не вызывавших опасений, но теперь становившихся источником волнений, которые тридцатью годами позже разразятся революционным взрывом. Начало же их следует искать в иллюзорном процветании, которым конгресс ослепил венцев. Смотреть, как развлекаются другие, когда нет средств на то, чтобы развлекаться самому, созерцать парад вельмож как развлекательное зрелище (totus mundus agit theatrum, — как гласил девиз шекспировского театра «Глобус») и не находить никакого повода для зависти — одна из самых характерных черт венского характера. Покорный, если об этом вообще могла идти речь, смирившийся с мыслью о том, что у всего происходящего есть хорошая сторона, и готовый видеть только ее, следующий мудрому совету Жубера смотреть на друга только в профиль, если тот одноглазый (а это облегчало очень многое, потому что под скипетром Габсбургов дела шли вовсе не так хорошо, как в лучшем из миров), этот венский народ, не слишком требовательный, если у него есть хлеб и зрелища, находился тем не менее под ярмом придирчивой администрации, мелочной бюрократии, этого наследия испанизма Марии Терезии.* * *
Если мятежный дух не был органически свойствен жителям имперской столицы и если для того, чтобы толкнуть их на восстание, потребовалось немало несправедливостей и страданий, неприглядная картина которых вырисовывалась перед глазами плебса и, разумеется, преувеличенно очернялась заграничными агитаторами, то в серьезных причинах для недовольства недостатка не было, и в сочетании с ними ограничения, налагавшиеся на право пользоваться самыми элементарными свободами, куда быстрее подняли бы на восстание любой менее безразличный и менее смиренный, одним словом менее мудрый народ, чем этот. Есть люди, будь то классы или отдельные личности, всегда недовольные своей судьбой; есть и другие, которые охотно удовлетворяются тем, что предоставляет им судьба, как бы мало это ни было. Венцы принадлежали именно к последней категории. Если жизнь, вопреки надеждам, не приносила им облегчения, они утешались каким-нибудь острым словцом, забавным, отнюдь не злобным, на самом острие которого было больше добродушия, чем желчи.Пережитки абсолютизма
Понадобилось очень длительное время — даже всего периода реформ Иосифа II оказалось для этого недостаточно, — чтобы искоренить или хотя бы смягчить негибкую систему самодержавия испанского толка времен Марии Терезии, основывавшейся на почти средневековой концепции абсолютизма и сознательно отгораживавшейся от современных идей. Неоспоримо, что запрет на строительство новых домов и новых фабрик по периметру города объясняется и оправдывается законной заботой о развитии города и о здоровье его жителей. Гораздо менее понятно запрещение жениться вообще или жениться без разрешения властей, которое нельзя считать иначе как чистым произволом. Такие мыслители и социологи, как Эгер и Цинцендорф, яростно восставали против этой беззаконной меры, все еще действовавшей в начале XIX века, которая, как не трудно догадаться, била только по беднякам и пролетариям. Еще в 1816 году имели право свободно жениться только дворяне, чиновники, адвокаты, платившие налоги буржуа, владельцы недвижимости или земельных доменов, хозяева корпораций и фабриканты. Были попытки поставить под сомнение существование этой вопиющей несправедливости, но существуют документы, подтверждающие точность сведений об этой практике, и желающему в этом убедиться следует просто обратиться к государственному архиву. Это ограничение одной из самых священных свобод человека восходит к периоду, когда начиналась перенаселенность Вены, куда устремлялись толпы людей без всяких средств к существованию, которые вместе со своими женами и детьми неизбежно оказывались на иждивении городских властей. Оглашавший улицы гвалт детей, слишком многочисленных, чтобы можно было должным образом о них заботиться и учить, беспокоил всегда подозрительное правительство. Однако Иосиф II, этот король-философ, счел, что подобная мера идет вразрез с законами природы, и смягчил несправедливое постановление, лишавшее бедняков единственных доступных им радостей — семейных. Он заменил запрет на брак предварительным истребованием разрешения администрации. Такое разрешение получали только те просители, которые прожили в Вене определенное властями время и располагали средствами, достаточными для содержания детей. Что преобладало: разрешения или отказы властей? Строгой статистики в этой области не существовало, но уже один тот факт, что этот закон, ставивший браки пролетариев в зависимость от усмотрения чиновников, действовал почти до предреволюционных дней, говорит о том, что у венцев, при всей легкости их характера, возможно, были основания сожалеть об условиях, в которые их ставили обстоятельства рождения или бедственное положение.Ограничение пребывания в городе иностранцев представляется более естественным и объясняется беспрецедентным для всей Европы глубоко семейным характером уклада старой Австрии, несмотря на ее космополитизм, не сравнимый ни с одной из стран Европы. Естественно, что во время войны высылка граждан других стран была мерой законной обороны. Под эти ограничения подпали даже французские эмигранты, служившие в австрийских семьях воспитателями и гувернантками. В 1793 году было признано неосторожным доверять воспитание «здоровой немецкой молодежи» французам, которых подозревали в способности пропагандировать подрывные идеи, хотя сами они и были жертвами революции. Французские воспитатели и гувернантки были выселены из Вены в Богемию в надежде на то, что там их уроки будут менее вредными. В столицу они смогут вернуться только в 1797 году и только при условии получения разрешения полиции. Отнюдь не будучи ксенофобами, венцы любили общаться с иностранцами, и их гостеприимство по отношению к ним было любезным и щедрым. Император Франц главным образом опасался бездельников, полагая, что безделье, как гласит пословица, мать всех пороков, в особенности же его заботило присутствие не занятых работой иностранцев, так как никогда нельзя знать, какие опасные идеи они вынашивают и распространяют. В начале Третьей коалиции{52} враждебность по отношению к путешественникам и иностранцам, не проживающим в Вене постоянно, стала такой выраженной, что всем неавстрийцам пришлось в недельный срок покинуть столицу. Дефицит жилья и, как неизбежное его следствие, увеличение квартирной платы в значительной степени определяли законы, направленные как против временного пребывания иностранцев, так и против браков среди бедняков. И совершенным парадоксом при этом представляется запрет на строительство новых домов в условиях острой нехватки квартир. Что касается части города, остававшейся в пределах линии городских укреплений, то в конце XVIII и начале XIX века дома здесь так тесно жались друг к другу, что новое строительство лишь увеличивало опасность пожаров в этом нагромождении построек. Несмотря на серьезные градостроительные меры, принятые после турецкой осады и чумы, Вена, как мы уже говорили, оставалась в основном средневековым городом. За пределами городских укреплений еще существовали свободные участки земли, но и эти площади постоянно сокращались, так как бедные классы, чье расселение в центральной части города было нежелательно, наводняли предместья, где люди строили впритык друг к другу, в полном беспорядке, шокировавшем администрацию, свои «крольчатники», в которых селились обездоленные семьи. Эти не согласовывавшиеся ни с какими проектами постройки вскоре образовали своего рода деревни, а затем и небольшие городки, занимая часть территории, расположенной между городскими укреплениями и пресловутой «линией», которую та же администрация собиралась превратить в «зеленый пояс», заботясь как о здоровье горожан, так и об обеспечении политической безопасности, становившейся все более настоятельной необходимостью. В 1802 году император обнародовал декрет, которым предписывал представлять лично ему на утверждение каждый проект нового строительства в радиусе одной мили от «линии». В 1803 году он расширил эту «защитную зону» до двух миль. Опасались главным образом того, как бы новые дома не стали предметом спекуляции алчных и далеко не щепетильных банковских воротил, но логично возникал вопрос о том — и Цинцендорф уже высказывал такое опасение, — не провоцировал ли, вольно или невольно, запрет на «крольчатники» эту самую игру спекулянтов. Эрцгерцог Карл, поощряемый министром Колловратом, придерживался мнения, что строительство жилых домов в предместьях и окрестностях столицы было бы превосходным выходом для людей, не знающих, куда девать свои деньги.[133] В формировании и развитии любого города присутствует один неумолимый элемент, своего рода биологическая фатальность, которая насмехается над законами и правилами. Статистика говорит о том, что, несмотря на все препятствия и всевозможные ограничения, число домов в период с 1790 по 1820 год возросло с 6159 до 7540. Делались попытки обойти все правила путем рытья подземных домов, антигигиеничность которых шла вразрез со всеми мерами, принимавшимися императором ради здоровья населения. В 1811 году в предместьях не оставалось ни клочка незастроенной земли. Чтобы замедлить строительный бум, охвативший Вену в интересующий нас период, понадобились столь парадоксальные меры, как освобождение от налога и от военной службы тех, кто не строил домов. Поощрялись учреждения, выезжавшие из центра города, чтобы обосноваться за его пределами, и император лично поздравил и поблагодарил за хороший пример дирекцию коллежа для девушек, решившую перевести свое заведение в Хернальс.{53} Таким же образом предполагалось ограничить увеличение числа промышленных предприятий, в которых виделась опасная угроза как с экономической и политической точки зрения, так и с точки зрения ущерба красоте города и его гигиене. С начала XIX века, как и предчувствовали старые венцы, индустриальная эра начала преобразовывать облик и характер города. Этому неизбежному процессу было невозможно противостоять, но, чтобы ограничить и локализовать ущерб, государственный советник Лоренц предложил установить шестимильную зону за пределами «линии», в которой было бы запрещено строить промышленные объекты. Этот принцип был принят и применен в 1804 году, но сама зона была ограничена четырьмя милями, чего казалось для начала достаточно. Опыт быстро покажет, насколько правилен был расчет Лоренца и насколько ошиблись власти, не посчитавшиеся с его мнением.[134] Правительство особенно опасалось образования за пределами Вены «зоны лачуг», в которой накапливалась бы масса неблагонадежного населения. Действительно, индустриальная эра ввергла в нищету множество людей при процветании лишь некоторых. В 1810 году на предприятиях насчитывалось двадцать семь тысяч рабочих, положение которых оставалось неопределенным, потому что они полностью зависели от успеха предприятия, на которое нанимались. Заработная плата увеличивалась или уменьшалась в зависимости от прибыли завода, и, если дирекция предвидела сокращение объема производства, она немедленно увольняла часть своих рабочих.
Социальная напряженность
Рабочие жили одним днем. Условия использования детского труда, вновь регламентированные в 1816 году после мер, принятых Иосифом II, если и не были сравнимы с беспримерной жестокостью английских предпринимателей, то оставались достаточно тяжкими. Поэтому были организованы профессиональные училища, в которых детей обучали ремеслу и одновременно давали достойное общее образование. Заработная плата была скромной. Даже семьи рабочих, никогда не терявших работу, с трудом сводили концы с концами. Самой главной расходной статьей семейного бюджета были продукты питания. Как уже отмечалось выше, венцы традиционно любили хорошо поесть. Они потребляли немало продуктов, в том числе много мяса, что особенно относилось к рабочему классу того времени. Статистика 1808 года, почти не отличающаяся от данных предыдущих и последующих лет,[135] дает следующие цифры: при оценочной численности населения Вены около 250 тысяч жителей констатируется, что каждый венец в среднем съедает за год 105 килограммов мяса, 260 килограммов муки и выпивает 174 литра вина и 148 литров пива. Это вовсе не означает, что каждый усаживался за обильный стол. Были целые классы, никогда не вылезавшие из нужды, например такие, как так называемые «поденщики». Так называли служащих администрации, не получавших регулярного жалованья чиновников, сверхштатных работников, которых нанимали на работу с гарантией на один день, откуда и их название «поденщики», и увольняли, как только кончалась работа, для выполнения которой они были наняты. Нищета этих бедолаг неоднократно описывалась в литературных произведениях того периода. Поденная оплата, которую они получали, была для них лишь «соломинкой для утопающего» и вынуждала влачить существование, соблюдая режим жесточайшей экономии, одеваясь у старьевщиков и питаясь объедками. Среди них было много отставных офицеров, не имевших средств к существованию и вынужденных соглашаться на столь ничтожный заработок С другой стороны, на некоторых категориях наемных работников самым серьезным об-разом отражались изменения нравов и моды. Когда люди перестали пользоваться портшезами, огромное количество их владельцев, этих славных людей, не находивших себе больше работы, оказалось на улице. Война, парализовавшая ряд отраслей промышленности, за исключением сырьевых, обрекла на безработицу тысячи рабочих, а неурожаи гнали в крупные города толпы крестьян, которые не могли прожить за счет своих земельных участков и верили в мираж легких заработков и непрестанных удовольствий. В 1816 году экономические трудности и голод вынудили большинство фабрик закрыть ворота, десятки тысяч людей почти умирали от голода, и можно было видеть, как почтенные рабочие семьи прибегают к самым жалким средствам, чтобы выжить. Безработица, инфляция, война, умножавшая число инвалидов, были причинами появления огромного количества нищих, из-за крайней безысходности так докучавших прохожим, что правительство приказало полиции арестовывать этих людей. Понимая их положение, власти разрешили пребывание ограниченного числа нищих в тех или иных публичных местах; даже в Хофбурге были свои нищие, ограниченное разрешенное число которых, как нетрудно себе представить, вызывало зависть у многих, не получивших такой возможности. Во время облав на нищих церкви заполнялись полчищами бедняков, прятавшихся в этих пристанищах, где их не имели права преследовать полицейские и где они устраивали полный беспорядок. Было создано несколько домов-приютов для безработных, несколько работных домов, где они могли работать либо по желанию, либо в обязательном порядке. Общественные благотворительные организации и государство множили благотворительные учреждения, но все это были лишь полумеры на фоне растущего обнищания. В 1819 году общество пришло в ужас из-за растущего числа самоубийств, и сам император был в тревоге, видя, как нищета толкает такой веселый, такой жизнерадостный, такой беспечный народ к этой ужасной крайности.[136] Выходом из положения для безработных оставалась армия. Даже после того, как с учетом вызванной войнами «потребности в людях» была введена обязательная военная служба, осталось еще много категорий лиц, положение которых обеспечивало им льготы: это были клерки, дворяне, чиновники, торговцы, врачи, владельцы недвижимости и некоторые другие, чью жизнь, вероятно, считали слишком драгоценной, чтобы рисковать ею в дыму сражений. Поначалу привлекательность красивой униформы, скромного, но регулярно выплачиваемого жалованья и престижа, который в глазах венцев был связан с военной карьерой, побудила многих молодых людей пойти в армию по собственному желанию. Тяжелые потери, понесенные Австрией, как, впрочем, и ее противниками, во время Наполеоновских войн, довольно быстро охладили рвение этих добровольцев, и возникла необходимость стимулировать преданность родине путем силовой вербовки в армию нищих и безработных на городских улицах. Власти пользовались манифестациями, вызванными нищетой, для того чтобы арестовывать недовольных и направлять их в армию, не спрашивая их согласия. Склонные к патернализму Габсбурги считали, что пойти на такую суровую меру их вынудило неблагоприятное экономическое положение, чрезвычайно быстрое и не поддающееся контролю ухудшение которого было в сочетании с войной главной причиной такой меры. Для трудоустройства безработных были организованы крупные национальные предприятия общественных работ: на берегах Дуная и канала возводили оборонительные стены, благоустраивали улицы в предместьях, но все эти меры сами по себе оставались недостаточными. Народное недовольство, связанное с повышением цен на продукты питания и обесценением денег, взорвалось локальными мятежами, вызванными голодом и подорванным моральным духом людей. Так, в 1805 году манифестанты разграбили булочные, снабжение которых мукой не позволяло обеспечить потребности венцев. В 1808 году они принялись за мясников. Это была далеко не революция, а просто приступы гнева, но некоторые из этих приступов заходили достаточно далеко: в 1809 году зима была суровая, дрова стоили очень дорого, и население рубило прекрасные деревья Пратера, чтобы принести домой дров и согреться. В империи Габсбургов еще действовала система физических наказаний. Провинившихся секли розгами, их отправляли служить в армию или сажали в тюрьмы, но нельзя сказать, чтобы это решало проблемы, являвшиеся причиной беспорядков. Опасаясь, как бы пьянство не вызвало ухудшения настроения этого когда-то такого доброго и мягкого народа, власти решили ограничить производство вина и пива и отменили «голубой понедельник», старую традицию продолжения воскресного отдыха, которой очень дорожили трудящиеся. Одним из народных движений, надолго оставшимся в памяти правителей как небольшой мятеж, но, возможно, один из тех, с которых впоследствии началась революция, было восстание сапожников в 1811 году. Полторы тысячи этих мастеров, которым урезали заработную плату, сражались с отрядом солдат, присланным в помощь полиции, и потребовалась кавалерия, чтобы утихомирить восставших. Восстание закончилось розгами, позорным столбом и кандалами для тех, кого сочли главарями; их выставили на всеобщее обозрение на площади Хоэн Маркт с плакатами на шее, в которых перечислялись их действия и проступки, приведшее к такому наказанию.Эпоха бидермайера скорректировала социальное неравенство, она отказалась от оскорбительных мер, все еще отдававших испанским деспотизмом, но возникает вопрос, не был ли народ скорее раздражен, нежели удовлетворен тем, что «низший» класс поднялся до уровня аристократии, разделил ее привилегии и стал жить на равных с нею в нарушение вековых традиций. Господин Бидермайер, чьи добродетели были, в общем-то, добродетелями народа, был более непопулярен, чем дворянство: венцы из простонародья считали его выскочкой и нуворишем, высмеивали его любовь к респектабельности, в которой им хотелось видеть признаки лицемерия, завидовали его роскоши, его прекрасным домам в деревне, его экипажам, причем эта зависть не распространялась на роскошь аристократов, настолько в этот период еще была велика вера в своего рода «божественное право» дворян, почти такая же, как вера в покровительство императорской семьи. За исключением выступлений нескольких экстремистов в Австрии не возникал вопрос ни о возможном изменении режима, ни об установлении республиканского правления, ни об экспроприации и уничтожении аристократии. Развитие буржуазии, несправедливость и злоупотребления, сопровождавшие приход индустриальной эры (наниматели привыкли считать работавших у них рабочих «человеческим материалом»), усовершенствование машин, одним из первых последствий которого стало отношение к наемному работнику как к менее дорогой машине, заменить которую дешевле и проще, чем сложные механизмы, — все это больше и больше углубляло пропасть между классами, которая, несмотря на традиционную и бессмертную покладистость венцев, не оставалась ими незамеченной. Господин Бидермайер менее охотно смешивался с рабочими — людьми, принадлежавшими не его классу, нежели когда-то князья и графы. Уличные беспорядки пробудили у него чувство, которое не было известно ни при Марии Терезии, ни при Иосифе II, — чувство страха.
Глава одиннадцатая КОНЕЦ БЛИСТАТЕЛЬНОЙ ЭПОХИ
Март 1848 года — роковая дата. Предвестники революции. Первые волнения. Баррикады. «Сорвавшаяся с цепи свобода». Вторичное взятие Вены
Экономических преобразований, потрясших венцев в первые десятилетия XIX века, было недостаточно ни для объяснения, ни для оправдания революционных беспорядков 1848 года: в игру вступили многочисленные факторы, в том числе связанные как с политической эволюцией страны, так и с последствиями событий, происходивших в других европейских странах. В душе венское население было традиционалистским и даже в значительной степени «реакционным». Социальные идеологии отнюдь не мешали его интеллектуальному комфорту и конформизму, и оно не испытывало необходимости в изменении институтов власти, а если что-то в государстве его и не устраивало или же просто не нравилось, оно реагировало на это лишь острым словцом. Можно сказать, что революционность не присуща органически самому народу Вены, а привнесена чуждыми элементами — я имею в виду людей, которые приехали в Вену из других провинций австрийской империи, привлеченные миражем промышленного процветания столицы и покинувшие свои родные деревни ради поиска удачи на фабриках. Среди этих чуждых элементов были, разумеется, венгры и итальянцы, которые, эмигрировав в Вену, по-прежнему оставались связаны со своими соотечественниками, чьи либеральные идеи продолжали воздействовать на них и здесь. Сыграли свою роль также и проблема положения Австрии в Германском союзе{54} и вызванные ею националистические амбиции. Наконец, добавим к этому, что, какой бы стабильной, какой бы консервативной по своему характеру ни была Вена, Австрия не могла оставаться совершенно в стороне от великого брожения идей, будораживших Францию, Италию и Германию. Кралик очень правильно высказался по этому вопросу, когда писал, что «в основе этой революции лежат социальные, политические и национальные проблемы, но что все другие вопросы определяются специфически австрийской проблемой». «В очередной раз, — пишет он, — в истории ставится вопрос о том, могла ли Вена считать себя истинно имперским городом. Венская революция была не локальным событием, это было землетрясение, потрясшее всю монархию и угрожавшее ее распадом. В Италии, в Венгрии, в Богемии произошли волнения, исход которых в некоторых случаях был гораздо более трагическим. Эпицентр всех этих потрясений находился в Вене. Очень давние вопросы государственного права всплыли на поверхность в своем самом радикальном виде и добавились к местным проблемам, касавшимся отношений между имперской властью и правами городов и государств империи. Именно эти вопросы вставали уже на повестку дня в Вене при герцогах Бабенбергского дома,{55} при Фридрихе Воинственном, при бургомистрах Форлауфе, Хольцере и Зибенбургере, при Фридрихе II, Фридрихе III и Фердинанде I.{56} Как и в 1522 году, мы в 1848-м видим, с одной стороны, город и провинции, с другой — имперское правительство».[137]Март 1848 года — роковая дата
Революция разрушила мечту о розовом с позолотой мире, которой жила буржуазия бидермайера. Она вынудила буржуазию признать, что ее безмятежность была иллюзорной, покой искусственным, а беспечность опасной. В силу самой своей принадлежности Вене венский буржуа оказался вовлеченным в беспорядки и жестокости, повергнувшие его в тем больший ужас, что за всю историю Вены здесь не было ничего подобного. Ничто никогда не предвещало возможности такого беспрецедентного зрелища, как взятие Вены штурмом с применением военной силы имперскими армиями, которые отбивали ее у повстанцев. Венцы думали, что такое допустимо в Париже, неоднократно восстававшем и в феврале 1848 года принявшемся возводить баррикады, но чтобы в Вене!.. Этот трагический март остается роковой датой в истории столицы и Австрии в целом, и венцы, вспоминая предшествовавшие этому и последовавшие за этим события этих катастрофических недель, которые Бидермайер, подобно французам, пережил при режиме террора, называют их не иначе как событиями «до-мартовскими» или «после-мартовскими». Понятно, что атмосфера поначалу неопределенности, а потом ужаса, сменившая покой беззаботного существования, нарушила идиллический мир еще совсем недавней Вены, где пирушки и развлечения казались единственными заботами счастливого народа. Столкнувшийся с новыми идеями, с проявлениями жестокости, требовавшими принятия той или другой стороны, этот народ больше не мог не понимать, что любого восстания достаточно для того, чтобы опрокинуть все мудрое здание покоя, безопасности, благосостояния, в котором прозорливая монархия заботится о своих подданных ради их и своего собственного спокойствия. Не приведут ли «мартовские иды», о которых распевают в своих песнях революционные поэты, к разорению и уничтожению венцев? Возможно, для этого не хватило самой малости. Если бы венгры Кошута, двигавшиеся на помощь революционерам, вступили в Вену раньше полков Виндишгреца, спешивших туда, чтобы разгромить повстанцев, ход событий, несомненно, был бы совершенно иным. Республиканское правительство упразднило бы империю, и — кто знает? — диктатура пролетариата опрокинула бы городские учреждения и перевернула судьбы жителей Вены. Венцы очень хорошо это почувствовали: предупреждение было суровым. Сколь стихийно ни началась революция, ей явно поспособствовали колебания правительства, неуклюжесть и неуверенность полумер; впервые в своей истории венская буржуазия перестает чувствовать себя защищенной отеческой заботой империи; она утратила веру во всемогущество и бдительность императора, которому так охотно повиновалась в обмен на обещанную безопасность. Буржуазия была мало склонна к тому, чтобы принимать участие в революционном движении, за исключением, разумеется, горстки «интеллектуалов» из среды как буржуа, так и знати, заразившейся современными идеями, и в целом она испытала разочарование и впала в уныние, ее гармоничный союз с монархами, который был прочным фундаментом политической жизни, был поколеблен. Буржуазия почувствовала себя одинокой, поставленной под угрозу со стороны народа и покинутой своими руководителями. Под угрозу были поставлены ее доходы и привилегии, и в отличие от парижской буржуазии, которая как раз выиграла от революций 1830 и 1848 годов, ей было нечего выигрывать, но потерять она могла все, потому что ей были смешны такие нелепости, как свобода печати, во имя которых и происходила борьба. Когда венская кровь — между прочим, именно так Штраус назвал один из своих самых прекрасных и блестящих вальсов — потекла по камням мостовых столицы в братоубийственной борьбе, все хорошо поняли, что эти дни с марта по ноябрь 1848 года предвещают конец света и что Вена уже никогда не станет такой, какой была до этого. Действительно, войны, финансовые катастрофы, спорадически возникавшие беспорядки создавали атмосферу постоянного бедствия, с которой венцы храбро сражались. Они даже пытались, как когда-то, веселиться и преуспевали в этом, поскольку венский характер был сильнее всего, но той детской невинности, которая царила здесь «до марта», не было суждено воскреснуть уже никогда. Вена со своими четырьмя сотнями тысяч жителей (не считая населения предместий за пределами «линии», Linienwall) все еще жила в системе почти средневековых институтов под управлением своего бургомистра Чапки,[138] находившегося на этом посту с 1838 года. Только треть из полумиллиона жителей платила налоги. На буржуазию вместе с аристократией была возложена обязанность субсидировать потребности государственных финансов, но буржуазия не была представлена в Государственном совете, а сам город не пользовался никакой автономией. К тому же в имперской Австрии народное представительство было сведено к нулю. Некоторые нации имели свои собственные советы, свои парламенты, но Австрия как таковая ничего этого не имела.Предвестники революции
Первые требования, сформулированные в 1845 году интеллектуалами, направившими петицию в министерство внутренних дел, сводились к смягчению режима цензуры, остававшейся слишком строгой, несмотря на весь либерализм Иосифа II и его последователей, а также касались положения прессы, представительства буржуазии в парламенте и публикации данных государственного бюджета. Издавалось достаточно много газет, и венские жители всегда читали множество ежедневных, еженедельных или ежемесячных изданий, которые гарсоны в ресторанах тяжелыми пачками приносили своему клиенту вместе с заказанным им кофе. Газета Винер Цайтунг, основанная в 1805 году, контролировалась, если не вдохновлялась Управлением дворцовой полиции, то есть министром полиции. Таким образом, в ее безвредности можно было не сомневаться. Основанный Сафиром в 1837 году Гуманист был злобным, но отнюдь не подрывным. Обе газеты Фридриха фон Герца Остеррайхише Беобахтер и Винер Ярбюхер также были совершенно безобидными. То же самое можно сказать и о газетах Винер Цайтшрифт фюр Кунст, Литератур, Театр унд Моде, Зонтагсблеттер фюр хайматлихе Интерессен Франкля, Ауроре Зейдля и т. п., проверенная послушность которых делала цензуру излишней. Однако цензура была настолько придирчивой, что даже самые крупные австрийские писатели порой чувствовали себя задетыми, а может быть, и оскорбленными чрезмерной опекой, и они с энтузиазмом подписали мартовскую петицию 1845 года. В числе самых известных лиц, подписавших петицию, фигурируют Франц Грильпарцер, Эдуард фон Бауэрнфельд, Адальберт Штифтер, Анастазиус Грюн, Фридрих Хальм, барон фон Зедлиц, барон фон Фойхтерслебен, Фридрих Кастелли, барон фон Хаммер-Пургшталь, Мориц Готлоб Сафир, Франц Штельцхамер, барон фон Рокитански, Владислав Пиркер. И это вовсе не ниспровергатели, не разрушители установленного порядка, не экзальтированные личности и не прожектеры, а люди здравого смысла, прямолинейного ума, сторонники сохранения режима — о его ниспровержении вопрос даже не ставился, — люди, принадлежавшие к аристократии и благонадежной буржуазии. Трудности времени коснулись также и их. Поэт Кастелли, руководивший «образовательным и развлекательным» журналом Коллекционер (Der Sammler), проявляет беспокойство. «Наша эпоха больна, — пишет он, — и больше не излечится; золотой телец уже на алтарях, искусства печально зализывают раны, а поэзия — увы! — со стоном засыпает». В 1846 году революция разражается в Кракове, восстают крестьяне в Галиции. В 1847-м даже мирную Швейцарию раздирает гражданская война, так называемая Зондербундскриг. В Лондоне в 1848 году впервые печатается произведение, обреченное на крупный успех: Манифест Коммунистической партии, написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом; удивительно видеть, что он появляется в стране, где либералы с таким трудом добились сокращения рабочего дня до десяти часов и эта наконец принятая мера представлялась еще такой щедрой, «современной» и филантропической! В Баварии возникают волнения, в Силезии свирепствует голод. Даже в Вене появляются неприятные симптомы волнений; недовольные тем, что бургомистр Чапка строит муниципальные мясо-бойни, угрожающие их привилегиям и интересам, мясники выходят на улицы. В Нойершенфельде ткачи, встревоженные ростом цен на хлопок-сырец, поднимают на ноги пятнадцать тысяч рабочих; поскольку не принимается никаких срочных мер для обеспечения питанием этих бедных, кое-как перебивающихся людей, умирающие с голоду безработные грабят несколько булочных. В добавление ко всему урожаи в течение трех последних лет были очень скверными, и цена на муку за время с 1845 по 1847 год поднялась с трех флоринов до десяти. Обоснованно предчувствуя грядущие события, Эдуард фон Бауэрнфельд пишет в своей газете от 1 января 1848 года: «В этом году произойдут важные политические изменения, в чем все мы совершенно уверены». Делаются попытки оказания помощи неимущим в виде раздачи с начала января «народных супов». Первыми такие пункты начинают функционировать в Шоттенфельде и Мариахильфе по программе американца Ремфорда, открывается также первая паровая булочная. В том же январе Меттерних предупреждает императора «о ветрах восстания, толкающих подрывные партии к подрыву действующих легитимных учреждений, потому что Австрия рассматривается как их истинный представитель, и ее они делают основной мишенью своих усилий». В глазах народа Меттерних настолько является воплощением абсолютизма во всей его несгибаемой суровости, что люди громкими криками требуют его отставки. Цензура защищается от общественного мнения, препятствуя постановке шиллеровских Заговора Фиеско и Вильгельма Телля и запрещая газетам писать о Милане, где произошли беспорядки, в частности, направленные против австрийского правления; там сурово обходились с теми безобидными прохожими, которые, игнорируя патриотический лозунг курителей тоскани, не выпускали изо рта венские сигары. Манифестанты требуют публичности правосудия, автономной организации коммун, создания торговых и сельскохозяйственных палат, созыва Генеральных штатов и, все более и более настойчиво, — свободы печати. В ожидании возможности свободно публиковать материалы повсеместно возникает все больше и больше мелких бунтарских газет, занимающих самые резкие позиции. Неловкие или смешные меры раздражают недовольных. В Милане забавляются тем, что носят большие шляпы с широкими полями, называя их то «калабрийками», то «пуританками», то «шляпами Эрнани», и этот головной убор становится революционным символом, который вскоре украсит множество венских голов. Можно сказать, что революция символически вершится в Вене в виде борьбы мягкой анархистской шляпы против цилиндра г-на Бидермайера.Первые волнения
Первые волнения беспокоят буржуа, чьей самой неотложной заботой становится обмен бумажных денег, которым они и в лучшие времена не особенно доверяли, на надежные полновесные металлические; трусливые скопидомы, собирающие звонкую монету, приводят к тому, что золотые и серебряные монеты исчезают из обращения, и тогда они устремляются к окошечкам Национального банка, размахивая последними купюрами, от которых хотят во что бы то ни стало избавиться. Еще раз подтверждается известное экономическое правило, согласно которому «плохие деньги изгоняют хорошие». Флорины и даже крейцеры исчезают из обращения, смятение растет, достигая апогея, когда некий адвокат из Будапешта по имени Людвиг Кошут произносит в прессбургском Ландтаге свою знаменитую речь, о которой говорят, что она была крестинами австрийской революции, в ней он, в частности, потребовал введения конституционного правления. 12 марта студенты проводят большое собрание в университете. Они требуют свободы печати, свободы образования, свободы вероисповедания. Чтобы лучше показать, что их профессура с ними, они просят двоих из своих преподавателей, Эндлихера и Хье, отнести в Хофбург составленную ими петицию, которая следует с разрывом в двадцать четыре часа за петицией венских буржуа, собранных бароном фон Бахом, менее радикальной, но настаивающей на реформах в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. Имперский совет изучает эти требования, удовлетворяет некоторые из них и отправляет остальные на дальнейшее рассмотрение. Однако император принял решение собрать «штаты» из всех частей империи и поручил маршалуМонтекуколи созвать депутатов. Уже на следующий день сессия представителей Нижней Австрии приступает к работе, читает петиции, принимает делегации. Можно было подумать, что началась эра реформ и что они будут реализованы в условиях мира и порядка, но 13 марта оказывается роковым днем, которому судьба предназначила стать днем первой революционной вспышки. С этого момента события опережают решения и подавляют волю людей. Механизм трагедии приходит в движение уже из-за того, что власти в качестве меры предосторожности принимают решение вооружить городскую милицию и поручить ей обеспечивать порядок на улицах. Милицию собирают на склоне одного из холмов. Толпа зевак, сильно возбужденная при виде людей, со всех ног бегущих ко дворцу, где заседают «штаты», и возвращающихся оттуда, а также проходом депутаций и нервозными действиями зачинщиков беспорядков, идет посмотреть на эту преамбулу революции, как в театр. Но для того чтобы «штаты» работали в мирной обстановке, нужно очистить улицы. Часы показывают час пополудни. Для поддержания порядка с холма вызвали городскую милицию, а из казарм — отряды имперской армии. Агитаторы с импровизированных трибун призывают народ идти во двор дворца «штатов»; два врача, Йозеф Гольдмарк и Адольф Фишхоф, выступают с речами и срывают аплодисменты, но их речи так свирепы, что побуждают слушателей к захвату зала, в котором заседают депутаты. Рабочие покидают фабрики; толпы жителей из опустевших предместий хлынули в центр города. Министр полиции Зельдницки, боясь захлебнуться в этом потоке людей и понимая, что медлить нельзя, приказывает освободить дворец «штатов» и направляет туда итальянские отряды. Эти отряды никогда не были популярны в Вене, и их солдаты, в свою очередь, очень не любят венцев. Никто толком не понимает, что происходит, но городская милиция и воинские части сближаются и по роковой ошибке принимают друг друга за врагов. Несмотря на то, что и милиции, и войскам приказано восстанавливать порядок, они открывают огонь друг против друга. Шальные пули ранят ни в чем не повинных прохожих. В то время как в городе развертываются эти драматические события, рабочие жгут фабрики и дома промышленников. Желая избежать кровопролития, бургомистр Чапка, чью позицию все громко ругают, одни считая его слишком демократичным, другие слишком реакционным, просит командующего войсками эрцгерцога Альберта дать солдатам приказ отойти. Он убеждает его в том, что городская милиция сумеет навести порядок, когда все увидят, что перед ними больше нет плюмажей итальянских солдат. Как можно было предвидеть, милиция не смогла сдержать разъяренную толпу, все еще одержимую стихией грабительского буйства. Были все основания опасаться, что город станет добычей мятежников, когда ректор университета Йенулль разыскал эрцгерцога Людвига и предложил ему раздать оружие студентам. Поскольку большинство студентов были убежденными либералами и их любили как народ, так и буржуа, вмешательство молодежи несомненно должно было помешать усложнению ситуации. Эрцгерцог принял предложение, студентов повели в арсенал и роздали им ружья, после чего они вместе с городской милицией разогнали грабителей и поджигателей. Взрыв мятежа привел Хофбург в замешательство. Эрцгерцоги решили сделать первую уступку народу, потребовав, чтобы Меттерних подал в отставку, что этот великий государственный деятель немедленно и сделал с большим благородством и достоинством. «Мои чувства, мои взгляды и мои решения, — писал он императору, — в течение всей моей жизни всегда были одинаковы, и эти незыблемые силы во мне никогда не угаснут. Я выразил их одной фразой, обращенной к моим преемникам, чтобы они помнили об этом и, подобно мне, избрали ее своим девизом: сила в праве». В тот же вечер Меттерних вместе с княгиней уехал в Лондон. Покинул столицу и министр полиции Зельдницки, отправившись в свои владения, где мог чувствовать себя в большей безопасности. Как свидетельствуют современники, в ту ночь Вена была похожа на бивуак. Милиционеры и студенты патрулировали улицы и гасили пожары к большому облегчению буржуа, которые тем не менее им не аплодировали, не подбодряли и не пожимали рук. Таким образом — и это нормально для города такого высокого интеллектуального уровня, как Вена, — ситуацию спас университет. На следующий день Хофбург объявил об отмене цензуры и о гарантии свободы печати, что вызвало настоящий восторг. Магазины и жилые дома украсились флагами, на основе милиции и студенческих отрядов была учреждена постоянная национальная гвардия. Власти вернули доверие к себе успокоившихся буржуа, и порядок был восстановлен. Все думали, что необходимые реформы теперь будут осуществляться в обстановке покоя и законности. 15 марта была пожалована конституция, город сверкал иллюминацией, и народ бурно приветствовал императора, проехавшего по улицам в коляске вместе со своим племянником и будущим наследником Францем-Иосифом. Венцы со своим обычным оптимизмом говорили, что случившееся было ложной тревогой и теперь все устроится, однако политически более образованные люди с тревогой отнеслись к прибытию на ассамблею «штатов» венгерской делегации. Делегацию возглавлял тот самый сорокашестилетний будапештский адвокат Кошут. Либералы и экстремисты устроили праздник венграм и их руководителю, известному своей энергичностью и революционными чувствами. Несмотря на это скверное предзнаменование, буржуа купались в облаках лучезарной эйфории. Был исполнен и долг в отношении жертв бойни 13 марта: по ним была отслужена поминальная служба. Было назначено компетентное правительство, в ратуше приступил к исполнению своих обязанностей муниципальный совет. Военный закон грозил преследованием мятежникам, которые воспользовались бы беспорядком для продолжения грабежей и поджогов, газетные типографии запустили на всю мощь печатные станки, выходила масса изданий, и каждый старался читать даже самые крайние в своих требованиях газеты. Грильпарцер выразил общее мнение всех венцев, отметив наступление возрождения своей родины: «Я приветствую тебя, о моя Австрия, выходящая сегодня на новые пути. Сегодня, как и всегда, сердце мое бьется в унисон с твоим». В изобилии печатаются патриотические стихи, и создается впечатление, что каждый стал еще сильнее любить свой город и свою страну за то, что они вышли невредимыми из этого короткого кризиса. Композитор Зуппе перекладывает на музыку многие из подобных стихов, которые порой превращаются в гимны, прославляющие студентов (Кто идет вперед сегодня смелыми шагами… Франкля) и Национальную гвардию Кастелли — первые стихотворные произведения, опубликованные без визы цензуры. Кастелли выпустил также сто тысяч экземпляров другой поэмы, озаглавленной Что произошло в Вене?, которую распространяли даже по деревням. Этот памфлет принес ему такую неожиданную популярность среди крестьян, что каждый день можно было видеть, как к нему тянулись десятки «Айпельдауэров», желавшие получить совет по самым разнообразным и неожиданным поводам. Благодаря странному смещению понятий Австрия, избежав революции, почувствовала себя такой гордой, что снова поднял голову самый шовинистический национализм. Однако можно было заметить — и это было симптомом, который встревожил бы кого угодно, кроме венцев, — что на улицах появляется все больше и больше калабрийских шляп на головах с длинной бородой и развевающимися на ветру волосами: так выглядели противники шлема с гребнем. Поэт-песенник Иоганн Непомук Фогль прославляет шутовскими стихами смерть этого «гребня», который для австрийских либералов был тем же, что короткие штаны для французских санкюлотов и парик для молодой Франции 1830 года: ненавистным знаком отличия класса, который нужно истребить. Один немецкий автор сочиняет на эту тему комедию Гребень и шпага, которая пользуется большим успехом в Театр-ан-дер-Вин; действительно, актуальные сюжеты используют не только писатели: театр, который всегда был в Вене в большей степени, чем в других городах, отражением нравов, развлекает зрителей остроумными намеками на политическое непостоянство хозяев империи. Одним из наиболее серьезных и значительных поэтических текстов, способных всерьез встревожить режим — если этот режим умел читать! — представляется республиканский манифест Георга Гервега, того самого друга Гейне, которого автор Книги Песен называл «Железным жаворонком». Все это происходит пока еще в атмосфере согласия и хорошего настроения. Даже когда люди устраивают Катценмузик, «кошачий концерт», в буквальном смысле слова какофонию для князя-архиепископа Мидля, эта манифестация отражает в большей степени народное ликование, нежели озлобленность. Участвуя в манифестациях, венцы чувствуют себя, как в театре, а театр, в свою очередь, отражает лицо улицы. Один служащий Шотландского фонда в письме к саксонскому писателю Родерику Бенедиксу, автору пьесы Замшелая голова, или Длинный Израель, которая была сыграна в Театр-ан-дер-Вин как первая пьеса, не проходившая экспертизы цензуры, красочно описывает, как ставилась эта пьеса, и ничто не иллюстрирует с такой точностью менталитета венцев в первые дни апреля. «Это было не театральное представление, а юбилейный праздник во славу студентов! Мы уже не смотрели спектакль, мы присутствовали при необычайном зрелище радостного дружеского волнения. Драматург вел диалог со студентом в партере, студент отвечал актеру. Юные слушатели размахивали шляпами, артисты — своими головными уборами, на сцене пели студенческую песню, и все присутствовавшие хором ее подхватывали. Мои глаза были полны слез. В тот момент, когда герой воскликнул: „Да здравствует свобода!“ и когда актер Карл Тройман добавил: „…и тот, кто нам эту свободу дал!“, весь зал поднялся на ноги и устроил овацию. Студенты в партере кричали: „Да здравствует Фердинанд!“» Как видим, император в этой семейной пьесе пока еще выступал в роли отца. Носить униформу национальной гвардии было для венского буржуа честью, а не неприятной обязанностью, и г-н Бидермайер затягивал свой гвардейский ремень с той же гордостью, что и Жозеф Прюдом. Герман Майнер публикует новую газету под названием Национальный гвардеец, гвардейцы читают ее, отдыхая после патрулирования или стояния на часах, и находят в ней новые основания верить в то, что так напугавшая всех революция окончательно раздавлена и что вернется «блистательная эпоха» со всеми ее пирушками и церковными праздниками. «Что произошло в Вене?» — вопрошает поэтический памфлет Кастелли. «Все и ничего», — можно было бы ответить на этот вопрос. Правительство запретило экспорт серебра, чтобы избежать утечки твердой валюты за границу. Разорили монастырь редемптористов{57} в Мариа-Штигене и его сельскую недвижимость в Варинге, потому что, как говорилось, они оказывали реакционное влияние на двор. Перед резиденцией папского нунция устроили непристойный танец. Кто-то предложил отменить безбрачие священников, на что Мецгер иронически ответил, что «свобода не для священников». В этом виден некий антиклерикализм, поскольку люди вновь считают необходимым разоблачить сговор «попов» с буржуазной реакцией. Зато евреи жалуются на то, что им не предоставляют достаточного места на публичных собраниях, как если бы в этой новой и просвещенной Вене оставались какие-то признаки былого австрийского антисемитизма. Пока приходят, уходят, возвращаются министры, с участием либеральных поэтов пышно празднуется пятьдесят пятый день рождения императора. Наконец 25 апреля к восторгу венцев провозглашается обещанная Конституция, хотя она несет многим горькое разочарование своим слишком малодемократичным, чтобы не сказать антидемократичным характером. Но на это жалуются только либералы, для всех же венцев важно то, что прежний порядок вещей изменится очень мало. Более интересным, бесконечно более интересным, нежели какие-то детали Конституции, был прекрасный парад, который устроили бесплатно добрым жителям имперской и королевской столицы актеры директора Карла. Он задался целью составить из актеров своей труппы роту — не театральную, а военную — роту «национальных гвардейцев-актеров». Он экипировал их одеждой и оружием из реквизита театра. Можно себе представить, какая толпа собралась по обе стороны Егерцайле, когда любимые актеры венской публики Шольц и Нестрой прошли перед нею парадным шагом, вооруженные мушкетами солдат Валленштейна, римскими мечами и кривыми турецкими саблями.Баррикады
Однако аплодисментов после представления направленной против иезуитов пьесы в Йозефштадтском театре и устроенного под окнами министра Фикельмона «кошачьего концерта» показалось недостаточно. 2 мая студенты, объединившись с рабочими, заявили, что Конституция их не удовлетворяет. В ней было указано, что не обязательно быть налогоплательщиком, чтобы иметь право голоса при выборах, однако рабочие и домашняя прислуга по-прежнему исключались из этого правила. После двухмесячной передышки население стали беспокоить два факта: 17 мая император с семьей покинул Шенбрунн, а на следующий день закрыли Биржу, что вызвало значительное понижение стоимости бумажных денег. 18 мая два экстремистских руководителя, редактор газеты Конституцион Леопольд Гефнер и основатель Свободомыслящего Йозеф Тувора провели большое собрание рабочих в Мариахильфе, на котором объявили о предстоявшем в скором времени учреждении временного правительства, а там и провозглашении республики. Рабочие избили этих агитаторов, после чего их арестовала полиция, но опасное слово «республика» было произнесено. Вернувшийся 16 мая в Вену Эдуард фон Бауэрнфельд был поражен изменением атмосферы. Военные, национальная гвардия и академический легион (сформированный из студентов) вместе патрулировали улицы, но свежий взгляд замечал «серьезное, почти тревожное выражение лиц этих людей». Впрочем, никакого беспорядка не было. «Пролетариат, этот постоянный кошмар венцев, казалось, исчез. Можно было подозревать, что люди почти желают возвращения Меттерниха, чтобы успокоиться». И Адальберт Штифтер писал своему издателю Геккенасту следующие полные разочарования строки: «Я человек с чувством меры и свободы. К сожалению, и то и другое сегодня скомпрометировано, и многие верят, что можно добиться свободы, отринув старую систему; но тогда они приходят к созданию не свободы, а чего-то другого». Эти слова получили наглядное подтверждение 25 мая, когда после неприемлемого приказа министра о закрытии университета и роспуске академического легиона накатилась вторая революционная волна: 26 мая на улицах уже строились баррикады. «На баррикады! На баррикады! Вена никогда раньше их не видела. Они угрожающе вырастают на священной земле как неоспоримое свидетельство народного гнева…» — такие слова можно было прочесть в одной из бесчисленных газеток, изобиловавших в этот период. Некоторые из них жили не больше недели, другие вообще ограничивались первым номером, об этом пишет поэт Людвиг Бович, охваченный священной яростью. Восставшие не ограничиваются бранью, хотя бы и зарифмованной; они разносят чуть ли не в щепки дворец министра Пиллерсдорфа, сажают в тюрьму графа Гойоса, освобождают республиканцев Хефнера и Тувору, устанавливают рогатки, возводят заграждения вокруг города, чтобы помешать имперским войскам прийти на помощь силам, сопротивляющимся революции. Национальная гвардия заменяется «милицией безопасности» — это вооруженные студенты и двадцать тысяч рабочих из предместий. Характерный факт: 29 мая газета Винер Цайтунг впервые вышла без имперского орла на первой полосе. В числе первых декретов, спешно принятых для того, чтобы по возможности унять ярость народа, фигурирует акт о предоставлении рабочим права голоса. 1 июня Альгемайне остеррайхише цайтунг публикует пламенную поэму, присланную из Дрездена, где также назревает мятеж, и озаглавленную Привет из Саксонии венским повстанцам. Последняя из четырнадцати строф этого подстрекательского стихотворного послания заканчивается выражением восхищения австрийскими мятежниками: «Своими делами вы, верные венские герои, подтвердили теорию, и мы заверяем вас в том, что, если кто-то посмеет нам сказать: „Возвращайтесь в рабство!“, мы ответим: „Мы поступим так, как венцы!“» Под этой поэмой, в большей степени экзальтированной, нежели гениальной, стояла подпись — Рихард Вагнер. Пока император, обосновавшийся в Инсбруке, с тревогой читает послания, которые ему шлет заменяющий его в Хофбурге эрцгерцог Иоганн, в столице усиливаются беспорядки. Экстремисты становятся все более необузданными и набирают силы. Ежедневно вступают в перестрелку армейские отряды, академический легион помогает рабочим в борьбе с национальной гвардией, когда та их теснит, но бывает, что объединяется с гвардией, когда революционеры принимаются за грабеж. Участники волнений получают лозунги из редакции газеты Радикал, где находятся Бекер, Тувора, Мессенгаузер, Геббель, Таузенау и Нордман. «Все, без различия положений и сословий, выкапывают камни из уличных мостовых, — пишет Фридрих Геббель, немецкий драматург, живущий в Вене и работающий над своей драмой Либуша в то время, как за окном бушует буря народного гнева. — Наступает момент, когда весь народ как один человек должен осознать самое себя. Будет случай исправить прошлое и искупить прежние грехи. Но в данный момент Немезида поддерживает левых, и горе этому народу, если он не сумеет найти правильный путь». При крайнем смятении, раздирающем Вену, господину Бидермайеру не представляется трудным выбор партии. Он всегда на стороне порядка, потому что порядок — это безопасность на улицах, спокойное обладание нажитым — честно или нечестно — состоянием. А также главенство хозяев над слугами, фабрикантов над рабочими. Эрцгерцог Иоганн, на котором лежала тяжелая ответственность за управление государством и, в частности, Веной в отсутствие Фердинанда, был, к счастью, очень популярен. Его считали демократом, потому что, вместо того чтобы жениться на дворянке, он взял в жены дочь почтмейстера Анну Брандхоф, оценив ее красоту и доброту. Хофбург довольно косо смотрел на этот союз, но мезальянс, так сурово осуждавшийся еще вчера, сегодня прекрасно служил делу режима и императорской семьи. 24 июля Анна Брандхоф председательствовала в Мариахильфе на церемонии вручения знамени национальной гвардии, чьей крестной она была назначена. В день св. Анны в Шенбрунне был устроен большой праздник в честь ее святой покровительницы и ее самой. Студенты устраивали под ее окнами факельные шествия. И возможно, именно ее престиж и красота добились того, в чем не могло бы преуспеть никакое политическое давление, никакая изворотливость государственных мужей: 14 июля на полянах Аугартена произошло братание имперских полков, академического легиона и национальной гвардии. Университет, за четыре месяца до этого стоявший во главе либерального движения, теперь был обеспокоен анархическим оборотом, который принимали события: как и буржуазия национальной гвардии, интеллектуалы опасались преобладания подрывных элементов среди рабочих. Было замечено, что во главе восставших встают подозрительные иностранцы, прибывшие неизвестно откуда. Эти люди не были венцами, их интересы не были связаны с Веной, и вполне можно было опасаться давления этих профессиональных агитаторов, которые были в некотором роде коммивояжерами международного возмущения и социального взрыва во всех странах. Новыми заправилами венского общественного мнения, иначе говоря самой Вены, стали чехи, венгры, немцы, авантюристы, вышедшие неизвестно из каких гетто и трущоб. Этого было достаточно, чтобы сделать их подозрительными в глазах г-на Бидермайера. Что касается студентов, то они были патриотами, а не партизанами, идеологами, а не мятежниками. Запустив в ход эту машину, они приходили в ужас от невозможности ни остановить ее, ни управлять ею. К ним, в свою очередь, относились с подозрением новые лидеры той самой революции, неосторожными подстрекателями которой были они сами. Поэтому с недоверием воспринималась агитация, распространявшаяся среди крестьян, для которых самый молодой депутат рейхстага Ганс Кудлих с пылом своих двадцати пяти лет требовал равенства в правах и обязанностях.«Сорвавшаяся с цепи свобода»
Успехи маршала Радецкого в Италии поразили воображение многих. По случаю его вступления в Милан 6 августа Штраус сочинил знаменитый Марш Радецкого, который впервые сыграли 7 августа во время большого военного праздника, устроенного в пользу семей солдат, павших в Италии. Это стало поводом для новой демонстрации согласия и дружбы между имперскими полками, студентами и частями городской милиции. Эпизодические бесчинства рабочих, угроза, которую представляли для Австрии республиканцы, радикалы и коммунисты, подталкивали всех умеренных к созданию общего фронта против восстания, грозившего из предместий, где восставшие были хозяевами положения. Привязанность к империи и императору была настолько прочной, что, когда Фердинанд 12 августа вернулся в столицу, национальная гвардия выставила на всем протяжении дороги от Шенбрунна до Хофбурга шеренги почетного караула. Социальную проблему надеялись решить путем привлечения безработных к чисто символической и бесполезной работе, чтобы обеспечить им хоть какие-то средства к существованию. К сожалению, эти благотворительные меры дорого обходились бюджету, потому что армия безработных была весьма многочисленной, и тут власти имели неосторожность уменьшить выдававшуюся им зарплату на пять крейцеров. Это было сделано по предложению министра труда Эрнста фон Шварцера, доказывавшего, что этим людям платят слишком много за бесцельное перелопачивание земли в Пратере. Сокращение зарплаты стало предлогом для возобновления агитаторами нападок на правительство. Рабочие Пратера решили потребовать возвращения своих пяти крейцеров от самого императора, и 23 августа отправились маршем в центр города. Когда они встретились с заслоном национальной гвардии, произошла перестрелка с жертвами с обеих сторон, но больше всего убитых было среди рабочих. Классовая война возобновилась. Правительство решило выслать из Вены десять тысяч землекопов, но те отказались покинуть город. И снова раздираемые между либеральными надеждами, приверженностью к справедливости и опасением снова попасть под ярмо слепого абсолютизма, студенты не знали, с кем им следует объединиться — с пролетариатом или с буржуазией. Они внимательно слушали в рабочих кружках лекции молодого немецкого экономиста из Трира Карла Маркса, открывавшие перед трудящимися новые перспективы. Согласно отчету об одном из таких выступлений, напечатанному в газете Радикал, Карл Маркс говорил рабочим о том, что совершенно безразлично, кто является тем или иным министром, потому что в Вене, как и в Париже, речь идет о борьбе между буржуазией и пролетариатом. Либералы не знали, чью сторону принять. Благожелательные люди с добрыми намерениями задавались тревожными вопросами, и многие обескураженно бормотали, подобно Грильпарцеру: «Во время гонений я считался либералом; сегодня, когда свобода сорвалась с цепи, меня называют прислужником; подозрительный для обеих партий, я почти готов считать себя здравомыслящим». Но момент был таков, что речь шла уже не о здравомыслии, а о демонстрации воли и силы масс. Экстремисты устроили торжественные похороны жертв расстрела 23 августа, хотя и понимали, что это может стать причиной новых столкновений, что, естественно, и произошло. Подражая «людям 89-го года», венские революционеры требовали отмены обращений «господин» и «госпожа». Руководитель аграриев Кудлих привел в Вену толпы крестьян, возбуждая их своим красноречием. «Будьте бдительны, — говорил он им. — Если университет, этот верный двору лев, спит, несмотря на неотвратимую опасность, разжигайте на горах, от одной к другой, костры тревоги. Собирайтесь сюда огромной массой! Вы не допустите, чтобы раздавили студентов и чтобы, втаптывая в грязь их тела, убили юную свободу». Все старались перетянуть студентов на свою сторону, так как они пользовались уважением как интеллектуалы и таким образом обеспечивали преимущества партии, с которой сотрудничали. Среди самих сторонников революции были такие, кто сожалел, что за благородным и идеалистским изначальным порывом последовало систематическое применение террора. Они восхищались стихотворением Людвига Гоглара, проникнутым сожалением о том, что он не умер во время «мартовских ид», поскольку теперь он видит, как посредственные тираны-трибуны приходят на смену тиранам вчерашним (он имел в виду Меттерниха). Что сталось бы с империей, если бы верх взяли радикалы? Они хотели отделить от Австрии все неавстрийские государства и поддержать требования всех наций. Самым популярным у молодых венцев — я имею в виду пролетариат — был в этот момент Кошут, сражавшийся вместе со своими венграми против австрийских войск бана Хорватии Елачича, которого либералы считали героем борьбы за свободу. 28 сентября в Будапеште был убит граф Ламберг, которого император назначил курфюрстом Венгрии вместо эрцгерцога Стефана. Нескольким венским полкам было приказано отправиться в Венгрию, но радикалы, желавшие победы Кошута, призвали солдат к неповиновению и мятежу. В завязавшейся стычке был убит генерал Бреда, и имперские полки были вынуждены отступить перед напором народных масс, заполнивших центр города. Сметая все на своем пути, восставшие дошли до Военного министерства, захватили министра графа Латура, непопулярного по той причине, что он ратовал за войну до победного конца против венгерских повстанцев, и убили его самым жестоким образом: сначала повесили на оконном ставне, но веревка оборвалась; тогда его тело вздернули на фонарном столбе, и народная ярость дошла до того, что его разорвали на куски. «Мартовская революция» теперь достигала самой острой фазы террора. Буржуа поняли это настолько хорошо, что всего за один день город покинули двадцать тысяч перепуганных людей, последовавших примеру Фердинанда, отбывшего в Ольмуц. В это время народ осаждал арсеналы и казармы, убивая солдат и завладевая оружием. Непрерывно звонили колокола, призывая восставших перейти к действиям, но в действительности было больше шума, чем дела, и всеобщей резни, которой так боялись буржуа, не произошло. Можно верить свидетельству писателя Эдуарда фон Бауэрнфельда, одного из настоящих либералов в благородном смысле этого слова, который усматривает причину этих беспорядков в систематической агитации иностранных наемных эмиссаров. Благодаря «священной войне», которую вели венгры, приглашавшие австрийский пролетариат последовать их примеру, была идеализирована фигура Кошута, фактически становившегося истинным вождем третьего революционного эпизода: дней октября.«Эта октябрьская революция, — пишет Кралик, — третья революция 1848 года, носила совершенно иной характер, нежели обе предыдущие, мартовская и майская. И зачинщики ее были совсем другие. Венское общество в собственном смысле этого слова, сыгравшее такую значительную роль в весенней революции, почти не вмешивалось в октябрьские сражения. Это была борьба за оккупацию Вены, за сильную позицию в общей войне, но в Вене теперь преобладали не венцы, а люди, пришедшие извне».Главным образом это были два поляка: один — спикер парламента Смолька, другой — Бем, военный руководитель революции. Рядом с ними действовали немцы из Франкфурта Юлиус Фребель и Роберт Блюм. Им подчинялись двадцать пять тысяч солдат национальной гвардии под командованием Венцеля Цезаря Мессенхаузера, получавшего инструкции от Бема, и десять тысяч жандармов. Им противостояли имперские полки под командованием Ауэршперга. Повстанцы практически стали хозяевами города и ждали прибытия Кошута с его венграми, чтобы добиться окончательной победы. Революционные вожди ссорились между собой, борясь за престиж и старшинство. В рядах повстанцев царило небрежение и неповиновение: массы пользовались свободой, чтобы не повиноваться ничьим приказам, даже приказам своих руководителей.
Вторичное взятие Вены
Внутренняя слабость революционных элементов, не имевших настоящего вождя и с нетерпением ожидавших Кошута, вероятно, единственного, кто был способен выполнять эту роль, вдохновила императора на попытку отвоевать Вену. Он приказал маршалу Виндишгрецу двинуться на город и прибыть туда раньше венгров. Маршал выступил из Праги форсированным маршем. Кому было суждено выиграть эту гонку на скорость, имперским войскам или же венграм, которые рассчитывали соединиться с крестьянами, поднятыми Кудлихом, и будоражили по деревням хлебопашцев, которых также призывали к борьбе их братья-рабочие? Мессенхаузер объявил осадное положение, народный парламент объявил незаконным наступление Виндишгреца, чьи войска газета Свободомыслящий обозвала бандами, похожими на орды турок, двести лет назад осаждавших Вену. «Почему бы нам не выбрать простую и единственно разумную форму правления, республику?» — храбро вопрошал Студенческий вестник. Потому что Елачич был со своими войсками в Шенбрунне и потому что 23 октября освободительные войска дошли до Гетцендорфа. На следующий день они разбили лагерь на лужайках у церкви Св. Бригитты. Венгры были еще далеко, рассеянные революционные крестьяне не были способны ни на какие совместные действия. Победа казалась несомненной. Виндишгрец методически сжимал железное кольцо вокруг города. Он овладел Северным вокзалом, Нусдорфской линией и водопроводной станцией, тогда как бан Елачич захватил несколько стратегических пунктов, в частности, квартал Леопольдштадт, который был очагом активных революционных действий. Произошли жестокие бои, в ходе которых легион артистов, сражавшихся своим театральным оружием с пушками осаждавших, понес тяжелые потери: среди убитых оказался и актер Штрампфер, чью смерть оплакивали все венцы, независимо от их политических убеждений, потому что он был одним из их самых любимых актеров. Рабочие подняли красные флаги на общественных зданиях, но они не могли сопротивляться жестоким бомбардировкам, в результате которых было сожжено несколько церквей и множество домов. В 1809 году город меньше пострадал от французской артиллерии. Отовсюду приходили сведения о разрушениях. Говорили, что горит королевская библиотека. Последними сражавшимися отрядами были отряды журналистов, возглавляемые Бехером и Елинеком. Виндишгрец потребовал безоговорочной капитуляции, временное правительство с этим согласилось, но, когда восставшие поняли, что приближаются венгры, они вынудили Мессенхаузера снова взяться за оружие, и битва возобновилась. Однако ненадолго: 1 ноября белое полотнище развевалось над башнями собора Св. Стефана, с которого сорвали красный флаг, а на следующий день на месте белого флага все увидели имперский. Заседала военная комиссия, перед которой предстали главари революции: Блюм, Фребель, Елинек и Еловики. Генералу Бему удалось бежать. Он добрался до Валахии, где был обращен в ислам под именем Мурад-паша и погиб в 1850 году. Генерала-победителя встретили как освободителя. Даже освобождение города от турок принцем Евгением не праздновали так пышно. Г-н Бидермайер вернулся домой вместе с двадцатью тысячами недавно бежавших из столицы буржуа. Студенты стали вызывать даже большее недовольство, чем рабочие. Началась настоящая охота на всех, кто носил длинные волосы, большую бороду и калабрийскую шляпу. «Их боялись, — рассказывает Роберт Хамерлинг, — как если бы они были Самсонами, скрывающими в своей шевелюре несокрушимую силу». Репрессии вполне соответствовали страху, который испытали венцы. Подстрекательские газеты были закрыты, была введена усиленная цензура. Наиболее скомпрометировавшие себя республиканские вожди были расстреляны, второстепенных пощадили. Некоторым из ультрарадикалов, как их называет Фридрих Геббель, удалось бежать. За это отомстили казнью Мессенхаузера, Блюма, Броджини, Еловики, Бехера и Елинека. В городе воцарился мир, обломки зданий и мусор были убраны, вновь открылись двери театров и кафе, жизнь восстановилась, словно ничего и не произошло. Каждый вечер зрители аплодировали новой пьесе, которой Бургтеатр отметил возобновление спектаклей, и аудитория с восторгом устраивала овации исполнителям отрывка из Leichtsinn aus Liebe, в котором возносилась хвала «доброму старому времени». Легкомыслие из любви — так называлась эта пьеса; в этом названии узнается душа Вены, оно могло бы стать ее девизом. Комментируя эти события, Фридрих Геббель тем не менее заявлял: «Вернуться на прежние рельсы невозможно… Пусть этот урок поймет тот, кто хочет добра династии и народу, — нужно соединить все хорошее былых времен со всем разумным нового времени». Таково было мнение поэта; венцы в целом хотели целиком и полностью восстановить прежнее положение вещей, хотя возвращение к старому было уже невозможно. Внешне ничто не изменилось. Ноябрьская Вена не отличалась от «домартовской». 26 ноября Геббель пишет в своем дневнике: «Город принял свой обычный вид. На тротуарах теснятся элегантные гуляющие, по улицам катятся коляски. В окнах, за которыми имели обыкновение красоваться уверенные в своем бессмертии цицероны нашего парламента, командиры академического легиона, дюжина венгров и кое-кто из последних государственных руководителей, теперь появляются Виндишгрец, Елачич и Радецкий». В действительности население разделила глубокая трещина. Буржуазия теперь относилась с недоверием к студентам, которых еще недавно охотно принимала в своих гостиных; ее брала дрожь при встрече на улице с каким-нибудь рабочим, который казался мятежником и поджигателем и вновь мог стать таковым при благоприятных обстоятельствах. Люди постепенно забывали, что пушки освободителей, должно быть, нанесли городу более значительный ущерб, нежели факелы манифестантов. Пожаловав своим народам конституцию, которая вовсе не была такой либеральной, как хотелось бы, император Фердинанд отрекся от трона в пользу своего племянника Франца-Иосифа, которому было всего восемнадцать лет, а сам удалился в Прагу. С приходом нового монарха должна была начаться новая эпоха; в ней осталась та же пышность праздников, зрелищ и религиозных процессий, что и в недавнем прошлом, но уже были выдвинуты новые идеи, они прокладывали себе дорогу, и складывалось впечатление, что «блистательная эпоха г-на Бидермайера» пришла к концу. Другие моды, другие вкусы, другие любимые актеры, другие преуспевающие писатели заняли место своих предшественников. Впрочем, внешний облик любого города может измениться, но его бездонная душа остается неизменной.Глава первая
1 Слово «метеки» происходит от греческого «metoikos» — переселенец. Такие иноземные поселенцы в Древних Афинах платили особую подать и пользовались покровительством местных законов, но не имели ни гражданских, ни политических прав. 2 Барон Жорж Эжен Осман (1809–1882) перестраивал Париж при Наполеоне III. Суть перестройки была в основном та же, что и в Вене: сносились старые дома, целые кварталы узких средневековых улочек, прорубались широкие магистрали. Эта перестройка полностью изменила облик французской столицы. Подобно тому как в Вене были снесены дома вокруг собора Св. Стефана, в Париже был освобожден для созерцания фасад собора Парижской Богоматери. 3 Для удобства читателей приводим годы правления императоров Священной Римской империи и австрийских императоров, упомянутых в книге: Священная Римская империя: Франц I 1745-1765 Иосиф II 1765-1790 Леопольд II 1790— 1792 Франц II 1792-1806 Австрийская империя: Франц I 1804-1835 Фердинанд I 1835–1848 (отречение) Франц-Иосиф I 1848—1916 Император Священной Римской империи Франц II стал после упразднения этого института императором Австрии под именем Франца I. 4 Адольф Бойерле (1786–1859) — австрийский писатель, мастер венской народной пьесы, художественный предшественник Ф. Раймунда. 5 Прозвище Дуккерль происходит от глагола ducken — «склонить голову, притаиться» и потому может переводиться либо как «тихоня», либо как «проныра, хитрюга». 6 Тридентский Вселенский собор католической церкви происходил с перерывами с 1545 по 1563 год в Тренто (лат. Tridentum) и Болонье. Он подтвердил основные догматы католицизма в противовес распространявшемуся учению реформаторов, утвердил положение о чистилище. Несмотря на непреклонность в вопросе о догматах, Тридентский собор принял ряд решений, содействовавших установлению более гибких практик, более современного отношения Церкви к верующим. 7 Говоря об отечестве, Гёте имеет в виду Священную Римскую империю германской нации, существовавшую до 1806 года. 8 Мариацель — самое знаменитое место паломничества Австрии, находящееся в Штирии. В этом городе, основанном в XII веке, находятся особо почитаемая статуя Девы Марии и серебряный алтарь работы Й.-Э. Фишера фон Эрлаха. 9 Деистами называются последователи религиозно-философского направления, которое, признавая Единого Бога творцом, отрицает его вмешательство в дальнейшее развитие мира. 10 Болландисты — группа ученых иезуитов, издавшая сборник легенд о католических святых, написание которых было начато Жаном Болланом (1596–1665). 11 Миннезингер Вальтер фон дер Фогельвайде (ок. 1170 — ок. 1230), поэт, музыкант, певец, побывал во многих странах. Место его рождения неизвестно, однако своей духовной родиной сам поэт называет Австрию, где он научился «и петь, и излагать». Сохранилось предание о том, что в 1203 году он присутствовал в Вене на свадьбе герцога Леопольда VI и сочинил хвалебную песнь Вене, а также песню, восхваляющую достоинства немецких женщин. Глава вторая 1 Театр-ан-дер-Вин был основан Шиканедером в 1801 году. Название буквально переводится как «Театр на реке Вене». Над порталом здания театра находятся так называемые «ворота Папагено», на которых помещено скульптурное изображение самого Шиканедера в роли Папагено из оперы Моцарта «Волшебная флейта». В настоящее время театр является театром мюзикла. 2 В описываемое время Бригиттенау был пригородом Вены между Дунаем и Дунайским каналом. Свое название он получил в честь находившейся там весьма почитаемой часовни Св. Бригитты. Согласно легенде, часовня была построена в 1642 году в связи с опасностью вторжения шведов. Сейчас Бригиттенау — один из районов Вены. 3 Главная героиня романа Жермены де Сталь «Коринна, или Италия» — гениальная поэтесса-импровизатор, актриса и певица. 4 Роман Г.-Х. Андерсена так и называется «Импровизатор» (1835). Характерный для описываемого времени образ итальянского импровизатора можно найти также в неоконченной повести А. С. Пушкина «Египетские ночи» (1835). Глава третья 1 Композитор А. Шенберг (1874–1951) и его ученики А. Веберн (1883–1945) и А. Берг (1885–1935) относятся к так называемой Нововенской школе. (Старая венская школа — Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт и их современники.) А Шенберг является создателем додекафонной системы композиции, в основе которой лежат серии из 12 неповторяющихся звуков. Эта система произвела переворот в музыкальном мышлении, положив начало отходу от тональной музыки. Вместе с тем нельзя не отметить ее сродство с принципами старинного полифонического варьирования. 2 Шотландский монастырь — старейший монастырь в Вене. Основан в 1155 году монахами-бенедектинцами ирландского происхождения, которых в народе прозвали «шотландцами» (Schotten). Эти монахи прибыли в Австрию по приглашению герцога Генриха И Язомиргота. 3 Шенбрунн — летний дворец-резиденция Габсбургов в Вене, построенный в стиле барокко с элементами классицизма. Строился и перестраивался в XVII–XVIII веках архитекторами И.-Б. Фишером фон Эрлахом и Н. Пакасси. Название дворца в буквальном переводе означает «прекрасный источник», так как на этом месте был родник. 4 Моцарт находился на службе у зальцбургского курфюрст-епископа Коллоредо до 1777 года. Отношения с патроном были у него всегда очень напряженными, и после скандального объяснения они расстались. Что касается Гайдна, то он в течение почти 30 лет состоял на службе князей Эстерхази, которые относились к композитору очень доброжелательно. Пауль Эстерхази завещал композитору пожизненную пенсию, а его сын Николаус Эстерхази оказывал Гайдну покровительство в последние годы его жизни. 5 Ритурнелями в музыке называется постоянно возвращающаяся и модулирующая тема. Эта форма обычно появляется в песнях и ариях и особенно характерна для эпохи барокко. 6 Противопоставление Сальери Моцарту как представителя «итальянской» школы представителю «венской» достаточно спорно. Несмотря на то, что Сальери действительно начал серьезно учиться музыке в Италии, он очень рано (шестнадцати лет от роду) приехал в Вену и стал учеником сначала Ф. Гассмана, а затем К.-В. Глюка. Влияние Глюка особенно заметно в раннем оперном творчестве Сальери. Этот композитор фактически принадлежал именно венской школе. 7 Ипполит Тэн (1828–1893) — французский философ, историк и искусствовед. По мнению Тэна, на формирование личности художника оказывают влияние три фактора: расовая принадлежность, среда и историческая эпоха. Глава четвертая 1 Пульчинелла — персонаж итальянской комедии масок. Шньоль — персонаж французского театра кукол. Панч и Джуди — английская кукольная пара. Карагез — герой турецкого театра теней, шутовская фигура в восточном театре. Гурвинек — комический персонаж чешского кукольного театра. 2 Название «елизаветинцы» относится к английским драматургам-современникам У. Шекспира, жившим во времена правления королевы Елизаветы I. 3 «Гамбургская драматургия» — теоретический труд Г.-Э. Лессинга, написанный им в 1767–1769 годах. Представляет собой сборник театральных рецензий, в которых Лессинг изложил свою драматургическую теорию. 4 Разумеется, Испания расположена западнее Австрии, но испанская культура должна была восприниматься как более «восточная» за счет черт, обусловленных арабским влиянием времен завоевания Испании арабами (VIII–XV вв.). 5 Кревинкель — фольклорный город, жители которогославились особой глупостью, нечто вроде города Глупова. Глава пятая 1 Робер Франсуа Дамьен — янсенист, совершивший покушение на жизнь Людовика XV. 1 Шурин Иосифа — Людовик XVI. 2 Итальянское слово irredenta означает «неосвобожденная» (земля). Ирредентистами называли сторонников присоединения к Италии земель, частично заселенных итальянцами, но не вошедших в состав Италии при ее воссоединении. Впоследствии этим словом стали называть участников аналогичных движений в других странах. 3 Люневильский мир был заключен между Францией и Австрией 9 февраля 1801 года. Потерпевшая поражение Австрия была вынуждена признать зависимые от Франции новообразованные республики, и, хотя император Франц настаивал на уважении прав Священной Римской империи, этот договор фактически стал первым шагом к ее упразднению в 1806 году. 4 Франсуа Шарль Жозеф Наполеон (1811–1832), сын Наполеона и Марии Луизы, был сразу после рождения провозглашен отцом королем Римским. После низложения Наполеона он содержался под домашним арестом в Шен-бруннском дворце под именем герцога Рейхштадтского. Попытки сторонников Наполеона выкрасть его из Шенбрунна не увенчались успехом, и в возрасте 21 года он скончался при загадочных обстоятельствах. 5 Рейнский союз (1806–1813) — объединение ряда государств западной и южной Германии, созданное под протекторатом наполеоновской Франции. После поражения Наполеона в битве под Лейпцигом в октябре 1813 года Рейнский союз распался. 6 Пояс («Портель») — кольцевая улица в Вене, опоясывающая на расстоянии 1,5–2 километра кольцевую улицу Рингштрассе (Ринг, Кольцо). 7 Наполеон, разумеется, не принадлежал к династии Бурбонов. Настоящим Бурбоном был обезглавленный революцией супруг Марии Антуанетты. Адресуемая Наполеону кличка «бурбон» в устах австрийцев выражала неодобрительное отношение к французским монархам. Глава седьмая 1 Династия Ваза правила в Швеции с 1523 года, когда Швеция освободилась от датского владычества. В 1810 году наследником шведского престола был избран наполеоновский маршал Жан Батист Бернадот, основавший новую династию. 2 Иоахим Мюрат (1767–1815), французский маршал, сподвижник Наполеона, в 1808 году стал королем Неаполитанским. В 1814 году Мюрат заключил союз с Австрией и Англией и до конца надеялся сохранить за собой Неаполитанское королевство. В октябре 1815 года после неудачной попытки вернуться в Италию был расстрелян. 3 С 1806 по 1815 год Талейран носил титул князя Бене-вента, небольшого княжества в Нижней Италии неподалеку от Неаполя. 4 Имеется в виду возвращение Наполеона. 5 Вскоре после сообщения о смерти Александра I в Таганроге в 1825 году распространились слухи, что царь не умер. Спустя 10 лет в Томской губернии объявился старец Федор Кузьмич, в котором многие узнавали покойного царя. Эта версия не была ни окончательно подтверждена, ни окончательно отвергнута. Мимоходом заметим, что многие исследователи сомневаются в правдивости описаний Александра I как психически неуравновешенного и слабовольного человека. 6 Участие Марии Федоровны в убийстве Павла I весьма сомнительно. Напротив, известно, что после смерти императора она долгое время была в натянутых отношениях с Александром, потому что подозревала, что он знал о заговоре. Согласно имеющимся историческим документам, главой заговора был граф П. А. Пален. Глава девятая 1 Слово «панический» является производным от имени бога Пана. Чаще всего оно служит определением к существительному «ужас», поскольку считалось, что Пан способен насылать на человека безотчетный страх. Однако в данном контексте скорее подчеркивается функция Пана как покровителя пастухов и дикой природы, которую так почитали немецкие романтики. 2 Господина Жозефа Прюдома придумал в 1877 году французский писатель и карикатурист Анри Монье (1799–1877). Прюдом стал символом обывателя, туповатого буржуа, который с напыщенным менторским видом говорит банальные вещи. 3 Назарейцами (нем. Nazarener) называют группу немецких и австрийских художников, стремившихся воскресить средневековое религиозное искусство. Главные представители — Ф. Овербек и П. Корнелиус. 4 Прерафаэлиты — английские художники, объединившиеся в 1848 году в «Братство прерафаэлитов» (Д. Г. Россетти, X. Хант, Дж. Э. Миллеси и др.). Их идейным вдохновителем был Дж. Рескин. Противопоставляли «наивное» искусство Средних веков и раннего Возрождения культуре буржуазного общества. 5 Доменико Гйрландайо (1449–1494) — итальянский живописец флорентийской школы периода раннего Возрождения. Его наиболее известные работы — фрески в церквах Санта-Тринита и Санта-Мария Новелла во Флоренции. Пьетро Перуджино (ок. 1445–1523) — итальянский живописец эпохи Возрождения, учитель Рафаэля. Наиболее известные произведения — «Явление Марии св. Бернарду», а также фрески в Сикстинской капелле в Риме и в Коллед-жо дель Камбио в Перудже. 6 «Песни Оссиана» — одна из наиболее известных литературных мистификаций, написанная Макферсоном (1736–1796) и опубликованная им как сборник произведений неизвестного ранее древнего поэта. «Песни» выражают стилизованные под старину настроения и идеи, свойственные сентиментализму. 7 Ведута (от итал. veduta — букв, «увиденная») представляет собой пейзаж, документально точно изоображающий вид определенной местности или города. Термин сложился в XVIII веке, когда для воспроизведения видов использовалась камера-обскура, и применялся, как правило, к изобразительному искусству Европы этого времени. 8 Жан-Батист Трёз (1725–1805) — французский художник, писавший сентиментально-моралистические жанровые сцены и портретные миниатюры (знаменитые «головки Грёза»). 9 «Волшебный рог мальчика» — сборник немецких народных сказок и песен, составленный в 1806–1808 годах К. Брентано и J1. Арнимом. Глава десятая 1 Непопулярный в народе король Луи-Филипп пытался возродить стиль, свойственный дореволюционной монархической Франции. В частности, он требовал, чтобы на придворные балы гости являлись в юолотах. Эти неуместные стилистические потуги, равно как и малоэффективная политика Луи-Филиппа породили большое количество пародий и насмешек. 2 Рисорджименто (итал. Risorgimento — букв, «возрождение») — период борьбы итальянского народа за национальное освобождение и объединение страны. Борьба завершилась в 1870 году образованием единого итальянского государства. 3 Третья коалиция — совместные действия государств — противников Наполеона после провозглашения наследственной австрийской монархии в 1804 году. Завершилась поражением Австрии и отказом императора Франца от короны Священной Римской империи. 4 Хернальс — в описываемое время пригород Вены, расположенный в местности, ранее принадлежавшей некоему господину фон Альсу (Besitz des Herren von Als), — отсюда и название. Сейчас один из районов Вены. Глава одиннадцатая 1 Германский союз был создан на Венском конгрессе и состоял из 39 государств, объединившихся под гегемонией Австрии. Распался в 1866 году после поражения Австрии в войне с Пруссией. 2 Бабенберги — древний австрийский род, ставший одной из двух правивших в Австрии династий. Его последним представителем был Фридрих II Воинственный, при котором было возобновлено строительство собора Св. Стефана. Он погиб в 1246 году, не оставив наследников. 3 Фридрих I Красивый (1289–1330) — герцог Австрии и Штирии. Фридрих III (1415–1493) — эрцгерцог, император Священной Римской империи германской нации. Во время его правления достигли кульминации междоусобные войны и борьба за власть между Габсбургами. Отец императора Максимилиана I. Фердинанд I (1503–1564) — эрцгерцог, брат Карла V. Первый король Чехии и Венгрии из династии Габсбургов. С 1556 по 1564 год — император Священной Римской империи. 4 Редемптористы — католический орден, ставивший своей задачей просвещение и образование народа. Основан в 1732 году Альфонсо Лигуори.БИБЛИОГРАФИЯ
Политическая и социальная жизнь Вены
Bethouart général A. Metternich et l’Europe. Paris: Perrin, 1979. Droz J. Histoire de l'Autriche. Paris: P. U. F87 1961. Fejtö F. Un Habsbourg révolutionnaire: Joseph II. Paris: Plon, 1953. Feuchtmuller M. Biedermeier in Österreich. Wien, 1963. Gold H. Geschichte der Juden in Wien. Tel-Aviv, 1962. Grün A. (Comte Anton Alexander Auersperg). Spaziergänge eines Wiener Poeten. 1831. Hausenstein W. Europäische Hauptstädte. München: Prestel Verlag, 1954. Kralik R. Histoire de Vienne, tr. fr. Paris: Payot, 1932. Kreissler F. Histoire de l'Autriche. Paris: P.U.F., 1977. Laube H. Reise durch das Biedermeier, éd. par Ludwig Speidel d’après les Reisenovellen de 1833—37. Wien: W. Andermann Verlag, 1946. Mayr J.-K Wien im Zeitalter Napoleons. Wien, 1940. Mikoletzky H. L. Österreich. Das entscheidende 19 Jahrhundert. Wien, 1972. Nicolson H. Le Congrès de Vienne, tr. fr. Paris: Hachette, 1945. Orieux J. Talleyrand. Paris: Flammarion, 1970. Selinger M. & U. Wien, politische Geschichte. Vol. I. Wien und München: Jugend und Volk Verlag. Perrin H. L'Autriche. Paris: P.U.F., 1973. Pichler K. (geborene von Greiner). Denkwürdigkeiten aus meinem Leben, hrsg. von Emil Karl Blüml. Wien, 1914. Reichsl F. Wien zur Biedermeierzeit. Wien, 1921. Sainte-Aulaire comte de. Mémoires. Souvenirs de mon ambasssade à’Vienne, publiés par Marcel Thiébaut. Paris: Calmann-Levy, 1927. Wanderer М. T. Revolutions-Stürme Achtundvierzig. Wien, 1948. Weil М. H. Les dessous du Congrès de Vienne. Paris, 1917. Weiss K. Geschichte der Stadt Wien. Wien, 1883. Zieseniss C. Le Congrès de Vienne ou l'Europe des Princes. Paris: Belfond, 1984. Zinzenbach W. Joseph Richter, bekannt als Eipeldauer. Wien, Stiasny Verlag. Zöllner E. Geschichte Österreichs. 5e éd. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1974.О музыке
Beaufils M. Comment l'Allemagne est devenue musicienne. Paris: Laffont, 1983. BrionM. Mozart. Nouv. éd. Paris, 1985. Deutsch О. E. Musikalische Kuckuckseier und andere Wiener Musikgeschichten. Wien, 1973. Klein R. Schubertstätten. Wien, 1972. Knepler G. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 1961. Kobald K. Alt-Wiener Musikstätten. Wien, 1923. Reuter E. La melodie et le lied. Paris: P.U.F., 1950.Более подробно о Моцарте и Бетховене в работах: Massin B. & J. (Paris: Fayard, 19°7; 1970); о Шуберте: Massin В. (Paris: Fayard, 1977). О пребывании Шумана в Вене: Brion М. Schumann. Nouvelle éd. Paris: A. Michel, 1986. О Штраусах: Jacob H. E. Johann Strauss, Vater uns Sohn. Bremen, 1953.
Более подробно о литературе и театре
GyoryJ. La littérature autrichienne. Paris: P.U.F., 1980. Gorlich E. J. Österreichische Literaturgechichte. Wien, 1947. Gregor J. Weltgeschichte des Theaters. Wien: Phaidon Verlag, 1933. Schmidt Aю Dichtung und Dichter Österreichs im XIX und XX Jahrhundert. Salzburg, 1964.О живописи
Brion M. Peinture romantique. Paris: A. Michel, 1967.


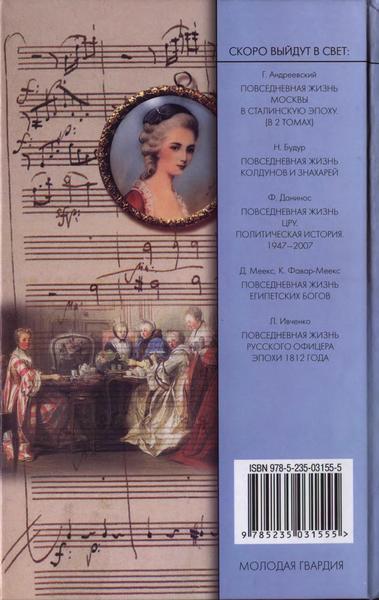
Примечания
1
Deutsch О. Е. Mozart. Die Dokumente seines Lebens gesammelt und erläutert. Kassel, 1961. S. 479. (обратно)2
Baer С. Mozart. Krankheit — Tod — Begräebnis. Salzburg, 1966. S. 121–125. (обратно)3
Об этом см.: Claudio M. Der «habsburgische Mythos» in der österreichischen Literatur. (обратно)4
См.: Михайлов А. В. Варианты эпического стиля в литературах Австрии и Германии // Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. (обратно)5
Hausentein W. Europäische Hauptstädte. München: Prestel Verlag, 1954. (обратно)6
Каролина Пихлер (1769–1843) — одна из самых популярных венских писательниц эпохи бидермайера, основательница литературного салона. Ее основное произведение «Знаменательные события моей жизни», вышедшее в 1844 г., представляет собой важный документ эпохи. Примеч. ред. (обратно)7
См.: Komorzinsky Е. Der Vater der Zauberflote. Wien, 1948. Примеч. авт. (обратно)8
Имеется в виду Семилетняя война (1756–1763), в результате которой Австрия потеряла Силезию. Примеч. ред. (обратно)9
Князь Венцель Антон фон Кауниц-Ритберг (1711–1794) — с 1753 по 1792 г. государственный канцлер Австрии, инициатор подписания Версальского договора 1756 г., положившего конец двухвековой вражде Австрии и Франции. Примеч. ред. (обратно)10
Прагматическая санкция — закон Карла VI (1713) о престолонаследии. Примеч. пер. (обратно)11
Игнац фон Борн (1742–1791) — великий мастер главной венской масонской ложи «Истинное согласие», ученый и писатель. (обратно)12
Иллюминаты — члены мистической секты в Баварии в XVIII в. Примеч. пер. (обратно)13
Принц де Линь — сын Шарля Жозефа де Линя (de Ligne) (1735–1814), маршала Франции, государственного деятеля и писателя. Примеч. ред. (обратно)14
Kralik R. Histoire de Vienne, tr. fr. Paris, 1932. C. 267–268. (обратно)15
Kralik R. Op. cit. P. 206. (обратно)16
Цит. Краликом; op. cit. Р. 272–273. (обратно)17
Йозеф фон Зонненфельс (1737–1817) — писатель, юрист, профессор политических наук в Венском университете, один из главных представителей «йозефинизма», участвовал в разработке программ профессионального образования для государственных чиновников, занимался популяризацией идеи меркантилизма, а также разработкой основ структуры полицейского ведомства. Примеч. ред. (обратно)18
Его можно было видеть еще в XVIII в.: это был старый ствол дерева, разветвлявшийся на два сука, «остаток девственного леса, когда-то окружавшего Вену» (Kralik. Op. cit. P. 202), охваченный стальным обручем с замком. Легенда гласила, что этот замок был сделан и повешен на обруч в незапамятные времена неким мастером-слесарем, который, гордясь своим уменьем и сноровкой, объявил, что ни один из венских или иностранных слесарей не сможет открыть этот не поддающийся отмычкам шедевр. К сожалению, у мастера был спесивый и честолюбивый подмастерье, решивший принять вызов хозяина. Он изготовил массу всевозможных ключей, но ни один из них замок не открыл. Тогда разъяренный, униженный и раздосадованный подмастерье в припадке гнева отдал душу дьяволу, а тот пообещал научить его, как сделать нужный ключ, но с насмешкой поставил условие: если при открывании замка подмастерье уронит ключ, дьявол сразу же станет его полновластным хозяином. С беднягой произошло то, чего и следовало ожидать: когда он стал вставлять ключ в замок, тот выпал из его руки, и парнем тут же завладел дьявол. С тех пор больше никто не осмеливался прикоснуться к замку на Закованном стволе, который так и остался на месте, служа спасительным предупреждением тем, кто рассчитывает преуспеть в делах с помощью адской силы. Этот анекдот фигурирует в произведениях поэта Якоба Штурма, который, в свою очередь, полагает, что название города «Вена» происходит от имени Фабиана, римского генерала, якобы жившего в этой местности и построившего замок, позднее сметенный с лица земли гуннами. Тот же Штурм воскликнул с восторгом: «Вена — королева городов, резиденция императоров. Вена — это трон всей земли». Среди обожателей Вены подобные взрывы восторга нередки, и здесь можно привести еще один, со стороны немецкого поэта Вольфганга Шмельцля, который в 1548 г., написав Похвалу знаменитому городу Вене в Австрии, воскликнул: «Кто не смог побывать в Вене, тот напрасно прожил жизнь!» Примеч. авт. (обратно)19
Paris: Calmann-Levy, 1927. Примеч. авт. (обратно)20
Stifter A. Wien und die Wiener. Примеч. авт. (обратно)21
Читатели, которым покажется слишком длинным и, возможно, скучноватым полное издание Eipeldaubriefe, с удовольствием прочтут отрывки из него в книге Walter Zinzenbach, Josef Richter, Bekannt als Eipeldauer (Stiasny Verlag, Wien), включающей также несколько поэм и замечательный Словарь. Примеч. авт. (обратно)22
Memento mori (лат.) — помни о смерти; memento vivere (лат.) — помни о жизни. Примеч. пер. (обратно)23
Бидермайер — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве 1815–1848 гг., присущее демократической бюргерской среде и отличавшееся тонкостью и тщательностью изображения природы и бытовых деталей. Примеч. пер. (обратно)24
Голубой понедельник — изначально понедельник в канун Великого поста, то есть понедельник перед пепельной средой, названный так по литургическому цвету одеяния священника в этот день и означающий день отдыха. В разных странах он получил разные названия — «бессмысленный понедельник» (Австрия), «глупый понедельник» (Штирия), «понедельник обжорства» (Тироль). Примеч. ред. (обратно)25
Мария-Помощница. Примеч. пер. (обратно)26
Так было сказано в рекламном объявлении одного из модных магазинов. Примеч. авт. (обратно)27
Штифтера, автора двух романов-эпопей — «Бабье лето» и «Витико», наряду с Грильпарцером относят к писателям-классикам австрийской литературы. Романтизм как литературное направление не получил здесь своего развития. Примеч. ред. (обратно)28
Рассказ был напечатан в 1848 г. в альманахе «Ирис за 1848 г.». Примеч. ред. (обратно)29
По другим источникам около 80 тысяч чел. Примеч. ред. (обратно)30
Wien zur Biedermeierzeit. Wien, 1921. Примеч. авт. (обратно)31
В. Хебенштрайт в своей книге «Чужой в Вене» (Вена, 1829) выдвигает более прозаические причины безопасности быстрой езды — широкие тротуары и громкие окрики кучеров. Примеч. ред. (обратно)32
Генрих Лаубе (1806–1884) — нем. писатель и театральный деятель, участник литературной школы «Молодая Германия»; Heinrich Laube: Reise durch das Biedermeier, изд. Людвигом Шпейделем по оригиналам Reisenovellen, опубликованным Лаубе между 1833 и 1837 гг. Слово «бидермайер» пока еще не было в употреблении; и персонаж, и название будут придуманы позднее. Wilhelm Andermann Verlag, Wien, 1946. (обратно)33
Цит. по Reichsl: Wien zur Biedermeierzeit, Wien, 1921. (обратно)34
В оригинале по-французски. Примеч. авт. (обратно)35
Эрик Сати (1866–1925) — французский композитор, духовный гид «французской шестерки», основатель художественного кружка Аркейской школы, объединившего ведущих композиторов, поэтов и художников. До 1905 г. исповедовал импрессионизм. Однако затем резко сменил эстетическую ориентацию. Примеч. ред. (обратно)36
Перевод на французский язык этого очаровательного произведения вышел в свет в издательстве Альбен Мишель. Примеч. авт. (обратно)37
Собраны Вильгельмом Бернером, опубликованы издательством Анценгрубер. Примеч. авт. (обратно)38
Souvenirs de mon Ambassade à Vienne (1832–1841), publiés par Marcel Thiébaut, Calmann-Lévy, Paris, 1927. (обратно)39
Wiener Umgebungen auf zwanzig Stunden im Umkreise, 1835. Примеч. авт. (обратно)40
Beschreibung einer Reise durch Deutschland, 1785. Примеч. авт. (обратно)41
Цит. по: Kobald. Alt-Wiener Musikstatten. Wien: Amalthen Verlag, 1923. Примеч. авт. (обратно)42
Автор, должно быть, не совсем хорошо помнит содержание Бедного музыканта, поскольку главный герой, Якоб, как раз и является в глазах окружающих таким бездарным музыкантом, уродующим шедевры. Примеч. ред. (обратно)43
Пьеса барочного драматурга XVII в. П. Кальдерона. Примеч. ред. (обратно)44
Karl Kobald: Alt-Wiener Musikstatten.Wien, 1923. В тексте на французском языке. Примеч. авт. (обратно)45
Шамиссо (1781–1838) — немецкий поэт-романтик, автор рассказа «Удивительная история Петера Шлемиля». Примеч. ред. (обратно)46
Le Romatitisme dans la Musique Européenne, Albin Michel, 1955. Примеч. авт. (обратно)47
Эдуард Бауэрнфельд (1802–1890) — австрийский комедиограф, писавший пьесы для Бургтеатра с ярко выраженным национальным колоритом. Примеч. ред. (обратно)48
Pitrou R. Schubert. Vie intime. Emil Paul, editeur, 1949. Примеч. авт. (обратно)49
«Те, кто знает Шуберта только по легенде — а легенда эта сегодня постоянно повторяется в кинофильмах, опереттах и романизированных биографиях, — видят в нем наивного, сентиментального человека, чистого, несколько ограниченного, своего рода Парсифаля из „Песни“, короче говоря, некоего юродивого, плодившего мелодии, как дерево свои плоды. Как человек Шуберт, несомненно, был наделен достоинством смирения. Он не искал ни светских аплодисментов, ни почестей и всему, что вскармливает в человеке тщеславие, предпочитал семейные привязанности или интимные радости». Marcel Schneider. Schubert. Paris, Editions du Seuil, 1957. Примеч. авт. (обратно)50
Kolb A. Schubert. Paris: Ed., Albin Michel, 1952. Примеч. авт. (обратно)51
Komorzinsky Е. Der Vater der Zauberflöte. Wien: Paul Nelf Verlag. Примеч. авт. (обратно)52
В книге о Моцарте: Mozart, Amiot-Dumont, éditeur, 1956, я писал о том, как была сочинена и поставлена Волшебная флейта. Примеч. авт. (обратно)53
Касперль — самая популярная комическая фигура народного театра. Примеч. ред. (обратно)54
Карл Эдлер фон Маринелли (1745–1803) — актер, драматург, директор театра в Леопольдштадте, первой «стоячей сцены» в Вене. Примеч. ред. (обратно)55
«Венский Фауст, представленный Гансвурстом, трактует проблему мира гораздо проще, яснее и глубже, чем Гёте. Венский Гансвурст с чистотой, непревзойденной ни в одной литературе мира, раскрывает эстетическое понятие комического, забавного в противопоставлении трагическому, понятие заурядного в противопоставлении возвышенному, наивного — сентиментальному, естественного — изысканному. Венский Гансвурст комичен по своей природе и воплощает в себе комическое в мире и в жизни человека…» Kralik. Histoire de Vienne, tr. fr., Payot, 1932. Примеч. авт. (обратно)56
О Прехаузере и Курце см.: Gregor J. Weltgeschichte des Theaters (Phaidon Verlag, Wien, 1933). Примеч. авт. (обратно)57
См. историю Бургтеатра: Gregor J. Op. cit., гл. XVI. (обратно)58
См. рассказ об этом в: Marcel Brion. Goethe. Paris: Albin Michel, 1948. Примеч. авт. (обратно)59
Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstadt, Wien, 1800. Примеч. авт. (обратно)60
Pezzl-Ziska. Beschreibung von Wien. 1826. Примеч. авт. (обратно)61
Либуша — мифологическая основательница Праги, король Оттокар — полумифологическая фигура, король Богемии, с падением которого связано основание династии Габсбургов. Примеч. ред. (обратно)62
Людвиг Анценгрубер (1839–1889) — крестьянский писатель, автор 19 пьес, из которых самая популярная — «Священник из Кирхфельда», а также автор сборников новелл «Сказки каменотеса», «Календарные истории», «Деревенские пути». Примеч. ред. (обратно)63
Изданы в Вене, издатели: Fritz Brukner и Otto Rommel, 1923. Примеч. авт. (обратно)64
Петер Альтенберг (1859–1919) — писатель, фельетонист, мастер импрессионистской малой прозы. (обратно)65
Forst de Battaglia О. Johann Nestroy, Abschaetzer der Menschen, Magier des Wortes. Leipzig, 1933. Примеч. авт. (обратно)66
Мориц Швинд (1804–1871) — австрийский живописец и график, его росписи, картины и иллюстрации (как правило, на темы легенд и сказок) выполнены в духе позднего романтизма. Примеч. ред. (обратно)67
Komische Gedichte über die Vorstadte Wiens. (обратно)68
Сам композитор Глюк, автор «Альцесты», «Орфея» и «Ифигении», проявлял интерес к подобным развлечениям. Примеч. авт. (обратно)69
Принц Евгений Савойский — освободитель Вены от Второго турецкого нашествия 1683 г. (обратно)70
Вознеси свою музыку к небу (англ.). (обратно)71
Traditionen zur Charakteristik Österreichs, seinen Staats and Volksleben unter Franz I. Т. I. Примеч. авт. (обратно)72
См.: Das Kaiserliche Lustschloss Belvédère. Wien, 1840. Примеч. авт. (обратно)73
Reichsl. Op. cit., P. 88. Примеч. авт. (обратно)74
Reichsl. Op. cit., P. 101. Примеч. авт. (обратно)75
Wanderungen uns Spazierfahrten, опубл. в Вене в 1808 г. (обратно)76
Wiener Zeitung (Венская газета) была основана по инициативе Леопольда I в 1703 г. и называлась до 1780 г. Wienerisches Diarium (Венский дневник). Название подчеркивает особое значение Венского двора в ее организации, а значит, и ее официальный, если не официозный характер. Выпускается до сих пор. (обратно)77
См.: Nierstein О. Luftfahrten im alten Wien, и Gugitz: Die ersten Versuche der Aeronautik in Wien. Примеч. авт. (обратно)78
Reichsl. Op. cit. P. 109. Примеч. авт. (обратно)79
Histoire de Vienne, tr. fr. P. 281. Примеч. авт. (обратно)80
Op. cit. Р. 288. Примеч. авт. (обратно)81
Kralik. Op. cit. P. 332. Примеч. авт. (обратно)82
Casus belli (лат.) — случай, оправдывающий войну; повод к войне. Примеч. авт. (обратно)83
Histoire de Vienne. P. 305. Примеч. авт. (обратно)84
Kralik. Op. cit. P. 307. Примеч. авт. (обратно)85
Робеспьера. Примеч. авт. (обратно)86
Мамелюки (невольники) — воины, которые отличались прекрасной военной выучкой и особой жестокостью. Примеч. ред. (обратно)87
«Сарджино, или Ученик любви» (1803) — опера итальянского композитора Фердинандо Паера (1771–1839). Примеч. пер. (обратно)88
Граф Иоганн Филипп Штадион (1763–1824) — министр иностранных дел Австрии, после битвы при Ваграме, проигранной австрийцами, был снят, и на его место назначен Меттерних. Примеч. ред. (обратно)89
Landswehr — в пер. с нем. «оборона страны». Примеч. ред. (обратно)90
Kralik. Op. cit. Р. 311. См. также Karl Weiss: Geschichte der Stadt Wien. Wien, 1883. Примеч. авт. (обратно)91
Kralik. Op. cit. Р. 314. Примеч. авт. (обратно)92
Об этом происшествии писал Тарле: «Смотр 12 октября уже подходил к концу, когда какой-то хорошо одетый молодой человек успел пробраться между лошадьми свиты и с прошением в левой руке подошел к лошади, на которой сидел Император. Его схватили раньше, чем он успел выхватить длинный, отточенный кинжал. Наполеон по окончании смотра пожелал видеть арестованного. Он оказался саксонским студентом Штапсом из Наумбурга. „За что вы хотели меня убить?“ — „Я считаю, что пока вы живы, ваше величество, моя родина и весь мир не будут знать свободы и покоя“. — „Кто вас подучил?“ — „Никто“. — „Вас учат этому в ваших университетах?“ — „Нет, государь“. — „Вы хотели быть Брутом?“ Студент, по-видимому, не ответил, потому что Наполеон потом говорил, что Штапс как будто не очень хорошо знал, кто такой был Брут. „А что вы сделаете, если я вас отпущу сейчас на свободу? Будете ли опять пытаться убить меня?“ Штапс долго молчал, прежде чем ответить: „Буду, ваше величество“. Наполеон тоже помолчал и вышел в глубокой задумчивости. Военно-полевой суд собрался вечером. Штапс был расстрелян на другой день». Примеч. ред. (обратно)93
Weil М.-Н. Les Dessous du Congrès de Vienne. Paris, 1917. Vol. I. P. 11, note 14 du 1 juillet 1814. (обратно)94
Weil. Op. cit. Vol. I. P. 11, note 15. Примеч. авт. (обратно)95
Weil. Op. cit. Vol. I. P. 10, note 13, 2 juillet 1848. Примеч. авт. (обратно)96
Weil. Op. cit. Vol. I. P. 124, note 153, 27 septembre 1814. Примеч. авт. (обратно)97
Weil. Les Dessous du Congrès de Vienne. Paris, 1917. Vol. I. P. 255, note 323. Примеч. авт. (обратно)98
Refugium peccatorum (лат.) — прибежище греха. Примеч. пер. (обратно)99
Weil. Op. cit. Par. 327 et 440. Примеч. авт. (обратно)100
Weil. Op. cit. P. 211, note 257. Примеч. авт. (обратно)101
Weil. Op. cit. P. 110, note 130. Примеч. авт. (обратно)102
Weil. Op. cit. P. 366, note 498. Примеч. авт. (обратно)103
Соответственно один луидор и один наполеондор — старинные французские золотые монеты в 20 франков. Примеч. пер. (обратно)104
Nicolson Н. Le Congrès de Vienne. Paris: Librairie Hachette, 1965. Примеч. авт. (обратно)105
Earl Bessborough, Lady Bessborough and Her Circle. London, 1940. Примеч. авт. (обратно)106
Pumpernickel по-немецки означает «очень черный и неудобоваримый хлеб». Примеч. авт. (обратно)107
Как читатель понимает, речь идет об интересах династии Ваза. Примеч. авт. Династия Ваза правила в Швеции с 1523 года, когда Швеция освободилась от датского владычества. В 1810 году наследником шведского престола был избран наполеоновский маршал Жан Батист Бернадот, основавший новую династию. (обратно)108
Weil. Op. cit. Vol. II. P. 555, note 2368. Примеч. авт. (обратно)109
Weil. Op. cit. Vol. I. P. 674, rapport 1050. Примеч. авт. (обратно)110
Journals and Correspondences of Miss Berry. London, 1865. Примеч. авт. (обратно)111
The Croker Papers, London, 1884. Примеч. авт. (обратно)112
Le Congrès de Vienne. Paris: Hachette, 1945. Примеч. авт. (обратно)113
Damals in Wien. Wien, 1956. P. 53. Примеч. авт. (обратно)114
Weil. Op. cit. Vol. I. Note 881, 23 novembre 1914. (обратно)115
Места, отмеченные многоточием, в рукописи письма неразборчивы. Примеч. авт. (обратно)116
Le Congrès de Vienne. Paris, 1945. Примеч. авт. (обратно)117
Johann Strauss und das neunzehnte Jahrhundert. Amsterdam, 1937. Les Strauss et l’Histoire de la Valse. Paris: Correa, 1955. (обратно)118
Коло — хороводный танец у балканских горцев. Примеч. пер. (обратно)119
Полное название пьесы: «Una cosa гага, ossia bellezza е onesta» («Редкая вещь, или же Честность и красота»). Став придворным капельмейстером в Санкт-Петербурге в 1790 г., Мартин-и-Солер ставит эту свою самую популярную оперу на русском языке. Императрица Екатерина II написала либретто к другой его опере «Горе-богатырь Косометович». Примеч. ред. (обратно)120
Damals in Wien. Wien: Forum Verlag. (обратно)121
Описание этого см. в: Jacob Н. Е. Les Strauss et l'Histoire de la Valse. Friedrich Reichsl. Wien zur Biedermeierzeit. (обратно)122
Laube Н. Reisenovellen. (обратно)123
Jacob Н. Е. Les Strauss et l’Histoire de la Valse. (обратно)124
Jacob Н. Е. Les Strauss et l’Histoire de la Valse. (обратно)125
Kunst in Volk. Wien, 1952. P. 270. (обратно)126
В филологической науке давно утвердилось мнение, что в австрийской литературе, в отличие от австрийской музыки, романтизм не смог развиться, о чем говорит и сам автор в предыдущем абзаце. Ленау является единственным крупным представителем этого направления. Примеч. ред. (обратно)127
Как раз в последние годы в Австрии начался взрыв интереса к Бетти Паоли и было выпущено одновременно несколько монографий, посвященных ее творчеству. Примеч. ред. (обратно)128
Грильпарцера и Штифтера вряд ли можно однозначно отнести к романтикам, поскольку они стояли у истоков формирования австрийской национальной литературы и скорее сопоставимы с представителями немецкого классического стиля Гёте и Шиллером. Примеч. ред. (обратно)129
Каленберг — одна из двух гор (вторая — Леопольдсберг), на которых расположился Венский лес. Примеч. ред. (обратно)130
Карл Шпицвег (1808–1885) — знаменитый баварский художник эпохи бидермайера; рисовал в основном чудаков, попавших в комическую ситуацию и вызывавших одновременно смех и симпатию, близок австрийским художникам своей сердечностью и легким юмором. Примеч. ред. (обратно)131
Un Habsbourg revolutionnaire: Joseph II, par Francois Fejt. Paris: Plon, 1953. (обратно)132
Mayer. Wien in Zeitalter Napoleons. Wien, 1940. P. 112. (обратно)133
F. Malcher. Erzherzog Karl von Österreich. «Ausgewälte Schriften», Wien, 1894. V. 504. (обратно)134
Kollowrat, note 03 II, StR 602. Hofkanzlei, 02, 3 1069. (обратно)135
Fleischke 03 XII 9 4646. Konsumextrakt 1809. Zinzendorf Handschr. 166, hage 493. Josef Karl Mayer. Op. cit. P. 134. (обратно)136
Wokjsgruber С. Hohenwart Graz, 1912. Р. 294. (обратно)137
Histoire de Vienne. P. 342. (обратно)138
Игнац Чапка — в 1838–1848 гг. бургомистр Вены. (обратно)139
(обратно)
Комментарии
1
Слово «метеки» происходит от греческого «metoikos» — переселенец. Такие иноземные поселенцы в Древних Афинах платили особую подать и пользовались покровительством местных законов, но не имели ни гражданских, ни политических прав. (обратно)2
Барон Жорж Эжен Осман (1809–1882) перестраивал Париж при Наполеоне III. Суть перестройки была в основном та же, что и в Вене: сносились старые дома, целые кварталы узких средневековых улочек, прорубались широкие магистрали. Эта перестройка полностью изменила облик французской столицы. Подобно тому как в Вене были снесены дома вокруг собора Св. Стефана, в Париже был освобожден для созерцания фасад собора Парижской Богоматери. (обратно)3
Для удобства читателей приводим годы правления императоров Священной Римской империи и австрийских императоров, упомянутых в книге:Священная Римская империя: Франц I 1745-1765 Иосиф II 1765-1790 Леопольд II 1790— 1792 Франц II 1792-1806
Австрийская империя: Франц I 1804-1835 Фердинанд I 1835–1848 (отречение) Франц-Иосиф I 1848—1916 Император Священной Римской империи Франц II стал после упразднения этого института императором Австрии под именем Франца I. (обратно)

Последние комментарии
1 день 20 часов назад
2 дней 1 час назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 6 часов назад