Пламя над Персеполем [Мортимер Уилер] (fb2) читать онлайн
- Пламя над Персеполем (пер. Г. Полева, ...) (и.с. По следам исчезнувших культур Востока) 4.1 Мб, 137с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Мортимер Уилер
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Мортимер Уилер Пламя над Персеполем Поворотный пункт истории
Б. Я. Ставиский. Предисловие
Долгая, насчитывающая многие тысячелетия история человечества знает немало переломных периодов, когда в результате быстрой перемены хозяйственных, социальных или политических условий резко менялись культура и образ и образ жизни значительной части населения планеты и на обширных пространствах возникали своеобразные историко-культурные общности. Одним из таких переломных периодов в древней истории Старого Света была эпоха эллинизма (конец IV–I вв. до н. э.), характерной особенностью которой было возникновение эллинистического мира, простиравшегося от Сицилии и Македонии до среднеазиатского Междуречья и Северной Индии. Конечно, каждая из древних стран и областей, включенных в этот мир, — будь то материковая Греция, Сирия или Египет, Месопотамия, Средняя Азия или области в долине Инда — обладала своими специфическими особенностями. Но искусство всех этих областей в значительной мере опиралось на эллинские традиции, а греческая речь в ту пору звучала не только и древних центрах Эллады, но и в новых столицах эллинистических царств — Александрии в Египте и Антиохии в Сирии и во владениях греческих государей Бактрии и Индии на берегах Амударьи и индийских рек. Эти-то черты общности в культуре и искусстве и позволяли древним авторам и современным исследователям говорить об эллинистическом мире. Толчком к возникновению этого мира был поистине фантастический поход небольшой горстки греко-македонских воинов через необозримые просторы — Малую Азию, восточное побережье Средиземного моря и Египет, Месопотамию и Иран, земли современного Афганистана, Средней Азии и Пакистана. Этот военный поход, осуществленный под руководством македонского царя Александра, продолжался менее десяти лет. Однако его история, последствия и сама личность молодого предводителя союзных эллинских отрядов, ставшего государем огромной, не виданной дотоле «мировой империи», вот уже более двух тысячелетий влекут к себе не только историков и археологов, но и широкие круги мировой общественности. Об Александре Македонском и его походе в глубь Азии написано множество научных исследований, популярных работ и художественных произведений. Поиску следов Александра в Азин, историческому фону и историко-культурным последствиям его походу посвящена я небольшая популярная книга М. Уилера «Пламя над Персеполем». Она написана крупным современным ученым сэром Робертом Эриком Мортимером Уилером — одним из старейших археологов Англии. Мортимер Уилер (родился в 1890 г.) — член многих британских и зарубежных научных обществ. Участник Первой мировой войны, Мортимер Уилер в сороковые годы вновь идет в армию (хотя к тому времени ему уже было за пятьдесят): в Северной Африке он сражается против фашизма. Человек явно консервативных взглядов в политике, с грустью вспоминающий Уинстона Черчилля и величие Британской империи, Мортимер Уилер своей научной деятельностью во многом способствовал прогрессу исторической науки и археологии в ставших на путь независимого развития странах Индостанского субконтинента — Индии и Пакистане. Археологическая деятельность М. Уилера началась в 1913 г., когда он был зачислен в штат английской Королевской комиссии по историческим памятникам, а первые самостоятельные раскопки осуществил (в Англии же) по возвращении с фронта в 1917 г. Долгие годы М. Уилер работает в основном в области археологии римских провинций, и прежде всего римской Британии. Углубленные занятия М. Уилера восточной археологией начинаются после того, как в 1914 г. он занимает пост генерального директора Археологической службы Индии. Английский ученый принимает активное участие в изучении древнеиндийской цивилизации, все внимательнее присматривается к памятникам знаменитого гандхарского искусства, органически сочетавшего элементы античных и индийских традиций. Интересы М. Уилера в эти годы связаны в основном с долиной Инда. И когда в 1947 г. на месте бывшей «жемчужины британской короны» образуются две завоевавшие политическую независимость страны, М. Уилер остается работать в Пакистане, к которому отошла территория этой долины, совмещая до 1950 г. пост консультанта пакистанского правительства по вопросам археологии со званием профессора археологии римских провинций в Лондонском университете. Археологические памятники и проблемы истории Индии последних веков до нашей эры и первых веков нашей эры прочно входят в круг его научных интересов. М. Уилер включается в дискуссию о хронологии и происхождении гандхарского искусства, ведет раскопки памятников этого периода в Пакистане, рассматривает в своей известной книге «Рим за границами империи» («Rome beyond the Imperial Frontiers», Oxford, 1954) вопросы культурных взаимоотношений Рима с Индией и другими областями и странами той эпохи. К его мнению прислушиваются все ученые, изучающие проблемы эллинизма на Востоке и вопросы культурных связей могущественной, но все еще слабо изученной (а потому и загадочной) Кушанской державы, культура и искусство которой многом продолжают традиции эллинского и восточно-эллинистического мира. Небольшая, рассчитанная на широкий круг читателей книга М. Уилера «Пламя над Персеполем» четко отражает взгляды этого крупного исследователя на одну из наиболее важных, интересных и во многом спорных проблем древней истории. Однако значение этой книги заключается не только в изложении взглядов М. Уилера на историческую роль Александра Македонского и проблему восточного эллинизма (взглядов, с которыми к тому же советские ученые не всегда могут согласиться). Автор ее знакомит читателей с археологическими находками и открытиями (в том числе с самыми новыми), связанными с «великим походом» Александра и историко-культурными последствиями этого похода. В таком подходе к рассматриваемым вопросам и состоит, на мой взгляд, особая привлекательность книги М. Уилера для наших читателей. Действительно, в популярной литературе, посвященной Александру Македонскому и его походам, нет книги, которая вводила бы читателя в круг вещественных свидетельств этого похода и, главное, его последствий, ныне ставших известными археологической науке. Более того, даже в специальной научной литературе эти свидетельства, как правило, использовались крайне недостаточно, ярким примером чего могут служить труды другого выдающегося английского ученого — сэра В. В. Тарна, с которым М. Уилер многократно полемизирует. В ряде случаев нельзя не согласиться с упрёкам М. Уилера: опираясь в основном на сведения письменных источников и на данные нумизматики, В. В. Тарн, бывало, высказывал весьма субъективные суждения о тех или иных деятелях и событиях эллинистической эпохи и почти всегда слабо учитывал достижения археологии восточного эллинизма. Так что иронические высказывания М. Уилера далеко не беспочвенны, хотя и не умаляют заслуг. В. Тарна в изучении эпохи эллинизма. Зато некоторые весьма спорные параллели из современной истории, которые иногда приводит М. Уилер на страницах своей книги, очень поверхностны, а то и просто наивны. Отсылая любознательного читателя к примечаниям, в которых известный советский специалист по истории и культуре восточного эллинизма Г. А. Кошеленко комментирует отдельные неясные, спорные или неточные положения и высказывания М. Уилера, отмечу лишь поразительную неосведомленность автора книги «Пламя над Персеполем» в советской археологии Средней Азии. В этом отношении археолог М. Уилер ничем не отличается от историка В. В. Тарна. Автор книги «Пламя над Персеполем» знает понаслышке (по-видимому, со слов наших общих знакомых — археологов или востоковедов) лишь о раскопках в Термезе, регулярно проводимых мною с 1961 г., отмечая при этом, что их итоги «пока что малоизвестны». Между тем открытия советских археологов в республиках Средней Азии давно уже нашли себе отражение не только в недоступных М. Уилеру (из-за незнания русского языка) советских изданиях, но и в индийской, американской и западноевропейской археологической и востоковедной литературе. Знание этих открытий помогло бы М. Уилеру дополнить его книгу новым, свежим материалом и предостерегло бы его от ошибочных высказываний о Средней Азии и ее культуре при Ахеменидах, во время походов Александра, в эпоху эллинизма и в кушанский период. Работами пионеров научного археологического изучения Средней Азии в 30-40-х годах — участников экспедиций С. П. Толстова и А. Н. Бернштама, А. Ю. Якубовского и М. Н. Массона, В. А. Шишкина и А. И. Тереножкина, а в последующие десятилетия и трудами их учеников и преемников — открыты следы высоких древнейших среднеазиатских цивилизаций, изучены многочисленные памятники древности, включая существовавшие уже долгий срок до походов Александра огромные города Мерв и Смараканда (Самарканд), целые оазисы и отдельные поселения ахеменидской поры. Среди городищ, крепостей и более мелких памятников эпохи эллинизма, кушанского периода и раннего — домусульманского (V–VIII вв. н. э.) — средневековья многие имеют непосредственное отношение к вопросам, рассматриваемым в книге М. Уилера. Так, например, нельзя не упомянуть раскопки экспедицией М. Е. Массона парфянского городища Ниса (возле Ашхабада, на юге Туркменистана). В конце 40-х годов здесь были открыты монументальные храмы и другие постройки, в архитектуре и убранстве которых четко проступают следы эллинистических традиций. В Нисе были найдены первоклассные каменные статуи, металлические фигурки и иные изделия эллинистических мастеров, а также около 80 крупных роговидных сосудов-ритонов из слоновой кости с резными изображениями, изготовленных, скорее всего, в Гандхаре или близлежащих к ней областях. Все эти находки особенно ярко свидетельствуют о пристрастии парфянской верхушки и восточно-парфянской знати к эллинистической культуре и искусству. Интересно отметить также недавнее открытие в Южном Таджикистане, к северу от греко-бактрийского городища Ай-Ханум (ему М. Уилер уделяет немало внимания), как бы уменьшенной реплики этому городищу, — поселения Саксанохур с остатками каменных колонн и капителей коринфского типа. Не менее значительны открытия и находки на юге Узбекской ССР. В начале 60-х годов здесь, в Халчаяне (между Термезом и Душанбе), Г. А. Пугаченковой раскопана небольшая парадная постройка раннекушанской поры, богато украшенная стенными росписями и превосходной глиняной скульптурой, свидетельствующей, в частности, о творческом усвоении стилистических приемов античной скульптуры. Еще в 1933 г. неподалеку от Термеза, в Айртаме, были найдены знаменитые каменные рельефы, близкие лучшим произведениям гандхарского искусства. В Термезе, на холме Кара-тепе, открыты остатки крупною буддийского центра кушанского периода с пещерными и наземными храмами, каменной и гипсовой скульптурой и стенными росписями. Все эти находки проливают новый свет на искусство кушанской Бактрии и позволяют по-новому подходить к решению вопроса о сложении синкретического искусства Кушанской державы в целом. Для характеристики культуры этой державы и среднеазиатско-индийских связей того периода важны находки на Кара-тепе индийских и местных — бактрийских (сходных с описанными М. Уилером сурхкотальскими) надписей. О том, сколь широко и глубоко были усвоены в Средней Аши эллинистические (и кушанские) культурные и художественные традиции, свидетельствуют раскопанные советскими археологами дворец, хорезмийских царей III–IV вв. и. э. в Топрак-кале с монументальной скульптурой и живописью и стенные росписи VII–VIII вв. в Варахше (возле Бухары), Самарканде и Пенджикенте. Жаль также, что М. Уилер не использовал в своей работе хранящегося в Британском музее знаменитого Амударьинского клада, сокровищницы бактрийского аристократа или аристократического рода V–IV вв. до н. э. Этот клад, найденный в 1877 г. на юге современного Таджикистана, включает наряду с драгоценными сосудами и украшениями, выполненными и древневосточном, персидском и скифском («зверином») стилях, изделия греческих мастеров и ярко демонстрирует влияние эллинского искусства на художественные вкусы не только обитателей дворцов Персеполя, но и восточноиранской (в частности, среднеазиатской) знати. Но не будем горевать о том, чего в книге Уилера нет. Поблагодарим ее автора за богатые и интересные сведения, с которыми он нас знакомит. Я убежден, что оригинальная, написанная просто и доходчиво, заставляющая задуматься книга выдающегося английского археолога будет интересна и для наших специалистов — археологов, востоковедов, историков и искусствоведов, и для учащейся молодежи, и для всех тех, кто интересуется историей и историей культуры народов Востока и всего человечества.Москва, август 1971 г.Б. Ставиский
Предисловие автора
Девять героев, почитаемых в средние века Достойнейшими, нередко оказывались оборотнями. Мода или фантазия подменяла Готфрида Бульонского Гаем Варвикским, и Шекспир позволял себе вводить в их круг Помпея и Геркулеса, которых не было в каталоге Кэкстона. Лишь Александр Великий не поддавался никаким превращениям. Помню, много лет назад я видел живописное изображение этой Девятки, открытое на облупившейся стене дома эпохи Тюдоров в Эмершеме (графство Букингемшир): Юлий Цезарь с пикой наперевес и в головном уборе, более всего напоминающем котелок, украшенный перьями; герцог Джошуа с мечом, копьем и в алом одеянии; бородатый детина, какой-нибудь местный головорез в классических доспехах, как представляли их во времена Ренессанса. В нем мы единодушно признали Александра — имя, увы, стерлось… Харлеевская рукопись XV в., сохраняемая в недрах Британского музея под номером 2259, так описывает герб Александра: «В алом тюле золотой лев, сидящий на серебряном престоле, вооруженный черною секирой». Он был любезен сердцу средних веков, да и всех прочих веков, прошедших и будущих. Быть может поэтому, когда издатели предложили мне написать небольшую популярную книгу о любом — на мой выбор — историческом событии, я обратился мыслью к этому самому человечному герою с его золотым львом и черной секирой. О такой книге я подумал еще лет двадцать назад, когда впервые очутился среди неподвластных времени колонн дворца персидского царя царей в Персеполе. И с той поры многое, о чем я размышлял, укрепило меня в этом намерении. Я стоял и смотрел на персепольские развалины, где Александр некогда восседал на престоле, который и впрямь мог быть серебряным или золотым. Здесь он оказался на половине своего великого пути как во времени, так и в пространстве. Именно здесь был центр, средоточие всего предприятия. Поверни он отсюда вспять, его спутники (или некоторые из них) одобрили бы это решение, но история мировой культуры выглядела бы теперь несравненно беднее. Он не повернул. От Персеполя он пронесся через всю Центральную Азию, как пожар в джунглях, и на пепелищах, которые оставались за ним, возникали ростки новой цивилизации. От Персеполя до Пенджаба пусть будет ему гордой эпитафией — здесь прошел Александр.
И все же как трудно обнаружить его следы! Он живет в исторической литературе, пламенеющая легенда о нем не меркнет в веках, но вещественные доказательства его пребывания на равнинах Азии ускользают от нас. Словно неосязаемая мысль, словно могучий дух явился он и исчез. Что до осязаемого, тут мы знаем больше об Агамемноне, чем об Александре. За легионами Юлия Цезаря археология кое-как поспевает, но мы не в силах догнать Буцефала. Это обескураживает археолога и вместе с тем стимулирует его поиски, направленные на материальное. Задача моей книги — показать, хотя бы в общих чертах, как встречают археологи брошенный им вызов.
Александр Великий. Как он выглядел? По крайней мере об этом у нас есть некоторое представление. До нас дошли копии скульптурных портретов Александра работы прославленного Лисиппа[1] и художников, равных ему. Эти портреты убедительны (см. рис. 1). Округлое юношеское лицо, голова на крепкой шее слегка наклонена (привычка или незначительный дефект), тяжелый круглый подбородок, маленький рот, глубоко посаженные глаза, взгляд которых направлен несколько вверх (особенность, типичная для портретных изображений его эпохи, возможно потому, что эпоху эту формировал он сам), непокорные волосы сбегают на плечи, как у нынешних авангардистов. В облике его сочетаются воля, ум, отрешенность. Таков Александр.
Но когда в краях, где он побывал, мы пытаемся обнаружить вещественные доказательства его деяний, результаты оказываются поистине жалкими. Он совершал свои подвиги в местностях отдаленных и малодоступных. Быть может, взятая им скальная крепость Аорн и в самом деле находилась в горах на границе Индии, как утверждает отважный Оурел Стейн. Те, кто решится следовать по его (и Александра) стопам, смогут на месте вообразить события, некогда происходившие здесь. А менее решительные, конечно, оценят новые и столь долгожданные открытия археологии. Недавно, при прямом содействии короля Афганистана, мои друзья из Французской археологической миссии, работающей здесь с 1922 г., обнаружили развалины эллинистического города на берегу Окса и приступили к его раскопкам. Так сбылась давняя и заветная мечта французских археологов. Предполагается, что это одна из Александровых Александрий, и предположение, возможно, подтвердится еще до того, как моя книга увидит свет[2]. А пока я воспользуюсь случаем рассказать на следующих страницах об этой работе и вероятных ее результатах, ибо сведения, которые обещают дать эти раскопки — первые успешные раскопки города, заложенного греками в Бактрии, — могут оказаться подлинным переворотом в эллинистической археологии.
Другое, более скромное открытие порадовало меня и древней Пушкалавати, столице Гандхары, которую я копал в 1958 г. Это были (как я полагаю) вал и ров, опоясавшие город в 327 г. до н. э., когда к нему подступили войска Александра. Прошел целый месяц, прежде чем завоеватели смогли взять город. Надежность его креплений и мужество гарнизона, конечно, достойны этого памятника, который сохранила для нас земля. Об этом эпизоде будет также сказано подробнее в дальнейшем.
Не следует, однако, преувеличивать значение археологических фактов, прямо связанных с военными действиями; они только обещают возможность новых открытий. Мы узнаем несравненно больше, если обратимся к отдаленным последствиям похода. Именно эти отдаленные последствия сообщают всему предприятию Александра непреходящее значение и столь многообразный исторический смысл. В несколько месяцев полководец овладел горным Афганистаном и равнинами Пенджаба. Позади оставались основанные им города, где многие поколения после него повторяли на хорошем эллинистическом греческом языке[3] слова старой дельфийской мудрости и выражали новые идеи индийского гуманизма, что и показали недавние открытия. Греческие и несомненно полугреческие правители, преемники Александра в этих пустынных краях, оставили нам замечательные монеты — лучшее из того, что когда-либо создавалось эллинистическими или другими чеканщиками. Эллинизм этот не был шатким прибежищем горсти греческих экспатриотов или же их эллинизируемых вассалов. Сюда приходили волна за волной кочевники из Центральной Азии и оказывались в плену эллинистического мировоззрения. Они строили города греческой планировки, перенимали более или менее успешно искусство греческих художников, я наиболее восприимчивые из этих азийских народов четыре века спустя приспособили греческий алфавит к своим иранским языкам и стали покровителями нового, сложного искусства, в котором проступили черты прежнего эллинизма, оживленные и кое-где измененные под влиянием различных источников.
Одновременно с этими дальними отзвуками персепольской катастрофы и тоже в качестве ее косвенного результата происходили не менее важные, хотя и не столь катастрофичные событии, оставившие заметный след на равнинах Индии и в центре азиатского материка. Я говорю о рассеянии, диаспоре персидских мастеров, из коих многие обосновались со временем в империи Маурьев, империи-продолжательнице, где им суждено было участвовать в создании того, что оказалось наиболее устойчивым и жизнеспособным в индийской архитектуре. Бесполезно гадать, нашли бы дорогу в Индию персидские художники или нет, если бы Александр не разгромил державу Ахеменидов. Связь между тем и другим очевидна, хотя, разумеется, это далеко не прямая, но разнообразно опосредованная вторичная связь. Возможно, это просто удача Александра (неудач он не знал), что армии его занимали одну часть азиатского материка и то именно время, когда другая часть переживала политический подъем и, не имея собственных архитектурных традиций, готова была принять чужие. Ахеменидский Персеполь превратился в почерневшие руины, но за ним поднялась маурианская Паталипутра.
Говоря коротко, на пути от Персеполя до реки Беас в Пенджабе, где Александр поставил в честь олимпийских богов знаменитые и все еще никем не найденные двенадцать алтарей, военная его авантюра постепенно приобретала характер грандиозного исторического деяния, непревзойденного в последующие века. До Персеполя он продвигался в тесном круге древних или развивающихся цивилизации. Он был тогда завоевателем, этот Македонец, честолюбивым и победоносным. Созидателем он не был. Но оказавшись восточнее Персеполя в неведомых азиатских землях, он обрел черты, значение которых пережило его самого. Будучи «эллинизированным варваром», то есть не греком, он теперь чувствовал себя пионером цивилизации, понятой совершенно по-новому, цивилизации, основанной не на привычном разделении на эллинов и не эллинов, а на универсальной homonoia[4] или равенстве положений и миросозерцания. В I в. до н. э. Диодор Сицилийский, пользуясь, вероятно, сведениями Страбона, Плутарха и Арриана, цитировал меморандум Александра, из которого явствует, что мышление царя становилось все более интернационалистичным. В этом Александр далеко опередил свое время. Мы не знаем, передал ли Диодор текст меморандума буквально, во всяком случае звучит он достаточно правдиво. Там сказано, что Александр задумал построить города со смешанным населением, переместить целые народы Азии в Европу, то есть в Грецию, и обратно, из Европы в Азию, объединив таким образом весь континент в дружбе и родстве, которые укрепились бы с помощью браков и хозяйственных связей. Вот отчего Тарн считает Александра Македонского первым и подлинным интернационалистом. Доказательств тому немного, и все же я готов присоединиться к мнению Тарна. Но примем мы его мнение или нет, археологический материал, накопленный в последние годы, прямо указывает на сближение Востока и Запада, что бесспорно является результатом похода Александра. Этот новый материал будет изложен на страницах, следующих далее.
Во всяком случае можно утверждать, что гибель Персеполя имеет определяющее значение не только для частных вопросов евразийской истории и археологии, но и для более широкого круга проблем истории и археологии идей.
Быть может поэтому, когда издатели предложили мне написать небольшую популярную книгу о любом — на мой выбор — историческом событии, я обратился мыслью к этому самому человечному герою с его золотым львом и черной секирой. О такой книге я подумал еще лет двадцать назад, когда впервые очутился среди неподвластных времени колонн дворца персидского царя царей в Персеполе. И с той поры многое, о чем я размышлял, укрепило меня в этом намерении. Я стоял и смотрел на персепольские развалины, где Александр некогда восседал на престоле, который и впрямь мог быть серебряным или золотым. Здесь он оказался на половине своего великого пути как во времени, так и в пространстве. Именно здесь был центр, средоточие всего предприятия. Поверни он отсюда вспять, его спутники (или некоторые из них) одобрили бы это решение, но история мировой культуры выглядела бы теперь несравненно беднее. Он не повернул. От Персеполя он пронесся через всю Центральную Азию, как пожар в джунглях, и на пепелищах, которые оставались за ним, возникали ростки новой цивилизации. От Персеполя до Пенджаба пусть будет ему гордой эпитафией — здесь прошел Александр.
И все же как трудно обнаружить его следы! Он живет в исторической литературе, пламенеющая легенда о нем не меркнет в веках, но вещественные доказательства его пребывания на равнинах Азии ускользают от нас. Словно неосязаемая мысль, словно могучий дух явился он и исчез. Что до осязаемого, тут мы знаем больше об Агамемноне, чем об Александре. За легионами Юлия Цезаря археология кое-как поспевает, но мы не в силах догнать Буцефала. Это обескураживает археолога и вместе с тем стимулирует его поиски, направленные на материальное. Задача моей книги — показать, хотя бы в общих чертах, как встречают археологи брошенный им вызов.
Александр Великий. Как он выглядел? По крайней мере об этом у нас есть некоторое представление. До нас дошли копии скульптурных портретов Александра работы прославленного Лисиппа[1] и художников, равных ему. Эти портреты убедительны (см. рис. 1). Округлое юношеское лицо, голова на крепкой шее слегка наклонена (привычка или незначительный дефект), тяжелый круглый подбородок, маленький рот, глубоко посаженные глаза, взгляд которых направлен несколько вверх (особенность, типичная для портретных изображений его эпохи, возможно потому, что эпоху эту формировал он сам), непокорные волосы сбегают на плечи, как у нынешних авангардистов. В облике его сочетаются воля, ум, отрешенность. Таков Александр.
Но когда в краях, где он побывал, мы пытаемся обнаружить вещественные доказательства его деяний, результаты оказываются поистине жалкими. Он совершал свои подвиги в местностях отдаленных и малодоступных. Быть может, взятая им скальная крепость Аорн и в самом деле находилась в горах на границе Индии, как утверждает отважный Оурел Стейн. Те, кто решится следовать по его (и Александра) стопам, смогут на месте вообразить события, некогда происходившие здесь. А менее решительные, конечно, оценят новые и столь долгожданные открытия археологии. Недавно, при прямом содействии короля Афганистана, мои друзья из Французской археологической миссии, работающей здесь с 1922 г., обнаружили развалины эллинистического города на берегу Окса и приступили к его раскопкам. Так сбылась давняя и заветная мечта французских археологов. Предполагается, что это одна из Александровых Александрий, и предположение, возможно, подтвердится еще до того, как моя книга увидит свет[2]. А пока я воспользуюсь случаем рассказать на следующих страницах об этой работе и вероятных ее результатах, ибо сведения, которые обещают дать эти раскопки — первые успешные раскопки города, заложенного греками в Бактрии, — могут оказаться подлинным переворотом в эллинистической археологии.
Другое, более скромное открытие порадовало меня и древней Пушкалавати, столице Гандхары, которую я копал в 1958 г. Это были (как я полагаю) вал и ров, опоясавшие город в 327 г. до н. э., когда к нему подступили войска Александра. Прошел целый месяц, прежде чем завоеватели смогли взять город. Надежность его креплений и мужество гарнизона, конечно, достойны этого памятника, который сохранила для нас земля. Об этом эпизоде будет также сказано подробнее в дальнейшем.
Не следует, однако, преувеличивать значение археологических фактов, прямо связанных с военными действиями; они только обещают возможность новых открытий. Мы узнаем несравненно больше, если обратимся к отдаленным последствиям похода. Именно эти отдаленные последствия сообщают всему предприятию Александра непреходящее значение и столь многообразный исторический смысл. В несколько месяцев полководец овладел горным Афганистаном и равнинами Пенджаба. Позади оставались основанные им города, где многие поколения после него повторяли на хорошем эллинистическом греческом языке[3] слова старой дельфийской мудрости и выражали новые идеи индийского гуманизма, что и показали недавние открытия. Греческие и несомненно полугреческие правители, преемники Александра в этих пустынных краях, оставили нам замечательные монеты — лучшее из того, что когда-либо создавалось эллинистическими или другими чеканщиками. Эллинизм этот не был шатким прибежищем горсти греческих экспатриотов или же их эллинизируемых вассалов. Сюда приходили волна за волной кочевники из Центральной Азии и оказывались в плену эллинистического мировоззрения. Они строили города греческой планировки, перенимали более или менее успешно искусство греческих художников, я наиболее восприимчивые из этих азийских народов четыре века спустя приспособили греческий алфавит к своим иранским языкам и стали покровителями нового, сложного искусства, в котором проступили черты прежнего эллинизма, оживленные и кое-где измененные под влиянием различных источников.
Одновременно с этими дальними отзвуками персепольской катастрофы и тоже в качестве ее косвенного результата происходили не менее важные, хотя и не столь катастрофичные событии, оставившие заметный след на равнинах Индии и в центре азиатского материка. Я говорю о рассеянии, диаспоре персидских мастеров, из коих многие обосновались со временем в империи Маурьев, империи-продолжательнице, где им суждено было участвовать в создании того, что оказалось наиболее устойчивым и жизнеспособным в индийской архитектуре. Бесполезно гадать, нашли бы дорогу в Индию персидские художники или нет, если бы Александр не разгромил державу Ахеменидов. Связь между тем и другим очевидна, хотя, разумеется, это далеко не прямая, но разнообразно опосредованная вторичная связь. Возможно, это просто удача Александра (неудач он не знал), что армии его занимали одну часть азиатского материка и то именно время, когда другая часть переживала политический подъем и, не имея собственных архитектурных традиций, готова была принять чужие. Ахеменидский Персеполь превратился в почерневшие руины, но за ним поднялась маурианская Паталипутра.
Говоря коротко, на пути от Персеполя до реки Беас в Пенджабе, где Александр поставил в честь олимпийских богов знаменитые и все еще никем не найденные двенадцать алтарей, военная его авантюра постепенно приобретала характер грандиозного исторического деяния, непревзойденного в последующие века. До Персеполя он продвигался в тесном круге древних или развивающихся цивилизации. Он был тогда завоевателем, этот Македонец, честолюбивым и победоносным. Созидателем он не был. Но оказавшись восточнее Персеполя в неведомых азиатских землях, он обрел черты, значение которых пережило его самого. Будучи «эллинизированным варваром», то есть не греком, он теперь чувствовал себя пионером цивилизации, понятой совершенно по-новому, цивилизации, основанной не на привычном разделении на эллинов и не эллинов, а на универсальной homonoia[4] или равенстве положений и миросозерцания. В I в. до н. э. Диодор Сицилийский, пользуясь, вероятно, сведениями Страбона, Плутарха и Арриана, цитировал меморандум Александра, из которого явствует, что мышление царя становилось все более интернационалистичным. В этом Александр далеко опередил свое время. Мы не знаем, передал ли Диодор текст меморандума буквально, во всяком случае звучит он достаточно правдиво. Там сказано, что Александр задумал построить города со смешанным населением, переместить целые народы Азии в Европу, то есть в Грецию, и обратно, из Европы в Азию, объединив таким образом весь континент в дружбе и родстве, которые укрепились бы с помощью браков и хозяйственных связей. Вот отчего Тарн считает Александра Македонского первым и подлинным интернационалистом. Доказательств тому немного, и все же я готов присоединиться к мнению Тарна. Но примем мы его мнение или нет, археологический материал, накопленный в последние годы, прямо указывает на сближение Востока и Запада, что бесспорно является результатом похода Александра. Этот новый материал будет изложен на страницах, следующих далее.
Во всяком случае можно утверждать, что гибель Персеполя имеет определяющее значение не только для частных вопросов евразийской истории и археологии, но и для более широкого круга проблем истории и археологии идей.
Мортимер Уилер
Пожар
Осень увядала, превращаясь в зиму 331 г. до н. э., когда Александр Великий в зрелом возрасте двадцати пяти лет вошел в Персеполь, столицу и резиденцию персидского царя царей. Как нам известно, недоверие и гнев владели Александром. Далеко завел он свою разношерстную армию, которая то терпела голод и жажду, то предавалась излишествам. Главный его враг бежал в труднодоступную горную местность и там готовил для него новые испытания. Одна только служба тыла с ее вечной путаницей поставок, наборов, резервов могла бы смутить менее энергичный ум; по некоторым замечаниям историков, мы знаем, что этой стороной дела Александр был постоянно озабочен. Кроме того, на пути в Персеполь некий эпизод безмерно возмутил его, всегда готового прийти в ярость. Он переправился через Араке и вступил в Персиду, область, столицей которой был Персеполь. Тут взору его представилось зрелище поразительное и страшное. На дороге стояла толпа, около восьмисот мужчин, большинство в преклонных летах. Они протягивали зеленые ветви в знак приветствия и мольбы о помощи. Как выяснилось, это были греки, искусные мастера и умелые подмастерья. Некогда персидские цари увлекли их коварством или силой на чужбину, что само по себе не было необычным. Еще за полтора века до того греческие художники работали в Персеполе; возможно, кто-то из них между 500 и 490 гг. до н. э. нацарапал в свободную минуту профили неизвестных бородачей на каменном, отполированном до блеска башмаке статуи Дария (рис. 2). И позже, в римские времена, мастера из Греции — яваны или ионийцы — работали всюду на Востоке. Но те, кто приблизился тогда к Александру, выглядели так, что на глаза его навернулись слезы. Все эти люди были искалечены с жестокой расчетливостью. Каждый лишен был той части тела, которая оказывалась ненужной для его ремесла. Одним отрубили кисть руки, другим ступни ног, уши, носы. Побег для них, таким образом, становился невозможным и даже нежеланным.
Несчастные просили Александра помочь им. Он призвал их старейшин, которых принял милостиво и почтительно, что вообще ему было свойственно, и обещал отправить всех на родину. Собравшись вместе и посоветовавшись, они решили, что домой им лучше не возвращаться. «Вернувшись на родину, они рассеются маленькими кучками и, бродя по городам, встретят насмешки над жестокой обидой, которую нанесла им судьба; живя вместе, терпя одинаковое несчастье, они будут утешаться в своей беде такой же бедой соседа. При следующей встрече с Александром они, объяснив свое решение, попросили его помочь им в домашнем устройстве». Александр (несомненно, с большим облегчением) сказал, что решили они разумно, и велел дать им по 3000 драхм, пять одежд мужских и пять женских, по две упряжки волов, пятьдесят овец и пятьдесят мер пшеницы каждому. Он освободил их от всех царских налогов и приказал чиновникам смотреть, чтобы никто их не обижал. Эта трогательная история была рассказана Диодором Сицилийским, Квинтом Курцием Руфом и Юстином.
Инцидент подобного рода не мог способствовать умиротворению Александра, который и без того считал Персеполь «самым ненавистным из городов Азии». Весь город, исключая царский дворец, он отдал своим воинам, и алчные македонцы грабили его в течение целого дня.
«А был этот город самым богатым из всех существующих под солнцем, и в домах частных лиц с давних пор было полным-полно всякого добра. Македонцы, врываясь, убивали всех мужчин и расхищали имущество, которого имелось очень много: битком было набито и всякой утвари, и драгоценностей. Унесено было много серебра, расхищено немало золота; множество роскошных одежд, выкрашенных в пурпурную краску, добытую из моря, или расшитых золотом, стали наградой победителям. Огромные, по всему миру прославленные дворцы были отданы на позор и полное уничтожение».
Он переправился через Араке и вступил в Персиду, область, столицей которой был Персеполь. Тут взору его представилось зрелище поразительное и страшное. На дороге стояла толпа, около восьмисот мужчин, большинство в преклонных летах. Они протягивали зеленые ветви в знак приветствия и мольбы о помощи. Как выяснилось, это были греки, искусные мастера и умелые подмастерья. Некогда персидские цари увлекли их коварством или силой на чужбину, что само по себе не было необычным. Еще за полтора века до того греческие художники работали в Персеполе; возможно, кто-то из них между 500 и 490 гг. до н. э. нацарапал в свободную минуту профили неизвестных бородачей на каменном, отполированном до блеска башмаке статуи Дария (рис. 2). И позже, в римские времена, мастера из Греции — яваны или ионийцы — работали всюду на Востоке. Но те, кто приблизился тогда к Александру, выглядели так, что на глаза его навернулись слезы. Все эти люди были искалечены с жестокой расчетливостью. Каждый лишен был той части тела, которая оказывалась ненужной для его ремесла. Одним отрубили кисть руки, другим ступни ног, уши, носы. Побег для них, таким образом, становился невозможным и даже нежеланным.
Несчастные просили Александра помочь им. Он призвал их старейшин, которых принял милостиво и почтительно, что вообще ему было свойственно, и обещал отправить всех на родину. Собравшись вместе и посоветовавшись, они решили, что домой им лучше не возвращаться. «Вернувшись на родину, они рассеются маленькими кучками и, бродя по городам, встретят насмешки над жестокой обидой, которую нанесла им судьба; живя вместе, терпя одинаковое несчастье, они будут утешаться в своей беде такой же бедой соседа. При следующей встрече с Александром они, объяснив свое решение, попросили его помочь им в домашнем устройстве». Александр (несомненно, с большим облегчением) сказал, что решили они разумно, и велел дать им по 3000 драхм, пять одежд мужских и пять женских, по две упряжки волов, пятьдесят овец и пятьдесят мер пшеницы каждому. Он освободил их от всех царских налогов и приказал чиновникам смотреть, чтобы никто их не обижал. Эта трогательная история была рассказана Диодором Сицилийским, Квинтом Курцием Руфом и Юстином.
Инцидент подобного рода не мог способствовать умиротворению Александра, который и без того считал Персеполь «самым ненавистным из городов Азии». Весь город, исключая царский дворец, он отдал своим воинам, и алчные македонцы грабили его в течение целого дня.
«А был этот город самым богатым из всех существующих под солнцем, и в домах частных лиц с давних пор было полным-полно всякого добра. Македонцы, врываясь, убивали всех мужчин и расхищали имущество, которого имелось очень много: битком было набито и всякой утвари, и драгоценностей. Унесено было много серебра, расхищено немало золота; множество роскошных одежд, выкрашенных в пурпурную краску, добытую из моря, или расшитых золотом, стали наградой победителям. Огромные, по всему миру прославленные дворцы были отданы на позор и полное уничтожение».
 Но самый великий среди этих дворцов был пока невредим. Еще на марше Александр получил от персепольского градоправителя (до нас дошло его имя — некто Тиридат) письмо, где обещано было сдать город без сопротивления, если Александр опередит царские войска, которые движутся на защиту Персеполя. Теперь здесь бесчинствовали победители. Александр поднялся по широкой лестнице на террасу, где стояли и стоят в виде руин до сих пор внушительные колоннады залов (рис. 3). Гидом его мог быть Тиридат. Вероятно, тогда Александр вручил ему некую награду, о которой упоминает Курций. Это, действительно, был удобный момент. Другой, более ранний историк (Диодор) пишет, что «Александр… завладел находившимися там сокровищами». Приблизительно то же говорит и почтенный Арриан. Сокровища эти накапливались со времен первого персидского царя, Кира. Казна была переполнена золотом и серебром стоимостью в 120 тыс. талантов. Часть Александр взял на текущие расходы и велел пригнать из Вавилона, Суз и Месопотамии мулов, упряжных и вьючных, а также 3 тыс. верблюдов, чтобы переправить остальную часть богатств в Сузы. Он спешил вывезти из Персеполя все ценное, словно подготавливал город к исполнению его судьбы. «Враждебно относясь к местным жителям, — пишет Диодор, — он не доверял им и решил совершенно уничтожить Персеполь».
Здесь застала Александра зима. В том краю с декабря по март то идут ливни, то выпадает густой снег — неудобное время для широкой кампании. Четыре месяца Александр отдыхал, тренировал свое пресыщенное победами войско и растрачивал понемногу свои сокровища. Праздности он не любил. Можно представить, как он охотился в холмах возле Персеполя, как приказами и личным примером старался уберечь своих офицеров от соблазнов восточной роскоши и неотделимой от нее склонности к интригам и распрям, как объезжал всю Персиду, принимая или воздавая почести, торжественно восседал под золотым балдахином царя царей среди ста колонн тронного зала — словом, привыкал быть великим восточным монархом в той мере, какую допускали суровость западного воспитания и живость его деятельного ума.
С приходом весны 330 г. до н. э. возобновились военные действия и, прежде всего, преследование бежавшего царя. Сообщали, что Дарий Третий с тридцатью тысячами персов и греческих наемников направился в Бактрию и был сейчас возле реки Окс, в местности, которую мы называем Афганским Туркестаном[5]. Там он надеялся привести свою распадающуюся армию в боевую готовность, хотя сам давно уже утратил наступательный дух. Приближался конец, грозным предвестником которого было событие, озаряющее как дымный факел мглу веков азиатской истории.
Четыре летописца походов Александра, чьи труды сохранились до нашего времени, неодинаково оценивают значение этого события. Все они писали между I в. до н. э. и II в. н. э. и, в конечном итоге, пользовались информацией, почерпнутой из заметок участников персидского похода. Поэтому основные факты, как бы ни поработала над ними фантазия людей, неоспоримы. Уходя из Персеполя, завоеватели предали огню величественный дворец. Двадцать два столетия спустя археологи, которые вели раскопки среди его руин, обнаружили многие свидетельства пожара. Выяснилось, что «весь пол главного зала покрыт слоем золы и древесного угля (кедра, как показал микроскопический анализ), иначе говоря, обугленными останками потолочных перекрытий. Херцфельд определяет толщину этого слоя в 1–3 фута и отмечает следы огня на колоннах… Тронный зал и его портик, несомненно, обрушились в результате бедствия, что, вероятно, совпало во времени с пожаром в казнохранилище по другую сторону улицы, к югу, и, возможно, с гибелью самой ападаны…», то есть колонного зала для приемов к западу от тройного зала. Эти указания я заимствую из объемистого труда Эриха Шмидта «Персеполь» (изд. Чикагского университета, 1953).
О персепольской катастрофе писал Арриан, азиатский грек, находившийся на службе у императора Адриана и умерший около 180 г. н. э. Его рассказ напоминает свежезамороженный продукт и не подвержен исторической порче. Александр, но словам Арриана, сжег дворец вопреки уговорам верного Пармениона, который «советовал ему сохранить его, между прочим, и потому, что нехорошо губить собственное имущество, а также потому, что население Азии примет его не как властителя Азии, твердо решившего удержать власть над нею, а только как человека, победоносно прошедшего по стране. Александр ответил, что он желает наказать персов за то, что, вторгшись в Элладу, они разрушили Афины и сожгли храмы; за всякое зло, причиненное эллинам, они и несут теперь ответ. По-моему, однако, Александр действовал безрассудно, и не было здесь никакого наказания древним персам».
Следовательно, сожжение Персеполя в 330 г. до н. э. Арриан считает обдуманным актом мести за сожжение афинского Акрополя и городов и храмов Аттики Ксерксом в 480 г. до н. э. По существу так оно и было, это несомненно. Походу Александра в персидскую Азию с самого начала придавали — пусть лишь в целях пропаганды — характер возмездия, уготованного правнукам тех, кто полторы сотни лет назад принес Греции столько страданий[6]. В 333 г. до н. э., после победы македонян при Иссе, на границе Киликии и Сирии, Александр четко выразил эту мысль в ответном послании царю Дарию, которое начиналось следующими весьма решительными словами: «Ваши предки вторглись в Македонию и остальную Элладу и наделали там много зла, хотя и не видели от нас никакой обиды. Я, предводитель эллинов, желая наказать персов, вступил в Азию, вызванный на то вами…»
Но бесстрастное упоминание Арриана о том, что разрушение дворца было карательной мерой, возможно, не воссоздает картину во всей полноте. Зато у других писателей историческое это событие выглядит как оперный сюжет. Так повелось со времен Диодора Сицилийского (вторая половина I в. до н. э.) и вплоть до «Пира Александра», сочиненного Драйденом к празднику св. Цецилии в 1697 г. Начнем с Диодора. «Александр, празднуя победу, принес роскошные жертвы богам и устроил для друзей богатое пиршество. Товарищи его походов щедро угощались, и чем дальше шла пирушка, тем больше пьянели, и наконец длительное безумие охватило души упившихся. Одна из присутствовавших женщин, Фаида по имени, уроженка Аттики, сказала, что из всех дел, совершенных Александром в Азии, самым прекрасным будет сожжение царского дворца; пусть он отправится веселой компанией вместе с ними, и женские руки заставят в один миг исчезнуть знаменитое сооружение персов. Слова эти, обращенные к людям молодым, которые, опьянев, преисполнились бессмысленной гордости, возымели, конечно, свое действие: кто-то закричал, что он поведет всех, и стал распоряжаться, чтобы зажгли факелы и шли отомстить за беззакония, совершенные в эллинских святынях. Его одобрили, но сказали, что совершить такое дело подобает только Александру. Царя воодушевили эти слова; все вскочили из-за стола и заявили, что они пройдут победным шествием в честь Диониса. Тут же набрали множество светильников, прихватили женщин, игравших и певших на пиру, и царь выступил в этом шествии под звуки песен, флейт и свирелей. Зачинщицей всего была гетера Фаида. Она после царя первая метнула во дворец зажженный факел; то же самое сделали и другие, и скоро дворец и все вокруг было охвачено огромным пламенем. Самое удивительное, что за кощунство, совершенное Ксерксом, царем персидским, на афинском Акрополе, отплатила той же монетой много лет спустя женщина, согражданка тех, кто был обижен еще в детстве».
Через сто с лишним лет Плутарх использовал те же источники. Однако следует привести и его описание: «Собираясь выступить против Дария, он как-то вместе с друзьями пировал и забавлялся. На пирушку к своим возлюбленным пришли и женщины, пившие вместе с остальными. Одна из них, особенно известная, Фаида, родом из Аттики, любовница Птолемея, в будущем царя Египта, умело хваля Александра в одном и подшучивая над ним в другом, опьянев, дошла до того, что сказала слово, уместное по понятиям ее сограждан, но не соответствующее ее положению. Она сказала, что за все, что она претерпела, скитаясь по Азии, она получит награду в тот день, когда сможет поиздеваться над гордыней персидских царей. И еще сладостнее было бы ей, идя веселой толпой с пирушки, поджечь дом Ксеркса, сжегшего Афины; ей самой бы хотелось на глазах царя подложить огонь: пусть пойдет молва, что женщины сильнее отомстили персам за Элладу, чем знаменитые военачальники Александра, его стратеги и навархи. Поднялись крики и аплодисменты, сотрапезники стали уговаривать и подгонять друг друга. Царь, увлеченный общим порывом, вскочил и с венком на голове и факелом в руках пошел впереди. Спутники его веселой толпой с криками окружили дворец. Остальные македонцы, узнав, в чем дело, радостно сбежались с факелами. Они надеялись, что царский дворец сожгут дотла, так как царь уже помышляет о доме и не собирается жить среди варваров. Одни говорят, что именно так и было; другие, что поступок этот не был обдуманным. Что Александр вскоре пожалел о нем и велел тушить пожар, в этом согласны все». Благодаря археологии мы теперь знаем: если Александр и одумался, то поздно.
Так писали Диодор и Плутарх. В период, который их разделяет, появился, видимо, труд Курция, во многом совпадающий с описанием Диодора и, вероятно, на нем основанный. С литературной точки зрения греческий текст Плутарха выглядит более живым и красноречивым. Плутарх был художником, рядом с ним Диодор — всего лишь компилятор. Если же отвлечься от художественных достоинств, возникает главный вопрос: имеет ли эта живописная традиция историческую ценность? Достоверна ли она?
Наш великолепный сэр Вильям Тарн решительно не верит им. «Нужно ли говорить, что нет ни слова правды в истории Фаиды. Сожжение дворца Ксеркса было деянием преднамеренным, политическим манифестом, обращенным к Азии… Александр имел обыкновение обедать со своими генералами, но предполагать, что он приглашал к трапезе их любовниц, — нелепо [?]… Что касается толпы флейтисток и пр., то у греков действительно был обычай слушать музыку после обеда, но македонцы такого обычая не знали, не говоря уже о том, что все это абсолютно не соответствует характеру Александра [??]. Упомянутые девицы порождены представлениями, согласно которым Александр был пьян постоянно… Аристобул, знавший об Александре несравненно больше, нежели любой популярный писатель, поясняет, что Александр долго не покидал пиршественного стола, однако не ради выпивки, но ради приятной беседы; одно это исключает флейтисток [???]…» Ну, и так далее, все в том же духе. Если мы хотим правды, то вынуждены будем признать, что по крайней мере в конце великого похода Александр, увы, пьянствовал с кем попало. На этот счет солиднейшие источники, которыми пользовался сам Арриан, сомнений не выказывают. Дерзкий Клитом заколот «среди общего опьянения» Александром, у которого «вошло в привычку пировать по-новому, по-варварски». В случае с Клитом он оказался «во власти двух пороков, а именно: гнева и пьянства…» В другом случае он «пьянствовал до утра», благодаря чему разрушил, сам того не ведая, заговор молодых офицеров собственной свиты. Во время суда зачинщик говорил, что «не-возможно терпеть… попойки Александра, сменяющиеся сном». Надо полагать, его обвинения были не вовсе безосновательны.
Позволю себе высказать опасение, что сэр Вильям Тарн, уединившись в Шотландии XX века, не имел случая приобрести достаточный опыт военных экспедиций, совершаемых в возрасте 26 лет вдали от дома на пространствах огромного материка в IV столетии до н. э. При всей его учености и остром уме правильно понять эпоху эллинизма ему помешало одно свойство, которое отметил проницательный Ростовцев: сэр Тарн был прежде всего английским джентльменом.
Итак, не преклоняясь перед героями, какие факты, относящиеся к событиям в Персеполе, можем мы отыскать? Обратимся к труду Клитарха Александрийского, составленному после 282 г. до н. э. и, вероятно, не намного позже, то есть примерно через сорок лет после смерти Александра. Автор этого труда не участвовал в походе, тем не менее он писал во времена, когда еще были живы ветераны персидской кампании, и в стране (Египте), где до 282 г. правил военачальник и один из первых историков Александра — Птолемей I. Труд Клитарха мог быть написан задолго до смерти египетского правителя, но не опубликован по причинам деликатного свойства, поскольку Файла была любовницей Птолемея. Правда, Клитарх не пользовался доверием у позднейших авторов. Страбон, например, в конце I в. до н. э. говорит о его лживости, а спустя век Квинтиллиан характеризует его как автора «даровитого, по не заслуживающего доверия». И все-таки, описывая узловой эпизод — сожжение Персеполя, он вряд ли осмелился бы украшать его вымыслом — ведь очевидцы этих событий еще жили. Что же он говорит? В одном из тридцати шести сохранившихся фрагментов, который цитировал в свое время Афиней, этот неисправимый коллекционер древних рукописей, Клитарх утверждает, что «Фаида была причиной поджога дворца в Персеполе». Разве этого не достаточно, чтобы считать Фаиду исторически достоверной, хотя и не слишком почтенной, личностью? Но, признавая Фаиду виновницей пожара, можно допустить и все прочие обстоятельства. Мне кажется, нет основания отрицать этот эпизод в том, например, виде, в каком его передают Диодор, Курций и Плутарх. Не беда, что Арриан опускает подробности; деловитость, краткость и некоторая сухость — его стиль. Что касается Тарна, я готов здесь подкрепить наблюдение Ростовцева словами сэра Фрэнка Адкока: «Тарн отклоняется от истины в тех случаях, когда прикладывает этические мерки, традиционные для его времени, к эпохе, которую изучает». Нет, патетический стихотворец XV в. не был далек от истины, когда писал:
Но самый великий среди этих дворцов был пока невредим. Еще на марше Александр получил от персепольского градоправителя (до нас дошло его имя — некто Тиридат) письмо, где обещано было сдать город без сопротивления, если Александр опередит царские войска, которые движутся на защиту Персеполя. Теперь здесь бесчинствовали победители. Александр поднялся по широкой лестнице на террасу, где стояли и стоят в виде руин до сих пор внушительные колоннады залов (рис. 3). Гидом его мог быть Тиридат. Вероятно, тогда Александр вручил ему некую награду, о которой упоминает Курций. Это, действительно, был удобный момент. Другой, более ранний историк (Диодор) пишет, что «Александр… завладел находившимися там сокровищами». Приблизительно то же говорит и почтенный Арриан. Сокровища эти накапливались со времен первого персидского царя, Кира. Казна была переполнена золотом и серебром стоимостью в 120 тыс. талантов. Часть Александр взял на текущие расходы и велел пригнать из Вавилона, Суз и Месопотамии мулов, упряжных и вьючных, а также 3 тыс. верблюдов, чтобы переправить остальную часть богатств в Сузы. Он спешил вывезти из Персеполя все ценное, словно подготавливал город к исполнению его судьбы. «Враждебно относясь к местным жителям, — пишет Диодор, — он не доверял им и решил совершенно уничтожить Персеполь».
Здесь застала Александра зима. В том краю с декабря по март то идут ливни, то выпадает густой снег — неудобное время для широкой кампании. Четыре месяца Александр отдыхал, тренировал свое пресыщенное победами войско и растрачивал понемногу свои сокровища. Праздности он не любил. Можно представить, как он охотился в холмах возле Персеполя, как приказами и личным примером старался уберечь своих офицеров от соблазнов восточной роскоши и неотделимой от нее склонности к интригам и распрям, как объезжал всю Персиду, принимая или воздавая почести, торжественно восседал под золотым балдахином царя царей среди ста колонн тронного зала — словом, привыкал быть великим восточным монархом в той мере, какую допускали суровость западного воспитания и живость его деятельного ума.
С приходом весны 330 г. до н. э. возобновились военные действия и, прежде всего, преследование бежавшего царя. Сообщали, что Дарий Третий с тридцатью тысячами персов и греческих наемников направился в Бактрию и был сейчас возле реки Окс, в местности, которую мы называем Афганским Туркестаном[5]. Там он надеялся привести свою распадающуюся армию в боевую готовность, хотя сам давно уже утратил наступательный дух. Приближался конец, грозным предвестником которого было событие, озаряющее как дымный факел мглу веков азиатской истории.
Четыре летописца походов Александра, чьи труды сохранились до нашего времени, неодинаково оценивают значение этого события. Все они писали между I в. до н. э. и II в. н. э. и, в конечном итоге, пользовались информацией, почерпнутой из заметок участников персидского похода. Поэтому основные факты, как бы ни поработала над ними фантазия людей, неоспоримы. Уходя из Персеполя, завоеватели предали огню величественный дворец. Двадцать два столетия спустя археологи, которые вели раскопки среди его руин, обнаружили многие свидетельства пожара. Выяснилось, что «весь пол главного зала покрыт слоем золы и древесного угля (кедра, как показал микроскопический анализ), иначе говоря, обугленными останками потолочных перекрытий. Херцфельд определяет толщину этого слоя в 1–3 фута и отмечает следы огня на колоннах… Тронный зал и его портик, несомненно, обрушились в результате бедствия, что, вероятно, совпало во времени с пожаром в казнохранилище по другую сторону улицы, к югу, и, возможно, с гибелью самой ападаны…», то есть колонного зала для приемов к западу от тройного зала. Эти указания я заимствую из объемистого труда Эриха Шмидта «Персеполь» (изд. Чикагского университета, 1953).
О персепольской катастрофе писал Арриан, азиатский грек, находившийся на службе у императора Адриана и умерший около 180 г. н. э. Его рассказ напоминает свежезамороженный продукт и не подвержен исторической порче. Александр, но словам Арриана, сжег дворец вопреки уговорам верного Пармениона, который «советовал ему сохранить его, между прочим, и потому, что нехорошо губить собственное имущество, а также потому, что население Азии примет его не как властителя Азии, твердо решившего удержать власть над нею, а только как человека, победоносно прошедшего по стране. Александр ответил, что он желает наказать персов за то, что, вторгшись в Элладу, они разрушили Афины и сожгли храмы; за всякое зло, причиненное эллинам, они и несут теперь ответ. По-моему, однако, Александр действовал безрассудно, и не было здесь никакого наказания древним персам».
Следовательно, сожжение Персеполя в 330 г. до н. э. Арриан считает обдуманным актом мести за сожжение афинского Акрополя и городов и храмов Аттики Ксерксом в 480 г. до н. э. По существу так оно и было, это несомненно. Походу Александра в персидскую Азию с самого начала придавали — пусть лишь в целях пропаганды — характер возмездия, уготованного правнукам тех, кто полторы сотни лет назад принес Греции столько страданий[6]. В 333 г. до н. э., после победы македонян при Иссе, на границе Киликии и Сирии, Александр четко выразил эту мысль в ответном послании царю Дарию, которое начиналось следующими весьма решительными словами: «Ваши предки вторглись в Македонию и остальную Элладу и наделали там много зла, хотя и не видели от нас никакой обиды. Я, предводитель эллинов, желая наказать персов, вступил в Азию, вызванный на то вами…»
Но бесстрастное упоминание Арриана о том, что разрушение дворца было карательной мерой, возможно, не воссоздает картину во всей полноте. Зато у других писателей историческое это событие выглядит как оперный сюжет. Так повелось со времен Диодора Сицилийского (вторая половина I в. до н. э.) и вплоть до «Пира Александра», сочиненного Драйденом к празднику св. Цецилии в 1697 г. Начнем с Диодора. «Александр, празднуя победу, принес роскошные жертвы богам и устроил для друзей богатое пиршество. Товарищи его походов щедро угощались, и чем дальше шла пирушка, тем больше пьянели, и наконец длительное безумие охватило души упившихся. Одна из присутствовавших женщин, Фаида по имени, уроженка Аттики, сказала, что из всех дел, совершенных Александром в Азии, самым прекрасным будет сожжение царского дворца; пусть он отправится веселой компанией вместе с ними, и женские руки заставят в один миг исчезнуть знаменитое сооружение персов. Слова эти, обращенные к людям молодым, которые, опьянев, преисполнились бессмысленной гордости, возымели, конечно, свое действие: кто-то закричал, что он поведет всех, и стал распоряжаться, чтобы зажгли факелы и шли отомстить за беззакония, совершенные в эллинских святынях. Его одобрили, но сказали, что совершить такое дело подобает только Александру. Царя воодушевили эти слова; все вскочили из-за стола и заявили, что они пройдут победным шествием в честь Диониса. Тут же набрали множество светильников, прихватили женщин, игравших и певших на пиру, и царь выступил в этом шествии под звуки песен, флейт и свирелей. Зачинщицей всего была гетера Фаида. Она после царя первая метнула во дворец зажженный факел; то же самое сделали и другие, и скоро дворец и все вокруг было охвачено огромным пламенем. Самое удивительное, что за кощунство, совершенное Ксерксом, царем персидским, на афинском Акрополе, отплатила той же монетой много лет спустя женщина, согражданка тех, кто был обижен еще в детстве».
Через сто с лишним лет Плутарх использовал те же источники. Однако следует привести и его описание: «Собираясь выступить против Дария, он как-то вместе с друзьями пировал и забавлялся. На пирушку к своим возлюбленным пришли и женщины, пившие вместе с остальными. Одна из них, особенно известная, Фаида, родом из Аттики, любовница Птолемея, в будущем царя Египта, умело хваля Александра в одном и подшучивая над ним в другом, опьянев, дошла до того, что сказала слово, уместное по понятиям ее сограждан, но не соответствующее ее положению. Она сказала, что за все, что она претерпела, скитаясь по Азии, она получит награду в тот день, когда сможет поиздеваться над гордыней персидских царей. И еще сладостнее было бы ей, идя веселой толпой с пирушки, поджечь дом Ксеркса, сжегшего Афины; ей самой бы хотелось на глазах царя подложить огонь: пусть пойдет молва, что женщины сильнее отомстили персам за Элладу, чем знаменитые военачальники Александра, его стратеги и навархи. Поднялись крики и аплодисменты, сотрапезники стали уговаривать и подгонять друг друга. Царь, увлеченный общим порывом, вскочил и с венком на голове и факелом в руках пошел впереди. Спутники его веселой толпой с криками окружили дворец. Остальные македонцы, узнав, в чем дело, радостно сбежались с факелами. Они надеялись, что царский дворец сожгут дотла, так как царь уже помышляет о доме и не собирается жить среди варваров. Одни говорят, что именно так и было; другие, что поступок этот не был обдуманным. Что Александр вскоре пожалел о нем и велел тушить пожар, в этом согласны все». Благодаря археологии мы теперь знаем: если Александр и одумался, то поздно.
Так писали Диодор и Плутарх. В период, который их разделяет, появился, видимо, труд Курция, во многом совпадающий с описанием Диодора и, вероятно, на нем основанный. С литературной точки зрения греческий текст Плутарха выглядит более живым и красноречивым. Плутарх был художником, рядом с ним Диодор — всего лишь компилятор. Если же отвлечься от художественных достоинств, возникает главный вопрос: имеет ли эта живописная традиция историческую ценность? Достоверна ли она?
Наш великолепный сэр Вильям Тарн решительно не верит им. «Нужно ли говорить, что нет ни слова правды в истории Фаиды. Сожжение дворца Ксеркса было деянием преднамеренным, политическим манифестом, обращенным к Азии… Александр имел обыкновение обедать со своими генералами, но предполагать, что он приглашал к трапезе их любовниц, — нелепо [?]… Что касается толпы флейтисток и пр., то у греков действительно был обычай слушать музыку после обеда, но македонцы такого обычая не знали, не говоря уже о том, что все это абсолютно не соответствует характеру Александра [??]. Упомянутые девицы порождены представлениями, согласно которым Александр был пьян постоянно… Аристобул, знавший об Александре несравненно больше, нежели любой популярный писатель, поясняет, что Александр долго не покидал пиршественного стола, однако не ради выпивки, но ради приятной беседы; одно это исключает флейтисток [???]…» Ну, и так далее, все в том же духе. Если мы хотим правды, то вынуждены будем признать, что по крайней мере в конце великого похода Александр, увы, пьянствовал с кем попало. На этот счет солиднейшие источники, которыми пользовался сам Арриан, сомнений не выказывают. Дерзкий Клитом заколот «среди общего опьянения» Александром, у которого «вошло в привычку пировать по-новому, по-варварски». В случае с Клитом он оказался «во власти двух пороков, а именно: гнева и пьянства…» В другом случае он «пьянствовал до утра», благодаря чему разрушил, сам того не ведая, заговор молодых офицеров собственной свиты. Во время суда зачинщик говорил, что «не-возможно терпеть… попойки Александра, сменяющиеся сном». Надо полагать, его обвинения были не вовсе безосновательны.
Позволю себе высказать опасение, что сэр Вильям Тарн, уединившись в Шотландии XX века, не имел случая приобрести достаточный опыт военных экспедиций, совершаемых в возрасте 26 лет вдали от дома на пространствах огромного материка в IV столетии до н. э. При всей его учености и остром уме правильно понять эпоху эллинизма ему помешало одно свойство, которое отметил проницательный Ростовцев: сэр Тарн был прежде всего английским джентльменом.
Итак, не преклоняясь перед героями, какие факты, относящиеся к событиям в Персеполе, можем мы отыскать? Обратимся к труду Клитарха Александрийского, составленному после 282 г. до н. э. и, вероятно, не намного позже, то есть примерно через сорок лет после смерти Александра. Автор этого труда не участвовал в походе, тем не менее он писал во времена, когда еще были живы ветераны персидской кампании, и в стране (Египте), где до 282 г. правил военачальник и один из первых историков Александра — Птолемей I. Труд Клитарха мог быть написан задолго до смерти египетского правителя, но не опубликован по причинам деликатного свойства, поскольку Файла была любовницей Птолемея. Правда, Клитарх не пользовался доверием у позднейших авторов. Страбон, например, в конце I в. до н. э. говорит о его лживости, а спустя век Квинтиллиан характеризует его как автора «даровитого, по не заслуживающего доверия». И все-таки, описывая узловой эпизод — сожжение Персеполя, он вряд ли осмелился бы украшать его вымыслом — ведь очевидцы этих событий еще жили. Что же он говорит? В одном из тридцати шести сохранившихся фрагментов, который цитировал в свое время Афиней, этот неисправимый коллекционер древних рукописей, Клитарх утверждает, что «Фаида была причиной поджога дворца в Персеполе». Разве этого не достаточно, чтобы считать Фаиду исторически достоверной, хотя и не слишком почтенной, личностью? Но, признавая Фаиду виновницей пожара, можно допустить и все прочие обстоятельства. Мне кажется, нет основания отрицать этот эпизод в том, например, виде, в каком его передают Диодор, Курций и Плутарх. Не беда, что Арриан опускает подробности; деловитость, краткость и некоторая сухость — его стиль. Что касается Тарна, я готов здесь подкрепить наблюдение Ростовцева словами сэра Фрэнка Адкока: «Тарн отклоняется от истины в тех случаях, когда прикладывает этические мерки, традиционные для его времени, к эпохе, которую изучает». Нет, патетический стихотворец XV в. не был далек от истины, когда писал:
О Александр, ты покорил почти весь мир,
Но женщины и вино победили тебя!
(Британский музей, Харлеевская рукопись № 2259, л. 39)
Дворец
Персепольский дворец стоял — а останки его стоят и поныне — на естественной известняковой террасе, выровненной и расширенной искусством каменотесов, у подножия Кухи-Рахмат — Горы Милосердия в восточной части Персепольской равнины (рис. 4). Есть указания на то, что такой выбор строительного участка (разумеется, наличие горы не обязательно) был обычным на древней родине персов, в Хузистане. Подобная же известняковая терраса, приподнятая над местностью, лежала в основании дворца, который заложил в середине VI в. до н. э. Кир Великий в Пасаргадах, в 50 милях к северу от Персеполя. Кир весьма почитал Пасаргады, «потому что, — как говорит Страбон, — он одержал там победу в последней битве над Астиагом-мидянином, присвоил себе владычество над Азией…».
 Недавние раскопки (1963–1965 гг.) в Пасаргадах позволяют судить о том, как выглядел в общих чертах этот предшественник Персеполя[7]. Огромная каменная платформа с ведущими на нее двумя лестницами венчает крутой холм, внизу развалины укрепленных ворот, остатки садового павильона, небольшого жилого дворца и башнеподобной постройки, так называемой Тюрьмы Соломона. Последняя могла быть либо храмом, либо уцелевшим от храмового комплекса святилищем. Не удалось обнаружить даже следа городских кварталов. Предполагают, что население, недалеко ушедшее от своих предков-кочевников, жило в шатрах. Окрестная долина замкнута надежной стеной из сырцового кирпича, снабженной квадратными башнями; в ее пределах должны были стоять дома царских слуг и, вероятно, ремесленников. В полутора милях к югу одиноко возвышается гробница самого Кира. Когда-то в ней хранились сокровища покойного царя, кругом росли деревья, волновались под ветром высокие травы, журчали источники. Теперь она стоит в пустыне — простой и достойный памятник человеку, чье имя славно в истории (рис. 5).
Кир так и не построил дворца на каменной платформе Пасаргад; пустовала она и в царствование его сына Камбиза, который был слишком занят войной в Египте. Третий великий царь, Дарий I, сделал своей столицей Персеполь, однако на пасаргадской платформе он поставил сооружение из сырцового кирпича, окружив его укреплением из того же материала. Сооружение это включает двор и могло служить временной резиденцией царю или его сатрапу. Впоследствии там размещались провиантские склады и военный штаб сатрапии. По-видимому, постройка эта была сожжена войсками Александра, затем частично восстановлена, впрочем в упрощенном виде, и снова разрушена около 280 г. до н. э., возможно в результате восстания после смерти Селевка I, преемника Александра на Востоке. Подробности можно опустить; место это интересно потому только, что в Пасаргадах неярко и несмело был намечен первообраз Персеполя, где искусство Ахеменидов достигло апогея.
Работы в Персеполе начаты были Дарием вскоре после 520 г. до н. э. и продолжались Ксерксом, а затем Артаксерксом I вплоть до 460 г. до н. э. Затянувшиеся сроки строительства привели к повторению некоторых архитектурных элементов, что, однако, не нарушило четкий в основном план дворца. На северной его стороне были расположены два парадных входа, ведущие в два зала со множеством колонн. На южной — жилые помещения и обширная сокровищница. К дворцовому комплексу, укрепленному стенами и башнями из кирпича-сырца, поднимались монументальные лестницы, богато декорированные рельефами.
Недавние раскопки (1963–1965 гг.) в Пасаргадах позволяют судить о том, как выглядел в общих чертах этот предшественник Персеполя[7]. Огромная каменная платформа с ведущими на нее двумя лестницами венчает крутой холм, внизу развалины укрепленных ворот, остатки садового павильона, небольшого жилого дворца и башнеподобной постройки, так называемой Тюрьмы Соломона. Последняя могла быть либо храмом, либо уцелевшим от храмового комплекса святилищем. Не удалось обнаружить даже следа городских кварталов. Предполагают, что население, недалеко ушедшее от своих предков-кочевников, жило в шатрах. Окрестная долина замкнута надежной стеной из сырцового кирпича, снабженной квадратными башнями; в ее пределах должны были стоять дома царских слуг и, вероятно, ремесленников. В полутора милях к югу одиноко возвышается гробница самого Кира. Когда-то в ней хранились сокровища покойного царя, кругом росли деревья, волновались под ветром высокие травы, журчали источники. Теперь она стоит в пустыне — простой и достойный памятник человеку, чье имя славно в истории (рис. 5).
Кир так и не построил дворца на каменной платформе Пасаргад; пустовала она и в царствование его сына Камбиза, который был слишком занят войной в Египте. Третий великий царь, Дарий I, сделал своей столицей Персеполь, однако на пасаргадской платформе он поставил сооружение из сырцового кирпича, окружив его укреплением из того же материала. Сооружение это включает двор и могло служить временной резиденцией царю или его сатрапу. Впоследствии там размещались провиантские склады и военный штаб сатрапии. По-видимому, постройка эта была сожжена войсками Александра, затем частично восстановлена, впрочем в упрощенном виде, и снова разрушена около 280 г. до н. э., возможно в результате восстания после смерти Селевка I, преемника Александра на Востоке. Подробности можно опустить; место это интересно потому только, что в Пасаргадах неярко и несмело был намечен первообраз Персеполя, где искусство Ахеменидов достигло апогея.
Работы в Персеполе начаты были Дарием вскоре после 520 г. до н. э. и продолжались Ксерксом, а затем Артаксерксом I вплоть до 460 г. до н. э. Затянувшиеся сроки строительства привели к повторению некоторых архитектурных элементов, что, однако, не нарушило четкий в основном план дворца. На северной его стороне были расположены два парадных входа, ведущие в два зала со множеством колонн. На южной — жилые помещения и обширная сокровищница. К дворцовому комплексу, укрепленному стенами и башнями из кирпича-сырца, поднимались монументальные лестницы, богато декорированные рельефами.
 Смело задуманное и мастерски исполненное, сооружение это было под стать империи, находившейся тогда к расцвете своего могущества. Останки двух огромных залов — всего лишь бледный намек на былое великолепие (рис. 6). Западный зал, начатый Дарием перед 513 г. до н. э., в плане представлял квадрат с внутренней площадью в 200 кв. футов, а его 36 колонн несли деревянную кровлю на высоте 60 футов от пола. По углам стоили массивные башни сырцовой кладки, в них размещались слуги и охрана. Судя по находкам, поверхность башен была частично выложена глазурованными плитками, белыми и бирюзовыми, с узором из надписей. Двери и, возможно, некоторые архитектурные детали зала были обиты бронзовыми, на золоченых гвоздях, пластинами с розеттами и изображениями грифонов. О колоннах будет сказано позднее. Подсчитано, что зал должен был вмещать 10 тыс. человек. Число это может показаться преувеличенным, но, конечно, толпа придворных и гвардейцев, просителей и посланников, которая собиралась здесь, была огромна. Но вот что удивительно — мы не знаем, где стоял царский трон. Где был в этом квадратном зале тот пункт, тот психологический центр, на который могла быть ориентирована придворная церемония?
К востоку от Зала приемов Ксеркс и его наследник возвели еще более обширный зал — в 230 кв. футов, со сторожевыми башнями по обе стороны входа-портика на северной стороне. Кровлю поддерживало 100 колонн; такое же круглое число их нередко встречается и в позднейшей индийской архитектуре. Археологи, копавшие это сооружение, назвали его Тронным залом, главным образом потому, что на дверных притолоках северной и южной сторон вырезаны изображения царя, торжественно восседающего на троне. Впоследствии те же археологи склонились к мнению, что в зале этом были размещены наиболее ценные из царских сокровищ, «благодаря чему старая сокровищница [находившаяся позади зала] освободилась для новых подношений и добычи, которые отовсюду стекались в это сердце империи». Иными словами, это было нечто вроде дворцового музея, филиал казнохранилища. Трудно согласиться с этим мнением. Не лучше ли вспомнить обычаи более поздних времен? В XVI столетии царь имел два приемных зала, личный и официальный: один — для приема друзей, приближенной знати и особо важных посланников, другой — для государственных церемоний, например для оглашения царских приговоров и даже для их исполнения. Могольский обычай мог возникнуть из древней ахеменидской традиции, сомневаться в этом, по-видимому, нет причин.
Мы не знаем, откуда взялась сама архитектурная идея этих огромных залов. Прецеденты неизвестны. Те залы, что сохранились в Пасаргадах, имеют вытянутые очертания и сравнительно невелики. Создание обширного квадратного зала, как и многие художествен, как и многие открытия, принадлежит гению архитекторов и скульпторов Дария I, которые работали до и после 500 г. до н. э.
В самом деле, какое еще сооружение могло бы столь убедительно выразить характер и дух империи Ахеменидов? Отметим вновь — архитектурная перспектива в этих гигантских залах неопределенна, ничто в них не увлекало взгляд и мысль вперед. Они стояли как застывшие каменные рощи, точно окаменевший персидский парадиз. Статичность была отличительной чертой этих построек, и так же статичны нескончаемые, сменяющие одна другую процессии данников и воинов, вырубленные в стенах по обеим сторонам лестниц. Если он и движется, этот солдатский строй фигур, то движение его совершается как бы во сне. Здесь и там появляются вдруг исполинские призраки царей, они торжественно цепенеют, обращенные в камень и золото, словно к ним прикоснулся новый Мидас[8]. Все чувственное, все личное не имеет здесь места, здесь нет и следа вдохновения или взволнованности, «завтра» не предусмотрено, будущего здесь нет, а есть только зыбкая данность страны, где царит вечный полдень, есть сложное завершение и конец краткой традиции императива (рис. 7). И каков же контраст — дерзкая, драчливая толпа европейцев, прокатившаяся за Александром по этой окаменелой земле. Их переполняли шумная незавершенность, деятельное ожидание. И с ними было будущее. Но к этому столкновению Востока и Запада мы еще вернемся, а пока нам следует рассмотреть повнимательнее некоторые детали.
Смело задуманное и мастерски исполненное, сооружение это было под стать империи, находившейся тогда к расцвете своего могущества. Останки двух огромных залов — всего лишь бледный намек на былое великолепие (рис. 6). Западный зал, начатый Дарием перед 513 г. до н. э., в плане представлял квадрат с внутренней площадью в 200 кв. футов, а его 36 колонн несли деревянную кровлю на высоте 60 футов от пола. По углам стоили массивные башни сырцовой кладки, в них размещались слуги и охрана. Судя по находкам, поверхность башен была частично выложена глазурованными плитками, белыми и бирюзовыми, с узором из надписей. Двери и, возможно, некоторые архитектурные детали зала были обиты бронзовыми, на золоченых гвоздях, пластинами с розеттами и изображениями грифонов. О колоннах будет сказано позднее. Подсчитано, что зал должен был вмещать 10 тыс. человек. Число это может показаться преувеличенным, но, конечно, толпа придворных и гвардейцев, просителей и посланников, которая собиралась здесь, была огромна. Но вот что удивительно — мы не знаем, где стоял царский трон. Где был в этом квадратном зале тот пункт, тот психологический центр, на который могла быть ориентирована придворная церемония?
К востоку от Зала приемов Ксеркс и его наследник возвели еще более обширный зал — в 230 кв. футов, со сторожевыми башнями по обе стороны входа-портика на северной стороне. Кровлю поддерживало 100 колонн; такое же круглое число их нередко встречается и в позднейшей индийской архитектуре. Археологи, копавшие это сооружение, назвали его Тронным залом, главным образом потому, что на дверных притолоках северной и южной сторон вырезаны изображения царя, торжественно восседающего на троне. Впоследствии те же археологи склонились к мнению, что в зале этом были размещены наиболее ценные из царских сокровищ, «благодаря чему старая сокровищница [находившаяся позади зала] освободилась для новых подношений и добычи, которые отовсюду стекались в это сердце империи». Иными словами, это было нечто вроде дворцового музея, филиал казнохранилища. Трудно согласиться с этим мнением. Не лучше ли вспомнить обычаи более поздних времен? В XVI столетии царь имел два приемных зала, личный и официальный: один — для приема друзей, приближенной знати и особо важных посланников, другой — для государственных церемоний, например для оглашения царских приговоров и даже для их исполнения. Могольский обычай мог возникнуть из древней ахеменидской традиции, сомневаться в этом, по-видимому, нет причин.
Мы не знаем, откуда взялась сама архитектурная идея этих огромных залов. Прецеденты неизвестны. Те залы, что сохранились в Пасаргадах, имеют вытянутые очертания и сравнительно невелики. Создание обширного квадратного зала, как и многие художествен, как и многие открытия, принадлежит гению архитекторов и скульпторов Дария I, которые работали до и после 500 г. до н. э.
В самом деле, какое еще сооружение могло бы столь убедительно выразить характер и дух империи Ахеменидов? Отметим вновь — архитектурная перспектива в этих гигантских залах неопределенна, ничто в них не увлекало взгляд и мысль вперед. Они стояли как застывшие каменные рощи, точно окаменевший персидский парадиз. Статичность была отличительной чертой этих построек, и так же статичны нескончаемые, сменяющие одна другую процессии данников и воинов, вырубленные в стенах по обеим сторонам лестниц. Если он и движется, этот солдатский строй фигур, то движение его совершается как бы во сне. Здесь и там появляются вдруг исполинские призраки царей, они торжественно цепенеют, обращенные в камень и золото, словно к ним прикоснулся новый Мидас[8]. Все чувственное, все личное не имеет здесь места, здесь нет и следа вдохновения или взволнованности, «завтра» не предусмотрено, будущего здесь нет, а есть только зыбкая данность страны, где царит вечный полдень, есть сложное завершение и конец краткой традиции императива (рис. 7). И каков же контраст — дерзкая, драчливая толпа европейцев, прокатившаяся за Александром по этой окаменелой земле. Их переполняли шумная незавершенность, деятельное ожидание. И с ними было будущее. Но к этому столкновению Востока и Запада мы еще вернемся, а пока нам следует рассмотреть повнимательнее некоторые детали.
 Основная часть дворцов Персеполя построена из сырцового кирпича, давно рассыпавшегося в прах. О сохранившихся глазурованных плитках облицовки было уже сказано. Окна и главные входы зданий были обрамлены известняком, заполированным до блеска. Мы отметим точно такую же полировку и в Индии времен Маурьев, наследнице ахеменидской Персии. Есть и другой прием персидской строительной техники, который по-видимому, был перенесен далее на восток. Персепольские каменщики обращались со своим материалом весьма вольно; например, каменные оконные рамы они делали не из четырех отдельных брусьев, как это принято было в Египте или Греции, но вырубали из цельного блока всю раму, или половину, или же три четверти рамы, восполняя недостающее одним или нескольким кусками камня. По замечанию Херцфельда, они работали с камнем как скульпторы, а не каменотесы. То же и лестницы — не было отдельных плит для ступеней и других для парапета; как правило, несколько ступеней вместе с парапетом тесали из неодинаковых по ширине и длине каменных глыб. Количество и высота барабанов, из которых составляли колонны, были также непостоянны. Эта необычная структурная особенность, подробно исследованная в работах Э. Херцфельда и Г. Фрэнкфорта, упомянута здесь по причинам, которые будут рассмотрены в одной из следующих глав (см. ниже, «Безработные мастера»).
Основная часть дворцов Персеполя построена из сырцового кирпича, давно рассыпавшегося в прах. О сохранившихся глазурованных плитках облицовки было уже сказано. Окна и главные входы зданий были обрамлены известняком, заполированным до блеска. Мы отметим точно такую же полировку и в Индии времен Маурьев, наследнице ахеменидской Персии. Есть и другой прием персидской строительной техники, который по-видимому, был перенесен далее на восток. Персепольские каменщики обращались со своим материалом весьма вольно; например, каменные оконные рамы они делали не из четырех отдельных брусьев, как это принято было в Египте или Греции, но вырубали из цельного блока всю раму, или половину, или же три четверти рамы, восполняя недостающее одним или нескольким кусками камня. По замечанию Херцфельда, они работали с камнем как скульпторы, а не каменотесы. То же и лестницы — не было отдельных плит для ступеней и других для парапета; как правило, несколько ступеней вместе с парапетом тесали из неодинаковых по ширине и длине каменных глыб. Количество и высота барабанов, из которых составляли колонны, были также непостоянны. Эта необычная структурная особенность, подробно исследованная в работах Э. Херцфельда и Г. Фрэнкфорта, упомянута здесь по причинам, которые будут рассмотрены в одной из следующих глав (см. ниже, «Безработные мастера»).
 Что касается персидских колонн, то они оставили многочисленное потомство, которое распространилось значительно восточнее Персеполя. Это фантастические сооружения, мало похожие на колонны западного мира. Одни, деревянные, были оштукатурены и ярко разрисованы косым спиральным узором. Другие, каменные, опирались на колоколоподобные базы с лиственным орнаментом и несли капители, отчасти напоминающие пальмовые, папирусовые и лотосовые капители Египта, но увенчанные импостами[9] в виде львиных или бычьих полуфигур, соединенных спинами (рис. 8). Мы еще увидим, как будет развит этот причудливый ордер в Индии более поздних времен, а его элементы сравним в конце следующей главы с некоторыми нетрадиционными капителями Запада.
И все же в ахеменидском зодчестве Персеполя нет почти ничего от архитектуры Средиземноморья, если не считать египетскую. Во времена, когда Ксеркс и Дарий заготавливали пищу для факелов Александра, в Греции не строили дворцов, которые показались бы достойными этого названия. Независимо от положения в обществе люди жили в небольших домах, иногда каменных, обычно же глиняных; взломщикам той поры приходилось чаще работать заступом, нежели отмычкой. Ни одному греку не пришло бы в голову хвастать домом Перикла. После Александра вкус к дворцовому великолепию мало-помалу был привит эллинистическому Западу, но и столетия спустя император Август, правитель Римского мира, жил на Палатине с относительно скромным достоинством. А на Востоке всегда любили блеснуть показной роскошью.
Среди немногих уцелевших шедевров одно из первых мест принадлежит скульптуре Персеполя, тем рельефам с процессиями воинов и данников, о которых я мало здесь сказал. Но они были созданы в эпоху, предшествовавшую пожару, и мы поговорим о них в следующей главе.
Что касается персидских колонн, то они оставили многочисленное потомство, которое распространилось значительно восточнее Персеполя. Это фантастические сооружения, мало похожие на колонны западного мира. Одни, деревянные, были оштукатурены и ярко разрисованы косым спиральным узором. Другие, каменные, опирались на колоколоподобные базы с лиственным орнаментом и несли капители, отчасти напоминающие пальмовые, папирусовые и лотосовые капители Египта, но увенчанные импостами[9] в виде львиных или бычьих полуфигур, соединенных спинами (рис. 8). Мы еще увидим, как будет развит этот причудливый ордер в Индии более поздних времен, а его элементы сравним в конце следующей главы с некоторыми нетрадиционными капителями Запада.
И все же в ахеменидском зодчестве Персеполя нет почти ничего от архитектуры Средиземноморья, если не считать египетскую. Во времена, когда Ксеркс и Дарий заготавливали пищу для факелов Александра, в Греции не строили дворцов, которые показались бы достойными этого названия. Независимо от положения в обществе люди жили в небольших домах, иногда каменных, обычно же глиняных; взломщикам той поры приходилось чаще работать заступом, нежели отмычкой. Ни одному греку не пришло бы в голову хвастать домом Перикла. После Александра вкус к дворцовому великолепию мало-помалу был привит эллинистическому Западу, но и столетия спустя император Август, правитель Римского мира, жил на Палатине с относительно скромным достоинством. А на Востоке всегда любили блеснуть показной роскошью.
Среди немногих уцелевших шедевров одно из первых мест принадлежит скульптуре Персеполя, тем рельефам с процессиями воинов и данников, о которых я мало здесь сказал. Но они были созданы в эпоху, предшествовавшую пожару, и мы поговорим о них в следующей главе.
Что было до пожара
Если мы пожелаем рассмотреть фон событий, описанных в первой главе, нам придется взглянуть на запад и проделать это не однажды. Разрушитель Персеполя был македонец, однако охотно я назвался бы греком. Разве не претендовал он на то, что ведет свой род если не от самого Зевса, то по крайней мере от Геракла? Родословная шедевра, который он превратил в руины, также связана если не с Западом, то с ближайшими соседями Запада — Ассирией и Двуречьем. Это был последний, самый восточный, а теперь и самый красноречивый, памятник такого рода. Те, кто строил Персеполь, намеревались переместить Восток в Европу. Напротив того, те, кто уничтожил Персеполь, продвигали Европу на Восток, что дало неожиданный для них результат — персидская культура не исчезла, а только была оттеснена в еще более восточном направлении[10]. Пока все это происходило, в мире складывались новая политика и социология, новый широкий взгляд на жизнь, и орудием этой евразийской революции оказался юнец двадцати с небольшим лет, явившийся с дальнего Запада. Было уже сказано, что пламени над Персеполем предшествовало сожжение в 480 г. до н. э. другой столицы — Афин, тогда наиболее цивилизованного города Европы. События эти общеизвестны, они стали классикой в более поздние века, и мы напомним о них вкратце. В том году (еще одна дата, которая имела решающее значение для истории) огромные армии Ксеркса заполонили маленькое государство Аттику, поставив тем самым под угрозу будущее всего континента. Очевидно следуя двусмысленным указаниям Дельфийского оракула, возвестившего, что Зевс оборонит греков деревянной стеной, большинство горожан укрылось на кораблях, на которых они впоследствии громили персидский флот при Саламине. Но простодушные жрецы и храмовые прислужники поняли буквально слова оракула и остались на Акрополе, сложив кругом него грубую бревенчатую стену. Персы, как сообщает Геродот, заняли соседний холм Ареса, Ареопаг, и атаковали оттуда баррикаду пылающими стрелами. В конце концов они проникли внутрь ограды, перебили защитников, разграбили храм и сожгли Акрополь дотла. Упомянутый храм мог быть первым вариантом Эрехтейона, но более вероятно, что это было здание, известное нам как Парфенон. В то время эта главная святыня и сокровищница Афин возводилась заново из мрамора и обнесена была легковоспламеняющимися лесами. Спустя одно поколение архитекторы Перикла достроили Парфенон на старой платформе, западная сторона которой все еще хранит следы огня, зажженного Ксерксом. А барабаны прежних колонн можно видеть в боковой стене Акрополя; после изгнания персов их использовали и качестве строительного материала. Подобно Персеполю, Акрополь являет нам свои раны. Раны эти нанесены были не только Акрополю, не только Афинам. След разрушений тянулся за персами по всей Аттике. Им ненавистны были прежде всего храмы. И те, что избежали ярости Ксеркса, вскоре были сокрушены военачальником его Мардонием. Пожары полыхали вновь и вновь. Тридцать лет после персидского нашествия стояли всюду на этой земле почерневшие руины, взывая к отмщению. Накануне решающей битвы при Платеях, после которой в 479 г. до н. э. персов изгнали из Европы, греческие патриоты объединились, забыли ненадолго свои споры и торжественно поклялись не восстанавливать эти скорбные монументы. Целых тридцать лет после Платей афиняне исполняли свою клятву. Развалины Акрополя и других храмов тщательно сохранялись по всей Аттике, наподобие британской резиденции в Лакнау. Несомненно, это было удобно для развития послевоенной экономики, так как прежде всего нужно было восстанавливать сельское хозяйство, строить корабли и оборонительные укрепления. Но к середине столетия выросло новое поколение. Люди, достигшие тридцатилетия к 450 г. до н. э., уже не были участниками греко-персидских войн. Более того, можно предположить, что им смертельно надоели боевые воспоминания дедов и отцов. В наше время мы хорошо узнали, сколь тягостны подобные реликты, выпавшие из контекста событий и не успевшие обрести величавую отстраненность истории. Платейская клятва потеряла смысл и наконец была забыта. Возникли новые настроения. Пришло время наводить порядок. И совершилось чудо — настал тот редкий миг в жизни нации, когда соединяется все ради создания шедевра. Общие настроения точно совпали во времени с приходом великого человека, наличием средств и благоприятной ситуацией. Великим человеком был, разумеется, Перикл, достаточно ясное представление о котором дали нам Фукидид и Плутарх. Личная доблесть делала его поистине «первым аристократом Афин». Не так уж редко ставились под вопрос его решения и рекомендации, и все же именно в нем воплотились весь разум и все мечты афинского возрождения. Духовный наследник тиранов шестого столетия, он действовал в условиях демократии, во многом предвосхищая методы наиболее просвещенных автократов послеалександровской эпохи. Он был гениален и покровительствовал гениям. С точки зрения моралистов, гении склонны к рискованным поступкам. Делосская лига сконцентрировала всю казну на священном острове Делос, чтобы легче было охранять ее в случае нового нашествия. В 454 г. до н. э. Перикл перевел это, по тем временам несметное, богатство в афинский Акрополь. Так, праведным или неправедным путем были изысканы средства для прославления города, который вместе со Спартой возглавил некогда сопротивление захватчикам, а теперь предавался расточительному самопочитанию. Мы не будем требовать пересмотра дела, не будем настаивать на том, что всю делосскую казну должно было употребить на бесполезные приготовления к войне, которая не угрожала более государству. Факт остался фактом — средства нашлись. И момент благоприятствовал. В первую половину V столетия до н. э. греческое искусство с нарастающим ускорением миновало последние фазы архаики и к 450 г. остановилось на пороге новых воплощений. На Олимпию (запад Пелопоннесского полуострова) платейская клятва не распространялась. Там священные руины не преграждали путь прогрессу искусства. В 471 г. государство Элида отняло Олимпию у Писы, которая до того контролировала этот город и его доходы; тогда-то и началось здесь строительство нового огромного храма Зевса. Строили его до и после 460 г., то есть меж разграблением персами афинского Акрополя и восстановлением Парфенона. Прославленные статуи Олимпийского храма сохранились достаточно, чтобы можно было судить о пластике Греции именно того периода, когда развитие аттического монументального искусства находилось в застое. Скульптуры храма Зевса воплотили дух этого межвременья — все еще несколько напряженные, ортостатичные, они моделированы вяло, соотношения тел и драпировок неясны; этим статуям все еще недостает свободы и уверенности. Тем временем в Афинах назревало искусство смелых и высокоодаренных ваятелей — Мирона, Пифагора, Поликлета и др. Настало время появиться Мастеру, тому, кто собрал бы воедино и спутанные нити и составил бы из них совершенный узор. Пришло время для Фидия. Если бы он или Перикл жили на двадцать лет раньше или позже, благоприятный момент был бы упущен. Итак, настроения, человек, средства, время — сколь безупречна их синхронность! Не будем больше рассуждать об этом, но вспомним замечание Плутарха о поразительных успехах Перикла и его коллег и о необычайной быстроте, с какой успехи эти были достигнуты: «Тем более удивления заслуживают творения Перикла, что созданы они в короткое время, но для долговременного существования. По красоте своей они с самого начала были старинными, а по блестящей сохранности они доныне свежи, как будто недавно окончены: до такой степени они всегда блещут каким-то цветом новизны и сохраняют свой вид не тронутым рукою времени, как будто эти произведения проникнуты дыханием вечной юности, имеют нестареющую душу». Мы добавим только, что любой перевод этих слов покажется неуклюжим по сравнению с лаконизмом и страстью греческого оригинала. Разумеется, как нередко случалось в истории, во всем этом есть парадоксальный подтекст. Вдохновение греческих художников полно и окончательно (чего не следует недооценивать) выразилось в самом великолепном греческом храме лишь после того, как заморский агрессор беспощадно уничтожил прошлое и бросил будущему не менее беспощадный вызов. Греки ответили на него, сосредоточив в одном пункте все таланты и все достояние народа. В свое время мы увидим, как полтора столетия спустя разрушители Персеполя окажут такую же услугу Востоку. Куртизанка из Аттики и ее повелитель, подобно Ксерксу, не ведали, что творят. Намереваясь отплатить Ксерксу тою же монетой, они, как он, закладывали основы новой культурной эпохи. Однако прежде чем вновь обратиться к событиям на Востоке, вглядимся еще раз в их западный фон. Когда Ксеркс, восседая на троне под холмом против Саламина, увидел гибель своего флота, строители все еще трудились над великим дворцом, который был начат при его отце в Персеполе. Там, возможно как в Сузах, где, но знаменитой надписи Дария 494–490 гг. до н. э., «мастера, которые тесали камень… были ионяне и лидийцы…», на Ксеркса работали малоазиатские греки задолго до тех несчастных калек, что заступили скорбной толпою путь Александра, когда он вошел в Персию. Не исключено также, что главным скульптором Персеполя был грек Телефан, о котором Плиний («Естественная история», XXXIV, 68) говорит, что, хотя он и считался мастером, равным Поликлету, Мирону и Пифагору, произведения его практически неизвестны (на Западе), «поскольку работал он исключительно в царских мастерских Ксеркса и Дария». Такого рода наднациональный обмен был обычен в азиатском мире, включая времена ислама; он происходил несмотря на войны, различия в идеологии и политике, вопреки любым соображениям верности и престижа. Об этом полезно вспомнить и в данном случае. Однако прежде всего следует сказать несколько слов о характере персидского искусства эпохи Ахеменидов. Персы искони были кочевниками и ремеслами владели в той мере, какая была необходима кочевому народу. Ни архитектуры, ни монументальной пластики они не знали и поэтому оказались в затруднительном положении, когда между 559 и 529 гг. до н. э., вдохновленные великим Киром, завоевали пространства от Средиземноморья до Мидии с весьма разнообразной по составу средне-восточной цивилизацией и внезапно ощутили на своих плечах всю тяжесть огромного мира. Лидия и Кария, Ликия, Вавилон, греческие города малоазиатских окраин, да еще добрая часть когда-то обширной Ассирийской державы, которую вместе с Тигром, естественной ее осью, захватили в конце предыдущего столетия мидийцы в союзе с Вавилоном. Это была непомерная ноша для народа, привыкшего передвигаться налегке, ноша, подобная той, что взяли на себя кушанские кочевники в Индии и Афганистане в сходных условиях I и II вв. н. э., а также той, что досталась мусульманским полчищам в Азии, Африке и Европе в VII–VIII вв. н. э. И она не сделалась легче от того, что Камбиз, сын и наследник Кира, добавил к ней Египет. Первой задачей было овладеть (в течение жизни одного поколения) важнейшей долей наследства, то есть зрелой и весьма цельной ассирийской культурой. Решение этой задачи предопределялось тем, что в основных своих идеях Персидское государство оформилось как истинный преемник Ассирийского государства. Образы Ассирии одухотворяли персидское монументальное искусство. Но их влияние было умерено двумя обстоятельствами. Во-первых, не будучи ассирийцами, персы видоизменяли, пусть бессознательно и не полностью, унаследованные ими чужие традиции. Во-вторых, уровень мастерства персов не соответствовал требованиям времени и они в какой-то мере попадали в зависимость от иноплеменных мастеров — индийских, лидийских, египетских, мидийских — всех, кого они, как мы знаем, нанимали. Современная наука пыталась установить степень воздействия ионийских и греческих мастеров на ассиро-персидское искусство в Сузах и Персеполе. Скульптура ассирийцев — это по преимуществу рельеф, более или менее плоскостной, работающий скорее контуром, нежели объемом. Генри Фрэнкфорт метко назвал его «форсированной графикой». Драпировки было принято изображать упрощенно, в двух измерениях. Впрочем, они щедро украшены орнаментальной резьбой. В то же время сюжеты рельефов отличаются живостью и разнообразием; картины охоты, войны, домашнего быта выразительны и говорят о тонкой наблюдательности тех, кто их создавал. Все это мало похоже на пластику Персеполя, где монотонно повторяются фигуры и сцены парадных лестниц. Они говорят лишь о богатой дани, приносимой царю (рис. 9), о казарменном величии императорского двора; они бесконечны, как трафаретный узор, и сравнивают их обычно с повторяющимся узором восточных ковров. Мы не обнаружим здесь ничего «эллинского», перед нами символ безликой жесткой иерархии; можно сколько угодно выводить эту декоративную скульптуру из Ассирии, ссылаясь на манеру или характерные детали, но вся она проникнута персидским духом. И все же эти рельефы обладают некоторыми чертами, которые могут быть приписаны влиянию греческого запада. Таково, например, очевидное их тяготение к трехмерности, объемности. Формы животных и людей, складки одежд выявлены решительно; рельефы Персеполя, несмотря на утомительную ритмичность, несравненно более скульптурны, чем любой из ассирийских. В рамках древневосточного понимания пластики это может выглядеть как греческий импорт.
Да, может. Однако, когда мисс Гизела Рихтер с явным одобрением цитирует Кумарасвами, по мнению которого «ахеменидское искусство… с документальной точностью подтверждает реальную и тесную связь Европы и Азии», — нам не по пути. Я убежден, как бы активно ни проявился тот или иной греческий элемент в искусстве Персеполя, какую бородатую эллинистическую физиономию ни нацарапал бы греческий экспатриант на каменной туфле Дария (рис. 2), мы обнаружим лишь малую крупицу подлинно греческого в этих гигантских фризах, на которых бесстрастно маршируют фигуры данников, в этих величавых колоннах, похожих на пальмовые стволы, что все еще возвышаются на платформе дворца. И когда другой ученый пишет, что «немало, должно быть, греческих ремесленников работало здесь и мастера, приспособившего привычную им систему образов к космополитической пышности персидской империи, следует признать художником и обладателем незаурядной творческой фантазии, не уступавшим творцу парфенонского фриза Афин», я, как это ни прискорбно, не могу согласиться с ним. Парфенон и Персеполь во всем противоположны. Архитектурные идеи, лежащие в основе каждого из них, обусловлены двумя различными, абсолютно несхожими направлениями общественной мысли. Правда, на стенах обоих зданий в одно полустолетие, хотя и по-разному, были увековечены официальные шествия — но более ничто их не объединяет. По существу, значительны здесь именно различия между персидским и греческим художественным стилем. Подводя итог, заметим, что создатели Парфенона кажутся очень свободными людьми. Панафинейский фриз точно игра; он полон блистательных побед и поразительных ошибок, которые могли позволить себе лишь великие мастера, тех ошибок, что долго еще стимулировали искусство менее одаренных художников. На этом фоне скульптура Персеполя (даже делая скидку на известную архаичность методов) выглядит так, словно ее создавали узники, работавшие под стражей. Они изображали не живых людей, но только типы, творения их чужды эмоций, утомительно безлики. Греки — насквозь европейцы, персы — азиаты[11]. Правда, в VI в. до н. э. греки Анатолийского побережья довольно долго находились под самодержавной властью персов и лидийцев и действительно кое-чем обязаны были Азии. Политическая дисциплина, наложенная на них азиатским образом жизни, несколько ослабленная, впрочем, свободой мореплавания, несомненно, способствовала организации городского быта и развивала склонность к самопознанию, сложившуюся в научную систему такого уровня, какого континентальная Греция достигла только через сто лет. Что же касается искусств, то после VII в. связи с Востоком почти ничем не обогатили греческую пластику и архитектуру. Греков переполняла жажда жизни, сквозь заблуждения и грубые промахи прокладывали они свой путь к художественному совершенству. Персы же были педантичны, они познали все, они были удовлетворены, и взять у них было нечего. Не исключено, что сложные прямоствольные капители Персеполя находятся в одном ряду с капителями Старой Смирны VII в. до н. э. и Массалийской сокровищницы Дельф VI в. до н. э. и органически связаны с ними. Допустимо также видеть в них прототип более поздних капителей стоек Аттала в Афинах и некоторых других построек. Если так, то вопрос — кому все-таки принадлежала роль вдохновителей, ионянам или персам? — может стать предметом академических дискуссий. Мы оставим эти подробности и скажем еще раз, что классические художественные формы дряхлого Востока и мужающего Запада не многим обязаны друг другу. В ту весеннюю ночь 330 г. до н. э., когда пламя окрасило небо над Персеполем, македонские факелы были поднесены к давно приготовленному погребальному костру. В Персеполе погибла вся средневосточная цивилизация, для которой прошли времена творческих порывов, если она вообще испытывала их когда-нибудь. Эра великих империй, Персидской и Ассирийской, завершалась. И не случайно эти унылые бесконечные вереницы тщательно вытесанных и отполированных солдат и сикофантов по обеим сторонам дворцовых лестниц напоминают нам погребальное шествие. Тем не менее дальнейшее покажет, что это был еще не конец. Придет время, и неистощимые недра Центральной Азии вновь извергнут толпы скитальцев; мы увидим, как они явятся на персидские земли и установят новые плодотворные связи с классическим Западом. А задолго до них наследники ахеменидской культуры по странной прихоти судьбы двинутся далее на восток за Александром и там, за горами, обретут убежище, где им будет оказано неожиданное покровительство.
После пожара 1. Новые открытия в Бактрии и окрестных землях
Итак, вот что предшествовало пожару в Персеполе. Событие это означало конец исторического эпизода, который следовало бы именовать греко-персидским. Он симметричен, этот эпизод, чем отнюдь не часто дарит нас Клио. Он начался разрушительным вторжением в Европу первого Дария, первого строителя Персепольского дворца. И окончился походом европейцев на Персию в последние месяцы правления последнего Дария, а затем и грандиозным пожаром. В целом эпизод этот представляется на редкость полным и завершенным. В известной мере так оно и было. Персеполь увидел в 330 г. до н. э, конец целой эпохи. По тогда же он стал свидетелем рождения новой эпохи. В том году Александр остановился как раз на середине своего великого пути в пространстве и времени. Геллеспонт он пересек в 334 г. до н. э. Обратно из Пенджаба повернул в 326 г. Когда он достиг Персеполя, за спиной у него осталось две тысячи миль густонаселенных ближневосточных земель, а впереди лежали дне тысячи миль степей, гор, кочевий, затерянных в летучих песках, и за ними область новых, неведомых городов. Новые проблемы обступили его там, в глубине Азии; решать их должен был не столько полководец, сколько государственный деятель. Там-то и проявился во всем блеске гений Александра, над которым не властно само время. И поворотным пунктом был Персеполь. В данном случае словесное клише оправдано, ибо Персеполь — одна из важнейших вех истории. Следить за событиями после Персеполя — значит понять, в чем состояли два главных подвига Александра. Первым было включение самых далеких окраин древней персидской монархии в границы тогдашнего цивилизованного мира. Результатом первого явился второй подвиг — создание континуума цивилизаций — множественность наций и культур от Средиземноморья до Ганга. Континуум этот с тех пор никогда не распадался полностью. Мировая история не знает другого творческого акта (вплоть до открытия Америки), который был совершен так успешно за столь короткое время. Вначале мы без особых усилий обнаружим след Александра, проложенный отнюдь не по прямой, от величественных руин дворца и от места печальной кончины последнего персидского царя до пределов империи у Яксарта. Часть этого маршрута идет по неведомым землям, населенным парфянами, скифами, саками и прочими народами, другая же часть — по царским дорогам, которые провел еще Кир. На пути Александр круто поворачивает к югу, на Герат и Сеистан. Оттуда в северо-восточном направлении через Кандахар (о чем будет сказано подробнее), Кабул и Гиндукуш в Бактрию, ныне Северный Афганистан[12], где бывший сатрап Бесс, причастный к убийству Дария и похитивший царские регалии, собирал войска сопротивления. Но когда Александр приблизился, Бесс бежал на другой берег Окса. Впрочем, вскоре его схватили и доставили к Александру; он был подвергнут восточным пыткам и казнен в Экбатанах. Вина его заключалась в попытке захватить персидскую корону, которая принадлежала теперь более сильному захватчику. Александр же поспешил на Яксарт, к северной границе империи. По дороге туда он взял укрепленный высокими стенами пограничный городок Кирополь и между этим городом и рекой еще семь крепостей, основанных Киром. На берегу реки для защиты от кочующих скифов он построил двойник Кирополя — свою Александрию Дальнюю, Александрию Эсхату, нынешний Ходжент, город, который, по словам Арриана, «будет превосходно защищен от возможного нападения скифов и станет для страны оплотом против набегов живущих за рекой варваров». Александр «за 20 дней… обвел его стеной и поселил там эллинских наемников, тех из соседей-варваров, которые пожелали там поселиться, и тех македонских солдат, которые уже не годились для военной службы. Принеся, как было у него в обычае, жертву богам, он устроил празднество с гимнастическими и конными состязаниями». Так, несомненно, закладывались и все прочие Александрии. Здесь уместно вспомнить, что основой колониальной политики Александра, как впоследствии и римлян, строительство новых городов или перестройка старых по греческому образцу[13]. Он завоевывал, созидая. Он разбрасывал города, словно сеятель, предпочитая пустынные, малообжитые области Азии. Было сказано об Александрии Дальней на Яксарте, но «Дальней» или «Последней» называлась она только потому, что Александр признал персидскую границу вдоль Сырдарьи границей своих завоеваний на северо-востоке. Географически же самая дальняя Александрия заложена в 426 г. до н. э., когда Александр на последней стадии своего похода перевалил Гиндукуш и проник в глубину Пенджаба. Там, на левом берегу реки Джелам, была основана Александрия Букефалия в память знаменитого боевого коня Букефала. Точная дата основания города не установлена. Плутарх сообщает, что Македонец построил более 70 городов. Верна ли эта цифра, трудно сказать, однако можно не сомневаться, что число их было велико. То были города греческого типа, как Египетская Александрия и Александрия Эсхата, и перестроенные туземные или поставленные рядом со старым городом, как, вероятно, Новые Бактры. Были также пришедшие вскоре в запустение гарнизонные городки, небольшие крепости, находившиеся (впрочем, не всегда) поблизости от местных селений. Достопочтенный Вильям Тарн с помощью сложной и совершенно ненужной аргументации доказывал, что такой крепостцою был Кандахар, и, хотя общеизвестно, что в имени этом зашифровано древнее подлинное название — Александрия, понизил его до Александрополя, неосновательно утверждая, что упомянутый город «не мог быть основан Александром», а был «в лучшем случае простым военным поселением». Не тратя лишних слов, я ставлю здесь точку и обращаюсь к новым научным данным, которыми, к сожалению, не располагал Тарн, когда писал цитированные выше строки. Эта Александрия была построена если не на месте Кандахара, то невдалеке от него, в Арахозии, теперешнем Белуджистане, обширном районе, ограниченном с юга гористыми увалами Кветты. На основании догадок, которые не стоит приводить здесь, Тарн уверяет, что город, «без всякого сомнения», заложен был в Газни, милях в двухстах северо-восточнее Кандахара. Никаких археологических находок, подтверждающих существование Александрии-Газни, не обнаружено, что естественно, поскольку систематических поисков там никто не вел. Между тем в отвергнутом сэром Тарном Кандахаре были обнаружены в 1958 и в 1963 гг. две очень интересные надписи, и это заставляет взглянуть на дело с новой стороны. Обе надписи содержат титул великого буддийского монарха Ашоки из династии Маурьев, который правил большей частью Индии примерно с 268 по 233 гг. до н. э. На северо-западе владения его включали Арахозию, пограничную область, отданную преемником Александра Селевком первому царю из династии Маурьев — Чандрагупте, внуком которого был Ашока. Чтобы определить место этих надписей в череде исторических событий, нужно вспомнить, что Ашока, царь с душою святого фанатика, начал свое правление тем, что уничтожил в Ориссе сотни тысяч ни в чем не повинных людей, а потом, приняв буддизм, с таким же рвением бросился в филантропические предприятия, беспощадно осыпая благодеяниями своих подданных и соседей. Первая из надписей — билингва, выбитая на камне по-гречески и по-арамейски. Арамейский был государственным языком ахеменидской Персии и в надписи, оставленной в этих краях, вполне уместен. Греческий, однако, занял две трети надписи; это законченный текст из 14 строк. Арамейский текст начертан менее крупными буквами, также закончен и составляет восемь строк. Этот двуязычный памятник не датирован, но его содержание прямо связано с отдельными статьями четырнадцати больших наскальных эдиктов, которые император-буддист позаботился распространить по всей своей огромной империи, и особенно в ее северных и северо-западных областях, около 255 г. до н. э. Анализ великолепных строгих литер греческого текста, сделанный Луи Робером, дает основание говорить о той же дате — III в. до н. э. с некоторым смещением к середине столетия. Язык и стиль бесспорно и последовательно эллинистичны, а манера соединять фразы словечком kai «и» ость обычная условность языка эллинского жречества. Перед нами подлинная Эллада in partibus. Наш вывод, однако, не распространяется на смысл воззвания — а это именно воззвание. В нем выражены понятия Востока, а не Запада, индийские понятия. Тексты гласят: «Миновало десятилетие, и царь Пиядаси (т. е. «Благодатный», один из титулов Ашоки) явил народам благочестие. И тем подвигнул народы к добродетели, и все процвело окрест. И царь не посягал более на жизнь существ, и все иные, даже царские охотники и рыбаки, не смели убивать. И те, кто от рождения не умел владеть собой, ныне одолевают слабость свою по мере сил своих. И послушны отцу и матери и старшим своим против прежнего обычая. И впредь, поступая так, будут жить во благе и удостоятся похвалы во всем». Дух умиротворенного всеобъемлющего бескорыстия, по существу негативного, царил на родине Будды. Переводчик-экспатриант не сумел высказать его во всей полноте на своем сжатом и энергичном греческом языке. С помощью типично западной фразеологии он дал скорее толкование, нежели зеркальное отражение санскритского или пракритского оригинала, несомненно лежавшего перед ним. Но пусть содержание насквозь восточное — форма текста истинно греческая. Заключительные его слова, как отмечал Луи Робер, воспроизводят традиционное благословение, которым приветствовали свою клиентуру эллинские прорицатели, что известно по эпическим и литературным примерам. То же и в соседней, более многословной, арамейской версии. Здесь на языке ахеменидской бюрократии с небольшими, но существенными вариациями вновь сказано о сострадании, милосердии, на сей раз применительно к персидскому мышлению. Дюпон-Соммер указывает, что этот текст несколько ближе, чем греческий, к индийскому оригиналу (и не удивительно!), но составлен так, чтобы его могли понять на местах. Таковы все эдикты Ашоки. С греками или ионами он говорил на прекрасном греческом языке, с персами — как персидский чиновник на старорежимном lingua franca, который все еще существовал в этой стране многих наречий. Так или иначе, билингва на скале близ Кандахара демонстрирует убедительно и не без пафоса сложный состав культуры этой области три четверти века спустя после Александра. Тут греки с их наиболее совершенным общественным строем, который оставался неизменно греческим даже вдали от родины[14], даже под воздействием чуждой и могучей философии. Тут персы, которые не менее решительно, чем греки, утверждали свое понимание традиции и стиля. И за всем этим Индия со своей догматичной, но благотворной этикой, выработанной на основе того учения, что первым в истории приобрело вселенский характер. Привычное противопоставление греческого «иноземному», или «варварскому», готово было исчезнуть. Мы видим, как возникает на его месте (в этом районе мира, несомненно, благодаря политическому давлению режима Маурьев) новый сплав национальных культур. В целом это один из счастливых и разумных моментов истории человечества и человечности. Сеть и еще документ. В 1963 г. в Старом Кандахаре был найден в развалинах строительный камень с надписью (рис. 10). Надпись представляет собою двадцать две длинные строки греческого письма, срезанные со всех четырех сторон, что, однако, не помешало узнать и в этом тексте парафраз двух статей больших наскальных эдиктов царя Ашоки, а именно XII и XIII. Надпись, несомненно, украшала стену какого-то общественного здания. Но сопутствовала ли ей, как в надписи 1958 г., арамейская версия, неизвестно. Перевод ее выглядит так:«…благочестие и умение владеть всеми школами мысли; кто овладеет своим языком, тот овладеет собою. И пусть не восхваляют себя и не позорят ближних своих, ибо это суета. Пусть поступают по правилу и возвысят себя и узнают любовь ближних своих. И если не будут поступать так, унизят себя и восстанут на них ближние. Те, кто восхваляют себя и хулят других, те своекорыстны и хотят стать отдельно от всех и не знают, что причинили вред себе. Подобает воздать друг другу должное и научиться друг у друга. Подобает высказывать понимание во всех поступках и делить с другими то, что узнали сами. И тем, кто поступает так, следует сказать все это, дабы и впредь хранили благочестие во всех делах. На восьмом году царствования Пиядаси он завоевал Калингу. Сто пятьдесят тысяч было захвачено и уведено и плен, сто тысяч было убито и почти столько же умерло. И вот жалость и сострадание овладели им, и он испытал жестокую муку. Повсюду он велел воздерживаться от живых существ, он явил рвение, и благочестие распространилось. И тогда с досадой увидел царь: среди брахманов, и шраманов, и других, взыскующих благочестия, которые живут там (в Калинге, — М. У.), а им подобает радеть о нуждах царя, почитать и уважать наставника своего, отца и матерь своих подобает любить и хранить верность друзьям своим и сотоварищам, и быть кроткими с низшими людьми и рабами своими, — если среди таких людей кто умер или был уведен в плен, и оставшиеся не были этим огорчены, царь подумал, что это очень нехорошо. И среди других людей…» Как мы видели, фрагмент начинается оборванной фразой, в которой упомянуты школы мысли, что выражено словом diatribe; для грека это значило «философская школа». О точном смысле этого слова в буддизме Ашоки можно лишь догадываться, но, как и многое в этих двух надписях, оно, должно быть, звучало привычно для греческого слуха. Далее текст осуждает бахвальство и умаление достоинств ближнего и рекомендует уважать друг друга. Все это прекрасно передано по-гречески, хотя настойчивое морализирование имеет своим источником индийское миропонимание.
Затем Ашока (Пиядаси) предается безудержной скорби несколько мазохистского оттенка по поводу ужасов и убийств во время его кампании против Калинги в Восточной Индии. Жалость и сострадание овладели им, он обратился в буддизм и стал вегетарианцем, что вполне подходило к индийскому образу жизни. Тема скорби сопровождается каталогом добродетелей, который включает уважение к властям и родителям и предписывает быть «кроткими с низшим и людьми и рабами своими» — примечательный факт, поскольку гуманность такого рода едва ли была известна Европе вплоть до падения Римской империи. Словом, содержание и этой надписи отсылает нас прямо на Восток III в. до н. э., но переводчик сделал все, чтобы приспособить индийские понятия к традиционной греческой фразеологии.
Именно «греческое» в текстах поражает читателя. Луи Робер, давая оценку обеим надписям, отметил, что стойкое культурное единство обширного эллинистического мира в III в. до н. э. было явлением поразительным. Эти две надписи, обнаруженные в глубине Азии, хотя и знаменуют появление новых и сугубо восточных идей, однако не содержат и намека на упадок или провинциальность греческой формы выражения. Стиль их свободен, по-эллински лаконичен и четок, несмотря на известную склонность к повторам, уместным в настенной надписи, где нужно подчеркнуть главную мысль, сделать ее доступной для читателя массового и более или менее случайного. Словарь полностью основан на греческой литературной и философской традиции и без всякого напряжения передает понятия индийского прототипа.
Таким образом, можно смело допустить, что на месте Старого Кандахара существовала полноценная Александрия. Не временный пост — полустертый след ушедшей армии, но развитый греческий город, где были свои литераторы и мыслители, и, разумеется, чиновники, окруженные растущим эллинизированным туземным населением, возможно теми самыми камбоджами, упомянутыми в XIII эдикте Ашоки. Вероятно, название «Александрия» не пережило Селевкидов, преемников великого полководца. Тщеславие нередко заставляло позднейших властителей переименовывать города, заложенные Александром, и арахозийская Александрия, возможно, превратилась в Деметрию Арахозийскую, локализованную здесь в I в. до н. э. географом Исидором из Харакса, который пользовался еще более ранними источниками. К I в. до н. э. город, видимо, был вполне удовлетворен усеченным именем, повторяющим название провинции Арахозия (Плиний, VI, 92). Но ведь и сами Бактры, столица Бактрии, и Термез, лежащий по ту сторону Окса, столь же мало помнили свое царственное происхождение. Все это возможно и любопытно в связи с историей нравов или моды, но, к сожалению, слабо увязано с фактами Истории.
Мы обратимся к подтверждениям иного рода. Кроме искусно отчеканенных монет индийских и бактрийских греков, надписи Кандахара вплоть до 1965 г. были единственным материальным свидетельством, указывающим на продвижение Александра восточнее Персеполя. Весьма важным историческим пунктом его пути (и первостепенным для всего восточного эллинизма) стали именно Бактры, расположенные у высохшего ныне притока Окса в северной части Гиндукуша, на степных, некогда плодородных равнинах теперешнего Афганского Туркестана. В этом центре сатрапии ахеменидских времен или неподалеку Александр построил одну из своих знаменитых столиц, которая около 208 г. до н. э. была в состоянии целых два года сопротивляться натиску Антиоха III, а в наши дни представлена городком Балх и семью милями пыльных оплывших бугров, среди которых возвышается древняя цитадель. Здесь никогда не вели достаточно основательных раскопок; предполагаемый греческий слой не был вскрыт, хотя некоторые случайные находки определены как эллинистические. Керамика того же, вероятно, времени попадалась в Шахри-Бану, в долине Окса севернее Ташкургана. Гораздо более важно, что в каких-нибудь сорока милях к северу от Балха, на другом берегу Окса круто поднимаются высокие холмы — еще одной возможной Александрии, основанной на месте доалександровской Тарматы, или Тармиты (это имя возродилось по прошествии веков в названии современного Термеза). В течение ряда лег здесь ведут раскопки русские археологи, но результаты их работ пока что малоизвестны[15]. Таким образом, можно сказать, что никто еще не бросил решительный вызов пустоте и безмолвию, которые царят здесь в наши дни.
И вот появились признаки долгожданных перемен. В 1961 г., как рассказывает профессор Даниэль Шлюмберже, король Афганистана охотился у северных границ своего государства. Там ему показали два обработанных камня, которые он счел необычными. Одни из них представлял собою капитель большой коринфской колонны, другой — небольшую базу или, может быть, алтарь. Оба найдены были в пустынной местности вблизи селения Ай-Ханум (по-узбекски «Госпожа Луна»), у реки Окс, там, где в нее впадает приток Кокча, милях в сорока к северо-востоку от Кундуза. Позднее, в Кабуле, король сообщил об этом профессору Шлюмберже, и в 1962 г. во Французской археологической миссии были сделаны обмеры и описание камней.
Все шло прекрасно. Коринфская капитель была первым бесспорным фрагментом каменной колонны классического типа, найденной в древней Бактрин. Кроме того, величина капители указывала на значительные размеры здания, в котором она находилась. Важность этого поистине королевского открытия была очевидна; следовало сделать дальнейшие шаги, но тут возникли затруднения. Окс является границей между Афганистаном и Советским Союзом, который в этом районе занимает выгодную позицию на береговых откосах. Вполне понятно, что афганский пониженный берег — это военная зона, где археологические раскопки не поощряются.
Все же на исходе 1963 г. переговоры в самых высоких сферах оказали свое влияние, и Шлюмберже и его архитектор Марк Ле Берр получили разрешение провести на месте находок два часа. Там они мгновенно оценили значение этого открытия. В сгустившихся сумерках их взорам явился призрак эллинистического города, погребенного под слоями лёсса. После года колебаний исследователям была предоставлена возможность вернуться на городище, теперь уже небольшой группой, и пробыть там десять дней. Эта короткая разведка «вглубь» подтвердила первое впечатление. Археологи увидели отлично сохранившийся укрепленный город, форпост греческого мира. Наконец-то воочию открылось дело рук самого Александра или по крайней мере одного из непосредственных его преемников — обширный город, занимающий великолепную стратегическую позицию у Северо-восточных ворот в Бактрию. И раскопки 1965–1966 гг. под руководством Поля Бернара, который стал директором Французской археологической миссии после ухода в отставку профессора Шлюмберже, полностью подтвердили предположения первооткрывателей.
Как мы видели, фрагмент начинается оборванной фразой, в которой упомянуты школы мысли, что выражено словом diatribe; для грека это значило «философская школа». О точном смысле этого слова в буддизме Ашоки можно лишь догадываться, но, как и многое в этих двух надписях, оно, должно быть, звучало привычно для греческого слуха. Далее текст осуждает бахвальство и умаление достоинств ближнего и рекомендует уважать друг друга. Все это прекрасно передано по-гречески, хотя настойчивое морализирование имеет своим источником индийское миропонимание.
Затем Ашока (Пиядаси) предается безудержной скорби несколько мазохистского оттенка по поводу ужасов и убийств во время его кампании против Калинги в Восточной Индии. Жалость и сострадание овладели им, он обратился в буддизм и стал вегетарианцем, что вполне подходило к индийскому образу жизни. Тема скорби сопровождается каталогом добродетелей, который включает уважение к властям и родителям и предписывает быть «кроткими с низшим и людьми и рабами своими» — примечательный факт, поскольку гуманность такого рода едва ли была известна Европе вплоть до падения Римской империи. Словом, содержание и этой надписи отсылает нас прямо на Восток III в. до н. э., но переводчик сделал все, чтобы приспособить индийские понятия к традиционной греческой фразеологии.
Именно «греческое» в текстах поражает читателя. Луи Робер, давая оценку обеим надписям, отметил, что стойкое культурное единство обширного эллинистического мира в III в. до н. э. было явлением поразительным. Эти две надписи, обнаруженные в глубине Азии, хотя и знаменуют появление новых и сугубо восточных идей, однако не содержат и намека на упадок или провинциальность греческой формы выражения. Стиль их свободен, по-эллински лаконичен и четок, несмотря на известную склонность к повторам, уместным в настенной надписи, где нужно подчеркнуть главную мысль, сделать ее доступной для читателя массового и более или менее случайного. Словарь полностью основан на греческой литературной и философской традиции и без всякого напряжения передает понятия индийского прототипа.
Таким образом, можно смело допустить, что на месте Старого Кандахара существовала полноценная Александрия. Не временный пост — полустертый след ушедшей армии, но развитый греческий город, где были свои литераторы и мыслители, и, разумеется, чиновники, окруженные растущим эллинизированным туземным населением, возможно теми самыми камбоджами, упомянутыми в XIII эдикте Ашоки. Вероятно, название «Александрия» не пережило Селевкидов, преемников великого полководца. Тщеславие нередко заставляло позднейших властителей переименовывать города, заложенные Александром, и арахозийская Александрия, возможно, превратилась в Деметрию Арахозийскую, локализованную здесь в I в. до н. э. географом Исидором из Харакса, который пользовался еще более ранними источниками. К I в. до н. э. город, видимо, был вполне удовлетворен усеченным именем, повторяющим название провинции Арахозия (Плиний, VI, 92). Но ведь и сами Бактры, столица Бактрии, и Термез, лежащий по ту сторону Окса, столь же мало помнили свое царственное происхождение. Все это возможно и любопытно в связи с историей нравов или моды, но, к сожалению, слабо увязано с фактами Истории.
Мы обратимся к подтверждениям иного рода. Кроме искусно отчеканенных монет индийских и бактрийских греков, надписи Кандахара вплоть до 1965 г. были единственным материальным свидетельством, указывающим на продвижение Александра восточнее Персеполя. Весьма важным историческим пунктом его пути (и первостепенным для всего восточного эллинизма) стали именно Бактры, расположенные у высохшего ныне притока Окса в северной части Гиндукуша, на степных, некогда плодородных равнинах теперешнего Афганского Туркестана. В этом центре сатрапии ахеменидских времен или неподалеку Александр построил одну из своих знаменитых столиц, которая около 208 г. до н. э. была в состоянии целых два года сопротивляться натиску Антиоха III, а в наши дни представлена городком Балх и семью милями пыльных оплывших бугров, среди которых возвышается древняя цитадель. Здесь никогда не вели достаточно основательных раскопок; предполагаемый греческий слой не был вскрыт, хотя некоторые случайные находки определены как эллинистические. Керамика того же, вероятно, времени попадалась в Шахри-Бану, в долине Окса севернее Ташкургана. Гораздо более важно, что в каких-нибудь сорока милях к северу от Балха, на другом берегу Окса круто поднимаются высокие холмы — еще одной возможной Александрии, основанной на месте доалександровской Тарматы, или Тармиты (это имя возродилось по прошествии веков в названии современного Термеза). В течение ряда лег здесь ведут раскопки русские археологи, но результаты их работ пока что малоизвестны[15]. Таким образом, можно сказать, что никто еще не бросил решительный вызов пустоте и безмолвию, которые царят здесь в наши дни.
И вот появились признаки долгожданных перемен. В 1961 г., как рассказывает профессор Даниэль Шлюмберже, король Афганистана охотился у северных границ своего государства. Там ему показали два обработанных камня, которые он счел необычными. Одни из них представлял собою капитель большой коринфской колонны, другой — небольшую базу или, может быть, алтарь. Оба найдены были в пустынной местности вблизи селения Ай-Ханум (по-узбекски «Госпожа Луна»), у реки Окс, там, где в нее впадает приток Кокча, милях в сорока к северо-востоку от Кундуза. Позднее, в Кабуле, король сообщил об этом профессору Шлюмберже, и в 1962 г. во Французской археологической миссии были сделаны обмеры и описание камней.
Все шло прекрасно. Коринфская капитель была первым бесспорным фрагментом каменной колонны классического типа, найденной в древней Бактрин. Кроме того, величина капители указывала на значительные размеры здания, в котором она находилась. Важность этого поистине королевского открытия была очевидна; следовало сделать дальнейшие шаги, но тут возникли затруднения. Окс является границей между Афганистаном и Советским Союзом, который в этом районе занимает выгодную позицию на береговых откосах. Вполне понятно, что афганский пониженный берег — это военная зона, где археологические раскопки не поощряются.
Все же на исходе 1963 г. переговоры в самых высоких сферах оказали свое влияние, и Шлюмберже и его архитектор Марк Ле Берр получили разрешение провести на месте находок два часа. Там они мгновенно оценили значение этого открытия. В сгустившихся сумерках их взорам явился призрак эллинистического города, погребенного под слоями лёсса. После года колебаний исследователям была предоставлена возможность вернуться на городище, теперь уже небольшой группой, и пробыть там десять дней. Эта короткая разведка «вглубь» подтвердила первое впечатление. Археологи увидели отлично сохранившийся укрепленный город, форпост греческого мира. Наконец-то воочию открылось дело рук самого Александра или по крайней мере одного из непосредственных его преемников — обширный город, занимающий великолепную стратегическую позицию у Северо-восточных ворот в Бактрию. И раскопки 1965–1966 гг. под руководством Поля Бернара, который стал директором Французской археологической миссии после ухода в отставку профессора Шлюмберже, полностью подтвердили предположения первооткрывателей.
 Город, планировка которого определена выбором места, расположен в углу между рекой Окс и ее притоком и делится на две основные части — верхний город, или акрополь, на скалистом, покрытом слоем грунта треугольном плато в милю длиной, и нижний город, построенный на рыхлых почвах, перемешанных с гравием (рис. 11). Эта часть города достигала речных берегов на западе и юге и простиралась к северу почти на тысячу ярдов дальше плато. Этот северный конец — единственная часть города, не имеющая естественного прикрытия, — был укреплен стеной с прямоугольными, часто поставленными башнями, каждая около 65 футов в ширину. Перед стеной вырыт был ров с перемычкой перед центральными воротами. Верхний город, поднимавшийся над нижним футов на 130, также имел некоторое количество укреплений вдобавок к своим обрывистым склонам; южный его угол отрезан был широким рвом, и здесь располагалась цитадель. К северу от рва плато делили две поперечные стены, их оборонительное значение, по-видимому, невелико. По краям верхнего города сохранились следы подземного водопровода, который снабжался водами реки Кокча там, где она выходит на равнину, примерно в девяти милях к юго-востоку.
Внутри нижнего города главная улица проложена от ворот северной стены к берегу реки Кокча на юге. Южные ворота смыты, видимо, речным разливом. Восточнее главной улицы у подножия акрополя открыта полукруглая пониженная площадка, которая отмечает, как можно думать, место театра. Возможно, продолговатая впадина к западу от главной улицы представляет собою стадион, хотя обычно стадионы устраивали вне городских укреплений. А крупные возвышения неподалеку — это, вероятно, руины общественных зданий. Далее на юг располагались, по-видимому, жилые кварталы; отсутствие их следов в северной части может означать, что здесь, под защитой стен, укрывались во время осад беженцы из пригородных селений со своим скотом.
Город, планировка которого определена выбором места, расположен в углу между рекой Окс и ее притоком и делится на две основные части — верхний город, или акрополь, на скалистом, покрытом слоем грунта треугольном плато в милю длиной, и нижний город, построенный на рыхлых почвах, перемешанных с гравием (рис. 11). Эта часть города достигала речных берегов на западе и юге и простиралась к северу почти на тысячу ярдов дальше плато. Этот северный конец — единственная часть города, не имеющая естественного прикрытия, — был укреплен стеной с прямоугольными, часто поставленными башнями, каждая около 65 футов в ширину. Перед стеной вырыт был ров с перемычкой перед центральными воротами. Верхний город, поднимавшийся над нижним футов на 130, также имел некоторое количество укреплений вдобавок к своим обрывистым склонам; южный его угол отрезан был широким рвом, и здесь располагалась цитадель. К северу от рва плато делили две поперечные стены, их оборонительное значение, по-видимому, невелико. По краям верхнего города сохранились следы подземного водопровода, который снабжался водами реки Кокча там, где она выходит на равнину, примерно в девяти милях к юго-востоку.
Внутри нижнего города главная улица проложена от ворот северной стены к берегу реки Кокча на юге. Южные ворота смыты, видимо, речным разливом. Восточнее главной улицы у подножия акрополя открыта полукруглая пониженная площадка, которая отмечает, как можно думать, место театра. Возможно, продолговатая впадина к западу от главной улицы представляет собою стадион, хотя обычно стадионы устраивали вне городских укреплений. А крупные возвышения неподалеку — это, вероятно, руины общественных зданий. Далее на юг располагались, по-видимому, жилые кварталы; отсутствие их следов в северной части может означать, что здесь, под защитой стен, укрывались во время осад беженцы из пригородных селений со своим скотом.
 Раскопки общественных сооружений нижнего города уже открыли большой прямоугольный двор, 450 на 360 футов, окаймленный портиками и коринфской колоннадой, за которыми идет кирпичная стена с пилястрами того же ордера, что и колонны перед ними. На северной стороне двора были монументальные ворота, также с коринфскими колоннами, но базы у этих колонн персидского типа, с одним толстым тором («поперечиной») на квадратном плоском основании, вроде тех, что находили в Персеполе (рис. 12). С южной стороны из-за преобладающих здесь ветров портик был выше и глубже (как во дворах, которые Витрувий называет «родосскими») и открывался на юг в большой гипостильный зал[16] (тоже, видимо, персидская особенность) с восемнадцатью коринфскими колоннами, поставленными в три ряда по шесть колонн в каждом. У этих колонн типичные аттическо-азиатские базы с двумя валиками, верхним и нижним, и круговым желобом между ними, тогда как их капители в некоторых чертах родственны селевкидским II в. до н. э. (рис. 13). Стены двора были окрашены и декорированы медальонами из необожженной глины с рельефными львиными головами. Кровли выстланы оранжевой черепицей высокого качества и того особого типа, который, как заметил Поль Бернар, напоминает эллинистическую черепицу Приены, Ольвии, Олинфа. Вообще все архитектурные детали расписаны ярко в зеленый, желтый, красный, черный и белый цвета; найдены и фрагменты глиняных статуй, окрашенные в телесные тона. Сооружение это, возможно, было агорой[17], или рыночной площадью.
Раскопки общественных сооружений нижнего города уже открыли большой прямоугольный двор, 450 на 360 футов, окаймленный портиками и коринфской колоннадой, за которыми идет кирпичная стена с пилястрами того же ордера, что и колонны перед ними. На северной стороне двора были монументальные ворота, также с коринфскими колоннами, но базы у этих колонн персидского типа, с одним толстым тором («поперечиной») на квадратном плоском основании, вроде тех, что находили в Персеполе (рис. 12). С южной стороны из-за преобладающих здесь ветров портик был выше и глубже (как во дворах, которые Витрувий называет «родосскими») и открывался на юг в большой гипостильный зал[16] (тоже, видимо, персидская особенность) с восемнадцатью коринфскими колоннами, поставленными в три ряда по шесть колонн в каждом. У этих колонн типичные аттическо-азиатские базы с двумя валиками, верхним и нижним, и круговым желобом между ними, тогда как их капители в некоторых чертах родственны селевкидским II в. до н. э. (рис. 13). Стены двора были окрашены и декорированы медальонами из необожженной глины с рельефными львиными головами. Кровли выстланы оранжевой черепицей высокого качества и того особого типа, который, как заметил Поль Бернар, напоминает эллинистическую черепицу Приены, Ольвии, Олинфа. Вообще все архитектурные детали расписаны ярко в зеленый, желтый, красный, черный и белый цвета; найдены и фрагменты глиняных статуй, окрашенные в телесные тона. Сооружение это, возможно, было агорой[17], или рыночной площадью.

 Исследованы, полностью или частично, еще две постройки; в обеих обнаружены греческие надписи. Первая из этих построек находилась в северной части города недалеко от берега Окса и тоже представляла собой обширный двор — палестру или, может быть, гимнасий, типично греческие учебные заведения, где молодежь эллинистического мира тренировала свой разум и одновременно свои мышцы, то есть получала образование в самом широком смысле слова, смысле, который содержится в почти непереводимом понятии paideia. Такого рода учреждения находились под высоким покровительством Гермеса и Геракла, бога интеллекта и бога физической мощи, и вполне естественно, что надписи, обнаруженные там, были посвящены им.
Не менее примечательной оказалась и другая постройка. Приблизительно в 40 ярдах от первого, описанного нами, двора было открыто небольшое храмоподобное здание, которое, несомненно, правильно определили как геройон — место торжественного погребения некоего весьма значительного лица, вероятно действительного или легендарного основателя города. Такой же, например, символический характер имела знаменитая могила царя Батта, который якобы основал по совету Дельфийского оракула город Кирену в Северной Африке; на агоре, то есть на базарной площади этого великого города, сохранялось его надгробие. Именно так и, видимо, только так можно объяснить присутствие столь пышной гробницы внутри эллинистического города. Героем или гением Ай-Ханум был ничем более не известный Киней; имя его упомянуто в надписи, речь о которой пойдет далее.
Геройон, судя по описанию, трижды перестраивался, сохраняя, хотя и с некоторыми отклонениями, первоначальную планировку. Это целла, или святилище, и пронаос, вестибюль, открытый на восток, с двумя деревянными на каменных базах колоннами. Вся постройка помещалась на ступенчатом основании, как гробница Кира в Пасаргадах (рис. 5). Под полами целлы, расположенными один над другим, были обнаружены четыре захоронения, два в простых саркофагах и два в склепах, выложенных обожженным кирпичом. Все они опустошены грабителями, только в одном из последних сохранились скелет и останки деревянного гроба, но погребальная утварь отсутствует. Первым, очевидно, был захоронен нижний саркофаг, принадлежавший тому герою, в честь которого была воздвигнута гробница.
В пронаосе третьего, последнего, строительного периода был каменный постамент с глубокой выемкой на верхней стороне. Спереди, на стороне, обращенной к входу, вырезаны две надписи. Они помещены рядом и, вероятно, выбиты в одно время. По характеру письма их можно датировать III в. до н. э. Поль Бернар определяет левую надпись как «короткую эпиграмму из двух элегических двустиший, составленных на архаичном литературном языке. Она сообщает, что некий Клеарх начертал в теменосе[18] Кинея прорицания священной пифии[19] в Дельфах, где он (Клеарх) скопировал их». В геройоне изречения Дельфийского оракула были выбиты на стеле, которая не сохранилась, но строки последнего из них, не уместившись на стеле, перешли на постамент. Начертанное монументальными литерами, изречение оказалось рядом с эпиграммой Клеарха, справа от нее. Эта правая надпись восхваляет человека, обретающего важнейшие свои качества на различных ступенях жизни[20]. Дельфийские изречения подобного рода известны по литературным источникам, а также по эпиграфическим копиям из Милета в Анатолии. П. Бернар говорит, что «открытие их на берегу Окса, за пять тысяч километров (по прямой) от Дельф, есть поразительное свидетельство верности греческих поселенцев в далекой Бактрии самым подлинным и самым древним традициям Эллады». Добавим, что характерные интонации оракула, отмеченные в греческой надписи из Кандахара, здесь выражены еще ярче и определеннее.
Исследованы, полностью или частично, еще две постройки; в обеих обнаружены греческие надписи. Первая из этих построек находилась в северной части города недалеко от берега Окса и тоже представляла собой обширный двор — палестру или, может быть, гимнасий, типично греческие учебные заведения, где молодежь эллинистического мира тренировала свой разум и одновременно свои мышцы, то есть получала образование в самом широком смысле слова, смысле, который содержится в почти непереводимом понятии paideia. Такого рода учреждения находились под высоким покровительством Гермеса и Геракла, бога интеллекта и бога физической мощи, и вполне естественно, что надписи, обнаруженные там, были посвящены им.
Не менее примечательной оказалась и другая постройка. Приблизительно в 40 ярдах от первого, описанного нами, двора было открыто небольшое храмоподобное здание, которое, несомненно, правильно определили как геройон — место торжественного погребения некоего весьма значительного лица, вероятно действительного или легендарного основателя города. Такой же, например, символический характер имела знаменитая могила царя Батта, который якобы основал по совету Дельфийского оракула город Кирену в Северной Африке; на агоре, то есть на базарной площади этого великого города, сохранялось его надгробие. Именно так и, видимо, только так можно объяснить присутствие столь пышной гробницы внутри эллинистического города. Героем или гением Ай-Ханум был ничем более не известный Киней; имя его упомянуто в надписи, речь о которой пойдет далее.
Геройон, судя по описанию, трижды перестраивался, сохраняя, хотя и с некоторыми отклонениями, первоначальную планировку. Это целла, или святилище, и пронаос, вестибюль, открытый на восток, с двумя деревянными на каменных базах колоннами. Вся постройка помещалась на ступенчатом основании, как гробница Кира в Пасаргадах (рис. 5). Под полами целлы, расположенными один над другим, были обнаружены четыре захоронения, два в простых саркофагах и два в склепах, выложенных обожженным кирпичом. Все они опустошены грабителями, только в одном из последних сохранились скелет и останки деревянного гроба, но погребальная утварь отсутствует. Первым, очевидно, был захоронен нижний саркофаг, принадлежавший тому герою, в честь которого была воздвигнута гробница.
В пронаосе третьего, последнего, строительного периода был каменный постамент с глубокой выемкой на верхней стороне. Спереди, на стороне, обращенной к входу, вырезаны две надписи. Они помещены рядом и, вероятно, выбиты в одно время. По характеру письма их можно датировать III в. до н. э. Поль Бернар определяет левую надпись как «короткую эпиграмму из двух элегических двустиший, составленных на архаичном литературном языке. Она сообщает, что некий Клеарх начертал в теменосе[18] Кинея прорицания священной пифии[19] в Дельфах, где он (Клеарх) скопировал их». В геройоне изречения Дельфийского оракула были выбиты на стеле, которая не сохранилась, но строки последнего из них, не уместившись на стеле, перешли на постамент. Начертанное монументальными литерами, изречение оказалось рядом с эпиграммой Клеарха, справа от нее. Эта правая надпись восхваляет человека, обретающего важнейшие свои качества на различных ступенях жизни[20]. Дельфийские изречения подобного рода известны по литературным источникам, а также по эпиграфическим копиям из Милета в Анатолии. П. Бернар говорит, что «открытие их на берегу Окса, за пять тысяч километров (по прямой) от Дельф, есть поразительное свидетельство верности греческих поселенцев в далекой Бактрии самым подлинным и самым древним традициям Эллады». Добавим, что характерные интонации оракула, отмеченные в греческой надписи из Кандахара, здесь выражены еще ярче и определеннее.
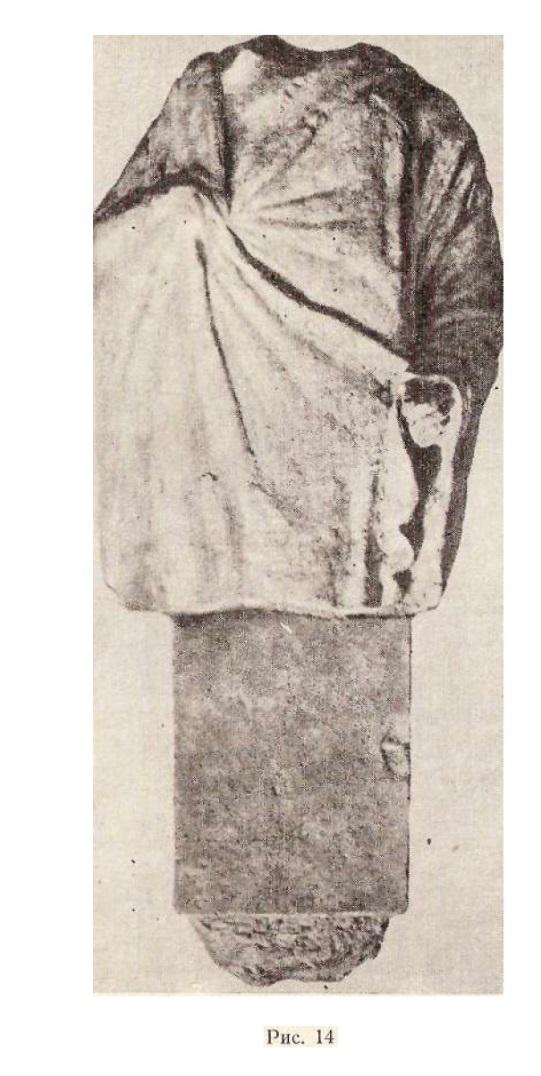
 В том же пронаосе обнаружена первая среди известных нам греко-бактрийская скульптура. Это герма, изображающая бородатого старца, увенчанного диадемой священнослужителя или важного должностного лица (рис. 14, 15). Правая его рука скрыта в складках свободной одежды, левая прежде держала какой-то бронзовый предмет. Весьма возможно, что герма — скульптурный портрет. Исполненный на достаточно высоком эллинистическом уровне, он может считаться вехой в бактрийском искусстве, и мы еще вспомним его, когда позднее перейдем к проблемам искусства Гандхары (см. ниже).
Итак, уже на первом этапе раскопок Ай-Ханум представляется историческим и художественным памятником исключительной важности. Он создан отважными, восприимчивыми и, кроме того, цивилизованными пионерами на далекой окраине Евразийского мира. В его сердце, в гробнице возможного основателя города, провозглашены дельфийские этические принципы. Его постройки, обильно украшенные скульптурой, ярко расцвеченные, возводились по западным канонам, хотя восточное окружение внесло свою долю — это и упомянутые уже неклассические торовидные базы колонн, и крылатые псевдопальметты в орнаменте кровель, намекающие на азиатское, точнее, ахеменидское влияние. Дальнейшие работы, несомненно, покажут место и значение подобных гибридных элементов, но в любом случае они останутся второстепенными по сравнению со всеобъемлющим эллинизмом этого выдающегося памятника[21]. Уже теперь можно говорить о существовании там греческих философов, жрецов, ремесленников. Кувшины для вина и масла, явно местного производства, помечены печатью агоранома, т. е. управляющего рынком. Так было и в греческих городах Причерноморья и Ближнего Востока. Мы не впадем в преувеличение, если выскажем уверенность, что со временем здесь будет обнаружено почти все, имеющее касательство к жизни эллинистического города.
К сожалению, пока невозможно ответить на два основных и, вероятно, связанных друг с другом вопроса: когда был основан город и как он назывался? Был ли Ай-Ханум одной из Александровых Александрий? Если так, то первоначально город должен был носить его имя, каковы бы ни были дальнейшие перемены. Поль Бернар склонен считать Ай-Ханум птолемеевской Александрией-на-Оксе, отнимая это имя у Термеза, которому подарил его Тарн. Может быть, Бернар прав, но пока нет, кажется, подтверждении, что город в Ай-Хануме существовал уже в IV в. до н. э. Если дельфийская надпись правильно датирована первой половиной III в. до н. э., можно допустить, что предполагаемый основатель города, Киней, действовал от имени Селевка I (312–281 гг. до н. э.) или его преемника Антиоха I (281–261 гг. до н. э.), которым достались азиатские земли, покоренные Александром. При этих властителях Бактрия была сатрапией или провинцией Селевкидского царства и управлялась, по крайней мере номинально, сначала из Селевкии на Тигре, а потом из новой столицы, Антиохии Сирийской. Но провинция на Оксе находилась слишком далеко от обоих центров, и сомнительно, чтобы три четверти века спустя после смерти Александра в Бактрии стали закладывать города такого размаха, как Ай-Ханум, сколь бы выгодным ни казалось стратегическое положение. Для этого, надо полагать, нужны были новые стимулы, которые не так уж трудно найти в этом изобилующем приливами и отливами периоде истории.
В третьей четверти III в. до н. э. бактрийский наместник Диодот II, а возможно, его преемник Евтидем провозгласили независимость и узурпировали царский титул. Бактрия из сатрапии превратилась в самостоятельное царство. Затем наступил момент, когда необходимо было создать твердыню и одновременно символ новой власти. Мог подействовать и дополнительный фактор — передвижение кочевых племен через Окс. Это ли не причины для основания укрепленного города? Правда, в таком случае его не назвали бы Александрией — скорее уж Евтидемией. Но и эта версия не имеет пока прямых доказательств.
Рассуждения наугад бесполезны, но одна догадка покажется не совсем безосновательной, если забыть ненадолго, что надпись на могиле Кинея датируют III в. до н. э. Как известно, в этом столетии большая часть Индии и Южного Афганистана (во всяком случае, до Кандахара) находилась в могучих руках выдающегося представителя династии Маурьев императора Ашоки. Но, как принято считать, в 184 г. до н. э. династия Маурьев пресеклась, и бактрийский царь Деметрий — натура волевая и предприимчивая, вполне в духе Александра — воспользовался неопределенной военно-политической ситуацией, перешел Гиндукуш и оккупировал Северо-Западную Индию. Так была восстановлена и далее расширена территория, захваченная войсками Александра в 326 г. и позднее отданная Маурьям. Об этом подвиге будет сказано далее; сейчас важно отметить, что экспансия Деметрия и его соратников в Индию ослабила Бактрию и законные власти в далекой Антиохии не устояли перед искушением начать интервенцию.
Говоря коротко, события должны были развертываться так: Антиох IV, человек уклончивый, но честолюбивый, задумал, по-видимому, воссоединить старую азиатскую империю Александра и его наследника Селевка I, насколько это позволяли рубежи, установленные по договорам с Индией на востоке, и придвигающиеся границы Рима на западе. С этой целью примерно в 169 г. до н. э. он отправил своего двоюродного брата Евкратида против отложившихся бактрийских правителей[22]. Деметрий поспешил из Индии ему навстречу, но был убит. Евкратид захватил Бактрию. Вероятно, Антиох даровал ему соответствующий титул, что-нибудь вроде «вице-короля», по праву которого Евкратид мог основать или перестроить крупный бактрийский город и наречь его своим именем — Евкратидия, которую, действительно, упоминают Страбон (XI, 516) и Птолемей (VI, 11, 8). Быть может, это Бактры, полностью обновленные, а может быть, что вероятнее, это александровская Тармита, однажды названная уже Деметрией во славу Деметрия и теперь прославлявшая нового владыку, Евкратида. И все же (хотя это не более чем предположение) Евкратидия может оказаться тем самым, найденным в Ай-Хануме, великолепным городом, который, учитывая сравнительно небольшую глубину культурного слоя, мог быть основан много позже времени Александра и даже Евтидема. Но, повторяю, догадка эта станет ошибкой, если специалисты в области эпиграфики убедят нас, что надпись Кинея действительно появилась в III в. до н. э.[23]
Как бы там ни было, мы вправе ожидать, что этот, лишь недавно открытый, эллинистический город даст новый материал для решения старой искусствоведческой проблемы: как и откуда в высокопродуктивную художественную школу буддийской Гандхары (северо-западный пограничный район Индо-Пакистаиа) проникли в первых веках новой эры очевидные и бесспорные элементы греческого или греко-римского искусства? Издавна их источником считалось Греко-бактрийское государство. Минули годы, но эллинистической скульптуры в Бактрии никто не находил. Начались лихорадочные поиски других посредников. Надежнее прочих казались римские торговые пути, пересекавшие некогда эти края. Что ж, будем надеяться, что самый верный ответ лежит под ногами исследователей Ай-Ханума. В конце концов, персепольская дорога вела на восток не одних только политиков и полководцев.
В том же пронаосе обнаружена первая среди известных нам греко-бактрийская скульптура. Это герма, изображающая бородатого старца, увенчанного диадемой священнослужителя или важного должностного лица (рис. 14, 15). Правая его рука скрыта в складках свободной одежды, левая прежде держала какой-то бронзовый предмет. Весьма возможно, что герма — скульптурный портрет. Исполненный на достаточно высоком эллинистическом уровне, он может считаться вехой в бактрийском искусстве, и мы еще вспомним его, когда позднее перейдем к проблемам искусства Гандхары (см. ниже).
Итак, уже на первом этапе раскопок Ай-Ханум представляется историческим и художественным памятником исключительной важности. Он создан отважными, восприимчивыми и, кроме того, цивилизованными пионерами на далекой окраине Евразийского мира. В его сердце, в гробнице возможного основателя города, провозглашены дельфийские этические принципы. Его постройки, обильно украшенные скульптурой, ярко расцвеченные, возводились по западным канонам, хотя восточное окружение внесло свою долю — это и упомянутые уже неклассические торовидные базы колонн, и крылатые псевдопальметты в орнаменте кровель, намекающие на азиатское, точнее, ахеменидское влияние. Дальнейшие работы, несомненно, покажут место и значение подобных гибридных элементов, но в любом случае они останутся второстепенными по сравнению со всеобъемлющим эллинизмом этого выдающегося памятника[21]. Уже теперь можно говорить о существовании там греческих философов, жрецов, ремесленников. Кувшины для вина и масла, явно местного производства, помечены печатью агоранома, т. е. управляющего рынком. Так было и в греческих городах Причерноморья и Ближнего Востока. Мы не впадем в преувеличение, если выскажем уверенность, что со временем здесь будет обнаружено почти все, имеющее касательство к жизни эллинистического города.
К сожалению, пока невозможно ответить на два основных и, вероятно, связанных друг с другом вопроса: когда был основан город и как он назывался? Был ли Ай-Ханум одной из Александровых Александрий? Если так, то первоначально город должен был носить его имя, каковы бы ни были дальнейшие перемены. Поль Бернар склонен считать Ай-Ханум птолемеевской Александрией-на-Оксе, отнимая это имя у Термеза, которому подарил его Тарн. Может быть, Бернар прав, но пока нет, кажется, подтверждении, что город в Ай-Хануме существовал уже в IV в. до н. э. Если дельфийская надпись правильно датирована первой половиной III в. до н. э., можно допустить, что предполагаемый основатель города, Киней, действовал от имени Селевка I (312–281 гг. до н. э.) или его преемника Антиоха I (281–261 гг. до н. э.), которым достались азиатские земли, покоренные Александром. При этих властителях Бактрия была сатрапией или провинцией Селевкидского царства и управлялась, по крайней мере номинально, сначала из Селевкии на Тигре, а потом из новой столицы, Антиохии Сирийской. Но провинция на Оксе находилась слишком далеко от обоих центров, и сомнительно, чтобы три четверти века спустя после смерти Александра в Бактрии стали закладывать города такого размаха, как Ай-Ханум, сколь бы выгодным ни казалось стратегическое положение. Для этого, надо полагать, нужны были новые стимулы, которые не так уж трудно найти в этом изобилующем приливами и отливами периоде истории.
В третьей четверти III в. до н. э. бактрийский наместник Диодот II, а возможно, его преемник Евтидем провозгласили независимость и узурпировали царский титул. Бактрия из сатрапии превратилась в самостоятельное царство. Затем наступил момент, когда необходимо было создать твердыню и одновременно символ новой власти. Мог подействовать и дополнительный фактор — передвижение кочевых племен через Окс. Это ли не причины для основания укрепленного города? Правда, в таком случае его не назвали бы Александрией — скорее уж Евтидемией. Но и эта версия не имеет пока прямых доказательств.
Рассуждения наугад бесполезны, но одна догадка покажется не совсем безосновательной, если забыть ненадолго, что надпись на могиле Кинея датируют III в. до н. э. Как известно, в этом столетии большая часть Индии и Южного Афганистана (во всяком случае, до Кандахара) находилась в могучих руках выдающегося представителя династии Маурьев императора Ашоки. Но, как принято считать, в 184 г. до н. э. династия Маурьев пресеклась, и бактрийский царь Деметрий — натура волевая и предприимчивая, вполне в духе Александра — воспользовался неопределенной военно-политической ситуацией, перешел Гиндукуш и оккупировал Северо-Западную Индию. Так была восстановлена и далее расширена территория, захваченная войсками Александра в 326 г. и позднее отданная Маурьям. Об этом подвиге будет сказано далее; сейчас важно отметить, что экспансия Деметрия и его соратников в Индию ослабила Бактрию и законные власти в далекой Антиохии не устояли перед искушением начать интервенцию.
Говоря коротко, события должны были развертываться так: Антиох IV, человек уклончивый, но честолюбивый, задумал, по-видимому, воссоединить старую азиатскую империю Александра и его наследника Селевка I, насколько это позволяли рубежи, установленные по договорам с Индией на востоке, и придвигающиеся границы Рима на западе. С этой целью примерно в 169 г. до н. э. он отправил своего двоюродного брата Евкратида против отложившихся бактрийских правителей[22]. Деметрий поспешил из Индии ему навстречу, но был убит. Евкратид захватил Бактрию. Вероятно, Антиох даровал ему соответствующий титул, что-нибудь вроде «вице-короля», по праву которого Евкратид мог основать или перестроить крупный бактрийский город и наречь его своим именем — Евкратидия, которую, действительно, упоминают Страбон (XI, 516) и Птолемей (VI, 11, 8). Быть может, это Бактры, полностью обновленные, а может быть, что вероятнее, это александровская Тармита, однажды названная уже Деметрией во славу Деметрия и теперь прославлявшая нового владыку, Евкратида. И все же (хотя это не более чем предположение) Евкратидия может оказаться тем самым, найденным в Ай-Хануме, великолепным городом, который, учитывая сравнительно небольшую глубину культурного слоя, мог быть основан много позже времени Александра и даже Евтидема. Но, повторяю, догадка эта станет ошибкой, если специалисты в области эпиграфики убедят нас, что надпись Кинея действительно появилась в III в. до н. э.[23]
Как бы там ни было, мы вправе ожидать, что этот, лишь недавно открытый, эллинистический город даст новый материал для решения старой искусствоведческой проблемы: как и откуда в высокопродуктивную художественную школу буддийской Гандхары (северо-западный пограничный район Индо-Пакистаиа) проникли в первых веках новой эры очевидные и бесспорные элементы греческого или греко-римского искусства? Издавна их источником считалось Греко-бактрийское государство. Минули годы, но эллинистической скульптуры в Бактрии никто не находил. Начались лихорадочные поиски других посредников. Надежнее прочих казались римские торговые пути, пересекавшие некогда эти края. Что ж, будем надеяться, что самый верный ответ лежит под ногами исследователей Ай-Ханума. В конце концов, персепольская дорога вела на восток не одних только политиков и полководцев.
После пожара 2. Индо-греческие города
Независимо от конечного результата раскопок в Ай-Хануме — а если удастся более или менее завершить их, материал безусловно окажется ярким и разнообразным — можно смело утверждать, что города южных областей Афганистана и северо-запада Пакистана многим обязаны бактрийским эллинам, потомкам эллинов Александра. Порукой тому работа археологов, которая здесь, за Гиндукушем, была до последнего времени более успешной и тщательной, нежели в Греко-бактрийском государстве. В 327 г. до н. э. македонские армии совершили бросок из Бактрии через горы, к южным отрогам Гиндукуша (Паронамисадам античной географии), где в пяти-десяти милях севернее Кабула и в трех милях к северо-востоку от нынешнего города Чарикар маршруты воинских колонн соединились в районе рек Панджшнр и Горбанд. Здесь, на месте современного нам Беграма, находилась древняя Каписа, туземная столица, возле или в пределах которой был основан еще один город Александра — Александрия Кавказская. У нас пока нет точных сведений, что город стоял на месте Каписы, равно как нет определенных указаний на то, что он там не стоял. Французские археологи, работавшие здесь несколько лет, могут похвастать замечательными находками (рис. 17, 18), но глубокого исследования памятника они не произвели, даже топография его далеко не ясна. Предварительное толкование дано в плане, набросанном в самых общих чертах Р. Гиршманом (рис. 16), который продолжал раскопки в крайне неблагоприятных условиях 1941–1942 гг. В слиянии рек Панджшир и Горбанд, берущих начало высоко в горах на севере, среди многочисленных протоков вздымаются скалистые крутые склоны горы, именуемой Бордж-и Абдаллах. Когда-то, а когда именно — неизвестно, вершина этой горы была превращена в крепость или небольшой укрепленный город, а легкодоступные ее склоны с южной и отчасти с восточной сторон ограждены массивной стеной и рвом. Ограниченное таким образом пространство составило приблизительно 300 ярдов с востока на запад и 160 ярдов с севера на юг. Городские ворота находились у центра южной стены.
В слиянии рек Панджшир и Горбанд, берущих начало высоко в горах на севере, среди многочисленных протоков вздымаются скалистые крутые склоны горы, именуемой Бордж-и Абдаллах. Когда-то, а когда именно — неизвестно, вершина этой горы была превращена в крепость или небольшой укрепленный город, а легкодоступные ее склоны с южной и отчасти с восточной сторон ограждены массивной стеной и рвом. Ограниченное таким образом пространство составило приблизительно 300 ярдов с востока на запад и 160 ярдов с севера на юг. Городские ворота находились у центра южной стены.
 Почвы на гребне горы возделывались, и рельеф ныне сглажен, но разрез стены, сделанный Гиршманом, показал, что она достигала сорока трех футов в поперечнике, построена была из земли и щебня и обложена изнутри и снаружи сырцовым кирпичом с толщиной каждого слоя до восьми футов. С внутренней стороны стена была усилена низким выступом в десять футов шириной. Стенных башен обнаружить не удалось, не сделан и разрез рва. Расположенная в самой высокой точке гребня крепость, надо полагать, возникла до заселения низменной южной части. Как было сказано, дату ее постройки установить пока невозможно. Вероятно, это форт или военная колония эпохи Александра, не исключено, что здесь стоял какой-нибудь ахеменидский гарнизон. Никаких строений внутри крепости не найдено, впрочем, основательными поисками никто и не занимался.
Несколько подробнее можно рассказать о внушительных укреплениях равнинной части в 650 ярдах к югу от крепости. Именно на них сконцентрировали свои усилия Р. Гиршман и его предшественник Ж. Акен. Укрепления состоят из прямой стены, протянувшейся на 550 ярдов с востока на запад и на флангах изогнутой под прямым углом к северу. На близком и равном расстоянии один от другого выступают из стены прямоугольные бастионы до 55 футов ширины. К центральным воротам на юге (по предварительному плану) через два рва вела насыпь. Стена 33-футовой толщины состоит из заполнения (возможно, прохода) между двумя стенками сырцового кирпича на каменном цоколе. Между двумя рвами и за внешним рвом были, вероятно, вспомогательные валы, однако они еще не исследованы.
Почвы на гребне горы возделывались, и рельеф ныне сглажен, но разрез стены, сделанный Гиршманом, показал, что она достигала сорока трех футов в поперечнике, построена была из земли и щебня и обложена изнутри и снаружи сырцовым кирпичом с толщиной каждого слоя до восьми футов. С внутренней стороны стена была усилена низким выступом в десять футов шириной. Стенных башен обнаружить не удалось, не сделан и разрез рва. Расположенная в самой высокой точке гребня крепость, надо полагать, возникла до заселения низменной южной части. Как было сказано, дату ее постройки установить пока невозможно. Вероятно, это форт или военная колония эпохи Александра, не исключено, что здесь стоял какой-нибудь ахеменидский гарнизон. Никаких строений внутри крепости не найдено, впрочем, основательными поисками никто и не занимался.
Несколько подробнее можно рассказать о внушительных укреплениях равнинной части в 650 ярдах к югу от крепости. Именно на них сконцентрировали свои усилия Р. Гиршман и его предшественник Ж. Акен. Укрепления состоят из прямой стены, протянувшейся на 550 ярдов с востока на запад и на флангах изогнутой под прямым углом к северу. На близком и равном расстоянии один от другого выступают из стены прямоугольные бастионы до 55 футов ширины. К центральным воротам на юге (по предварительному плану) через два рва вела насыпь. Стена 33-футовой толщины состоит из заполнения (возможно, прохода) между двумя стенками сырцового кирпича на каменном цоколе. Между двумя рвами и за внешним рвом были, вероятно, вспомогательные валы, однако они еще не исследованы.
 Общий вид этой стены с ее близко поставленными бастионами напоминает стену в Ай-Хануме, также пока (т. е. пока пишется эта книга) не датированную. Аналогична обеим стена в Таксиле-Сиркапе (см. далее), где каменные бастионы, возможно, относятся к I в. до н. э. и могут быть созданием индо-греков или эллинизированных скифов. В Беграме Акен и Гиршман расчистили, хотя и не полностью, несколько зданий внутри стен, и Гиршман установил три последовательных периода, из коих ранний датирован монетами Евкратида, Менандра, Гермея и «других греко-бактрийских царей» (sic!), то есть весьма приблизительно 107-50 гг. до н. э. Однако основание для датировки не слишком определенное; оно никак не подтверждает предположение (само по себе вероятное), что монеты, выпущенные через полтора века после Александра Панталеоном и Агафоклом, сыновьями упомянутого уже Деметрия, могли быть отчеканены где-то здесь, поскольку на них изображен сидящий Зевс с фигуркой трехголовой Гекаты в руке, «Гекаты трех путей», вполне уместной в этом пункте соединения трех горных дорог. Словом, Беграм ожидает новых раскопок, которые будут проведены современными методами; весь этот район необходимо исследовать вновь.
Внутри южных укреплений от центральных ворот на север тянулась по прямой главная улица. Есть основание видеть в ней ось прямолинейной планировки кварталов обычного эллинистического тина. Судя по раскопанной части города, по обе стороны главной улицы располагались лавки, за которыми стояли более просторные дома и общественные здания из сырцового кирпича, иногда на каменном фундаменте. Эти постройки сооружены большей частью в первой фазе существования города, которая, по Гиршману, продолжается от греко-бактрийцев до скифо-парфян и далее до прихода из Центральной Азии через Туркестан и Восточный Иран кушанской династии в конце I в. н. э. Во время Кушан строительство не прекратилось, город переживал вторую фазу развития, он изменялся, рос, пока его не разрушили сасанидские завоеватели в III в. н. э., после чего город был восстановлен (третья фаза) в пределах старых фортификационных линий. Но эти поздние периоды его жизни к нашей теме отношения не имеют.
Итак, насколько можно судить в настоящее время и в ожидании новых раскопок, Беграм приобрел известные нам общие черты планировки во II в. до н. э., когда бактрийские греки решились снова завоевать и освоить Северо-Западную Индию. Не исключено, что в середине этого столетия к его строительству приложил руку сам великий Менандр. Но эпоха Александра не оставила здесь зримого вещественного следа, что вовсе не удивительно. Только в самые последние годы и только в одном пункте, в 100 милях юго-восточнее Беграма, археология открыла нечто в этом роде или по крайней мере претендует на такое открытие.
Следует вспомнить, что, перевалив Гиндукуш, войска Александра двигались по старой ахеменидской дороге. Вдоль этого, достигавшего Ганга, пути множество туземных княжеств властвовало и торговало, и собирало подати, яростно конкурируя и враждуя. Трудно сказать, каково было политическое и географическое отношение этих княжеств к провинциям, официально образованным за два столетия до того Киром и первым Дарием. Вероятно, местные правители и царьки контролировали de facto эти окраины персидской империи, сохраняя чисто формальную связь с метрополией, а то не соблюдая даже и формы. Несомненно, ради собственной выгоды они поддерживали известный порядок на «царских дорогах», не пренебрегая возможностью обирать проходящие караваны. И другие, еще более соблазнительные, возможности открылись перед ними на закате величия и славы Ахеменидов. Во всяком случае, положение было, видимо, таким, когда на сцене появился Александр. Он не нашел и призрака персидской власти на этих издавна персидских территориях к юго-востоку от Гиндукуша.
Историю о том, как спускался он с гор в страну Гандхару (по существу, на Пешаварскую равнину), как сворачивал то и дело с пути навстречу удивительным приключениям, еще и сегодня прочтет, затаив дыхание, любой школьник. Но мы выберем из многих эпизодов один. Пока Александр огибал Гандхару с севера, предгорьями, главные силы его армии под командой верного Гефестиона брошены были вниз, чтобы подавить сопротивление на равнине и подготовить переправу через Инд.
Здесь, в центре страны, Гефестион направил основной удар на область, известную грекам как Певкелаотида со столицей Певкела. По-санскритски она называлась Пушкалавати, что значит «Город Лотосов». Действительно, цветок лотоса постоянно встречается на местной керамике; он же, видимо, украшает уникальную, хранящуюся в Британском музее монету с изображением богини, покровительницы этого города. Внушительный холмистый массив, который поднимается теперь над окрестностью Чарсады, милях в двадцати восточнее Пешавара и неподалеку от слияния рек Сват и Кабул, был отождествлен с Пушкалавати Александром Каннингхэмом; это отождествление, предложенное сто лет назад, бесспорно и ныне.
Прекрасное зрелище являют собою эти лёссовые холмы. Когда рассеивается туман, на севере проступают очертания далеких хребтов; там, к обрывистому плато Сват и Дир, где чернеет силуэт крепостной башни, над глубоким ложем реки Сват круто восходят склоны Малакандского перевала. На западе долина Кабула раздвигает горы, обступившие всегда оживленный Хайберский проход. И на переднем плане, во всю ширь равнины разливается море сахарного тростника, в центре которого лежит целый архипелаг буро-желтых холмов. Это Пушкалавати, так она выглядит теперь. Самый высокий холм и, несомненно, самый древний — Бала Гиссар, «Высокая Крепость». Он достигает 50 футов высоты и дремлет в тростниковых волнах, словно старый боевой корабль, стоящий на мертвом якоре. Помню свой первый визит сюда, в 1944 г.: как пробирался я вверх по узкой тропе, а навстречу мне спускалось стадо буйволов. Каждый нагружен был двумя корзинами, полными высоко ценимым здесь удобрением, фосфатной пылью, которую копают на вершине холма. И копают так усердно, что нам пришлось повести настоящую войну с земледельцами, чтобы отстоять хотя бы остатки холма. В последние годы здесь поставили вооруженную охрану; в стране, где оружие не успело еще стать простым символом власти, мера эта оказалась эффективной.
Но основательные раскопки Бала Гиссара и соседних, менее высоких, зато более обширных возвышенностей начались только в 1958 г., после чего разрозненные факты стали соединяться в достаточно связную версию. Попробуем изложить ее. «Высокая Крепость» первоначально стояла на уровне своего нынешнего подножия, возле ручья, впадавшего в одну из двух ближних рек; это был город площадью от 15 до 20 акров. Время его возникновения предположительно, однако железо здесь уже широко применялось. Если к тому же без лишней робости принять вполне правдоподобную легенду индийского эпоса Рамаяна об основании Пушкалавати и Таксилы двумя братьями, то интересующее нас время с большой долей вероятности можно будет ограничить VI в. до н. э., когда перед 518 г. весь район вошел в состав персидской империи. Незадолго до этой даты или вскоре после нее Гандхара упоминалась в списке владений Дария I, помещенном на большой скальной надписи в Бехистуне (Западный Иран), а ее столица Пушкалавати была или построена тогда на реке Кабул, то есть на главном пути в Индию с северо-запада, или же приобрела известность, вступив в период своего расцвета как один из центров организованной индо-персидской торговли.
Раскопки показали, что ко времени Александра Пушкалавати приподнялась на 12–13 футов над первоначальным уровнем — меньше четверти высоты нынешнего холма, — как это всегда бывало в древних глиняных городах, где развалины старых зданий становились фундаментом новых. В этот период городом правил некий Астис, непохожий на других индийских правителей уже тем, что «затеял восстание» против македонских захватчиков, которое было подавлено не без усилий. Арриан рассказывает, что Астис выдерживал осаду в течение 30 дней, а поскольку Гефестион располагал тремя полками пехоты, половиной конной гвардии и всей кавалерией наемников, город, по-видимому, был неплохо укреплен. В 1958 г. мы искали эти укрепления и обнаружили их ниже современной поверхности почвы к востоку от «Высокой Крепости», вдоль западного берега ныне не существующего ручья. Входило ли русло ручья в оборонительную систему в качестве, например, естественного рва, не установлено (не был сделан поперечный разрез). Зато вдоль его берега на протяжении 320 ярдов мы расчистили ров, вырытый в форме латинской буквы V, а также остатки земляного вала, с внешней стороны которого была, думается, стена из сырцового кирпича толщиной не менее четырех футов. В центральной части вала открыты углубления от деревянных столбов, которыми укреплен был запасной вход и мост (рис. 19).
Раскопками обнаружено примечательное явление — ров сверху донизу заполнен чистой землей, в которой попадаются обломки сырцовых кирпичей, а под всем этим лежал топкий слой, то, что археологи называют «быстрым осадком» (rapid silt). Отсюда вывод: ров существовал очень недолго; поскольку он находился между руслом ручья и городскими постройка, выбор другого места для укреплений исключен. Таким образом, устройство этого рва и вала совпадает во времени с осадой города Гефестионом. Несомненно, они построены спешно, при подходе македонских войск, и уничтожены сразу после падения крепости. Земляной вал срыли и сбросили обратно в ров. Следы этого разрушения открылись археологам, словно памятник бесполезной отваги Астиса. Он, как пишет достойный доверия Арриан, «погиб сам и погубил город, в который бежал».
Общий вид этой стены с ее близко поставленными бастионами напоминает стену в Ай-Хануме, также пока (т. е. пока пишется эта книга) не датированную. Аналогична обеим стена в Таксиле-Сиркапе (см. далее), где каменные бастионы, возможно, относятся к I в. до н. э. и могут быть созданием индо-греков или эллинизированных скифов. В Беграме Акен и Гиршман расчистили, хотя и не полностью, несколько зданий внутри стен, и Гиршман установил три последовательных периода, из коих ранний датирован монетами Евкратида, Менандра, Гермея и «других греко-бактрийских царей» (sic!), то есть весьма приблизительно 107-50 гг. до н. э. Однако основание для датировки не слишком определенное; оно никак не подтверждает предположение (само по себе вероятное), что монеты, выпущенные через полтора века после Александра Панталеоном и Агафоклом, сыновьями упомянутого уже Деметрия, могли быть отчеканены где-то здесь, поскольку на них изображен сидящий Зевс с фигуркой трехголовой Гекаты в руке, «Гекаты трех путей», вполне уместной в этом пункте соединения трех горных дорог. Словом, Беграм ожидает новых раскопок, которые будут проведены современными методами; весь этот район необходимо исследовать вновь.
Внутри южных укреплений от центральных ворот на север тянулась по прямой главная улица. Есть основание видеть в ней ось прямолинейной планировки кварталов обычного эллинистического тина. Судя по раскопанной части города, по обе стороны главной улицы располагались лавки, за которыми стояли более просторные дома и общественные здания из сырцового кирпича, иногда на каменном фундаменте. Эти постройки сооружены большей частью в первой фазе существования города, которая, по Гиршману, продолжается от греко-бактрийцев до скифо-парфян и далее до прихода из Центральной Азии через Туркестан и Восточный Иран кушанской династии в конце I в. н. э. Во время Кушан строительство не прекратилось, город переживал вторую фазу развития, он изменялся, рос, пока его не разрушили сасанидские завоеватели в III в. н. э., после чего город был восстановлен (третья фаза) в пределах старых фортификационных линий. Но эти поздние периоды его жизни к нашей теме отношения не имеют.
Итак, насколько можно судить в настоящее время и в ожидании новых раскопок, Беграм приобрел известные нам общие черты планировки во II в. до н. э., когда бактрийские греки решились снова завоевать и освоить Северо-Западную Индию. Не исключено, что в середине этого столетия к его строительству приложил руку сам великий Менандр. Но эпоха Александра не оставила здесь зримого вещественного следа, что вовсе не удивительно. Только в самые последние годы и только в одном пункте, в 100 милях юго-восточнее Беграма, археология открыла нечто в этом роде или по крайней мере претендует на такое открытие.
Следует вспомнить, что, перевалив Гиндукуш, войска Александра двигались по старой ахеменидской дороге. Вдоль этого, достигавшего Ганга, пути множество туземных княжеств властвовало и торговало, и собирало подати, яростно конкурируя и враждуя. Трудно сказать, каково было политическое и географическое отношение этих княжеств к провинциям, официально образованным за два столетия до того Киром и первым Дарием. Вероятно, местные правители и царьки контролировали de facto эти окраины персидской империи, сохраняя чисто формальную связь с метрополией, а то не соблюдая даже и формы. Несомненно, ради собственной выгоды они поддерживали известный порядок на «царских дорогах», не пренебрегая возможностью обирать проходящие караваны. И другие, еще более соблазнительные, возможности открылись перед ними на закате величия и славы Ахеменидов. Во всяком случае, положение было, видимо, таким, когда на сцене появился Александр. Он не нашел и призрака персидской власти на этих издавна персидских территориях к юго-востоку от Гиндукуша.
Историю о том, как спускался он с гор в страну Гандхару (по существу, на Пешаварскую равнину), как сворачивал то и дело с пути навстречу удивительным приключениям, еще и сегодня прочтет, затаив дыхание, любой школьник. Но мы выберем из многих эпизодов один. Пока Александр огибал Гандхару с севера, предгорьями, главные силы его армии под командой верного Гефестиона брошены были вниз, чтобы подавить сопротивление на равнине и подготовить переправу через Инд.
Здесь, в центре страны, Гефестион направил основной удар на область, известную грекам как Певкелаотида со столицей Певкела. По-санскритски она называлась Пушкалавати, что значит «Город Лотосов». Действительно, цветок лотоса постоянно встречается на местной керамике; он же, видимо, украшает уникальную, хранящуюся в Британском музее монету с изображением богини, покровительницы этого города. Внушительный холмистый массив, который поднимается теперь над окрестностью Чарсады, милях в двадцати восточнее Пешавара и неподалеку от слияния рек Сват и Кабул, был отождествлен с Пушкалавати Александром Каннингхэмом; это отождествление, предложенное сто лет назад, бесспорно и ныне.
Прекрасное зрелище являют собою эти лёссовые холмы. Когда рассеивается туман, на севере проступают очертания далеких хребтов; там, к обрывистому плато Сват и Дир, где чернеет силуэт крепостной башни, над глубоким ложем реки Сват круто восходят склоны Малакандского перевала. На западе долина Кабула раздвигает горы, обступившие всегда оживленный Хайберский проход. И на переднем плане, во всю ширь равнины разливается море сахарного тростника, в центре которого лежит целый архипелаг буро-желтых холмов. Это Пушкалавати, так она выглядит теперь. Самый высокий холм и, несомненно, самый древний — Бала Гиссар, «Высокая Крепость». Он достигает 50 футов высоты и дремлет в тростниковых волнах, словно старый боевой корабль, стоящий на мертвом якоре. Помню свой первый визит сюда, в 1944 г.: как пробирался я вверх по узкой тропе, а навстречу мне спускалось стадо буйволов. Каждый нагружен был двумя корзинами, полными высоко ценимым здесь удобрением, фосфатной пылью, которую копают на вершине холма. И копают так усердно, что нам пришлось повести настоящую войну с земледельцами, чтобы отстоять хотя бы остатки холма. В последние годы здесь поставили вооруженную охрану; в стране, где оружие не успело еще стать простым символом власти, мера эта оказалась эффективной.
Но основательные раскопки Бала Гиссара и соседних, менее высоких, зато более обширных возвышенностей начались только в 1958 г., после чего разрозненные факты стали соединяться в достаточно связную версию. Попробуем изложить ее. «Высокая Крепость» первоначально стояла на уровне своего нынешнего подножия, возле ручья, впадавшего в одну из двух ближних рек; это был город площадью от 15 до 20 акров. Время его возникновения предположительно, однако железо здесь уже широко применялось. Если к тому же без лишней робости принять вполне правдоподобную легенду индийского эпоса Рамаяна об основании Пушкалавати и Таксилы двумя братьями, то интересующее нас время с большой долей вероятности можно будет ограничить VI в. до н. э., когда перед 518 г. весь район вошел в состав персидской империи. Незадолго до этой даты или вскоре после нее Гандхара упоминалась в списке владений Дария I, помещенном на большой скальной надписи в Бехистуне (Западный Иран), а ее столица Пушкалавати была или построена тогда на реке Кабул, то есть на главном пути в Индию с северо-запада, или же приобрела известность, вступив в период своего расцвета как один из центров организованной индо-персидской торговли.
Раскопки показали, что ко времени Александра Пушкалавати приподнялась на 12–13 футов над первоначальным уровнем — меньше четверти высоты нынешнего холма, — как это всегда бывало в древних глиняных городах, где развалины старых зданий становились фундаментом новых. В этот период городом правил некий Астис, непохожий на других индийских правителей уже тем, что «затеял восстание» против македонских захватчиков, которое было подавлено не без усилий. Арриан рассказывает, что Астис выдерживал осаду в течение 30 дней, а поскольку Гефестион располагал тремя полками пехоты, половиной конной гвардии и всей кавалерией наемников, город, по-видимому, был неплохо укреплен. В 1958 г. мы искали эти укрепления и обнаружили их ниже современной поверхности почвы к востоку от «Высокой Крепости», вдоль западного берега ныне не существующего ручья. Входило ли русло ручья в оборонительную систему в качестве, например, естественного рва, не установлено (не был сделан поперечный разрез). Зато вдоль его берега на протяжении 320 ярдов мы расчистили ров, вырытый в форме латинской буквы V, а также остатки земляного вала, с внешней стороны которого была, думается, стена из сырцового кирпича толщиной не менее четырех футов. В центральной части вала открыты углубления от деревянных столбов, которыми укреплен был запасной вход и мост (рис. 19).
Раскопками обнаружено примечательное явление — ров сверху донизу заполнен чистой землей, в которой попадаются обломки сырцовых кирпичей, а под всем этим лежал топкий слой, то, что археологи называют «быстрым осадком» (rapid silt). Отсюда вывод: ров существовал очень недолго; поскольку он находился между руслом ручья и городскими постройка, выбор другого места для укреплений исключен. Таким образом, устройство этого рва и вала совпадает во времени с осадой города Гефестионом. Несомненно, они построены спешно, при подходе македонских войск, и уничтожены сразу после падения крепости. Земляной вал срыли и сбросили обратно в ров. Следы этого разрушения открылись археологам, словно памятник бесполезной отваги Астиса. Он, как пишет достойный доверия Арриан, «погиб сам и погубил город, в который бежал».
 Это было важное событие, и Александр, как видно, позаботился обставать должным образом сдачу Пушкалавати. Мы можем только догадываться о цели некоторых его маневров. Но, пока Гефестион действовал на равнине, Александр совершал кампанию в горной стране Сват, и теперь, прежде чем снова вернуться в горы и штурмовать Аорн — твердыню, которой не мог овладеть даже Геракл! — он спустился к побежденному городу, принял его (несомненно, с подобающей случаю театральностью) и «поставил там македонский гарнизон, а начальником гарнизона назначил Филиппа». Возможно, хотя и не безусловно, того самого «полуцаря» Филиппа, который несколько позже завладел всей огромной сатрапией Северо-Западной Индии и в конце концов был убит своими же воинами.
Сейчас немногое известно о том, как выглядела Пушкалавати, разрушенная Гефестионом, но некоторое представление о ней можно составить по аналогии с Таксилой, о которой мы вскоре будем говорить подробно. Это был густонаселенный, неопрятный, беспорядочно застроенный город. Македонский гарнизон располагался, вероятно, не в домах, а лагерем, в походных палатках. Когда же летом 320 г. до н. э. перед тем как повернуть к дому, Александр реорганизовал индийские сатрапии, Пушкалавати окончательно утратила свое значение. Время для методического восстановления и перестройки захваченных городов на индийской стороне Гиндукуша еще не пришло.
Это время пришло через полтора столетия после смерти Александра, когда около 180 г. до н. э. Деметрий, с которым мы уже встречались, перевалил Гиндукуш со стороны Бактрии и снова колонизовал индийские сатрапии. Культура северо-запада отливалась в новые формы, здесь воцарился новый порядок жизни, умы обратились к новым идеям. И если до сих пор призрачный след армий Александра был почти неуловим для археологии, то теперь, в памятниках этой эпохи, он обрел наконец-то всю вещественность реализованной мечты. Мы видели, что в Беграме (Каписа) и, с еще большей вероятностью, в Пушкалавати это выразилось в переносе города на свободную, новую территорию, где можно было забыть о потерях и поражениях и куда эллинизм мог прийти, ничего и никого не вытесняя. С подобной же урбанистической революцией встретимся мы и в Таксиле. И если нужны примеры, лежащие вне нашей темы, то для Индии лучшим и наиболее известным окажется Дели. Постоянно растущий и меняющийся, он продемонстрировал в последние столетия, как смена династий или образа жизни требует новых территорий, позволяющих спланировать город в соответствии с новым пониманием комфорта и престижа.
В Пушкалавати подобные перемены, происходившие раз в сто лет, были обнаружены простым и очень современным способом.
Археолог наших дней предпочитает наблюдать и фотографировать свои объекты с воздуха; разумеется, когда у него есть такая возможность. Земля должна быть равномерно сухой или влажной — при этом условии различные виды грунта (так же как и растений) резко отличаются друг от друга окраской и цветовой насыщенностью и аэросъемка становится бесценным союзником археологии. С птичьего полета ясно видны очертания древних фундаментов и стен, скрытых или плохо различимых на поверхности земли. В других случаях взгляд сверху помогает понять структуру памятника, детали которой, разобщенные и наблюдаемые вблизи, подчас кажутся необъяснимыми. В Пушкалавати аэросъемка сотворила чудо. Во время раскопочного сезона 1958 г. пакистанские военно-воздушные силы любезно предоставили нам реактивный самолет с фотокамерой. И в какие-нибудь несколько минут вся эта местность площадью более квадратной мили с ее довольно сложным рельефом была сфотографирована так подробно, что результаты оказались совершенно удивительными.
Как было сказано, район Пушкалавати сейчас представляет собой ряд песчаных возвышенностей, более или менее удаленных одна от другой, среди которых Бала Гиссар выделяется только высотой. В 1903 г. осмотр двух крайних с востока возвышенностей дал повод предположить, что они относятся к первым векам новой эры, ко времени кушан; впрочем, на один из холмов, называемый Шайхан Дхери, ярдах в 600 от Бала Гиссара, это предположение не распространялось. Его значение внезапно и убедительно определила аэрофотосъемка 1958 г. Выяснилось, что это останки индо-греческого города с характерным эллинистическим планом.
Изрытый и выветренный холм Шайхан протягивается на полмили с западной стороны реки Сват. Между ним и рекой расположены крестьянские усадьбы, несколько одиночных домов и мусульманское кладбище. А на самом холме окрестные жители много лет подряд добывали кирпич для своих построек, ломая древние стены. В бесконечной путанице ям и земляных отвалов невозможно было угадать первоначальный их порядок, пока он не предстал со всей очевидностью на аэрофотоснимке параллельными линиями улиц — их можно различить не менее пяти на расстоянии в сорок ярдов одна от другой — и отчетливыми прямоугольными контурами домов. Две улицы разделены пространством пошире, ярдов в 50. Здесь, в центре продолговатого двора, виден след круглой ступы, буддийского или, что менее вероятно, джайнистского священного памятника. Как и все здания на этойзамечательной фотографии, она представляет собою своего рода негатив, где стены обозначены траншеями, которые были вырыты местными расхитителями по методу: «Отыщи стену, иди вдоль, выкопай до основания».
Во время своей опустошительной деятельности охотники за кирпичами открыли по крайней мере два монетных клада. Там были 15 монет Менандра, греко-буддийского царя Северо-Западной Индии (около 160–140 гг. до н. э.), и более поздние, вплоть до времени Гермея, который правил спустя столетие.
В 1963–1964 гг. профессор Пешаварского университета А. X. Дайн тщательно обследовал весь этот участок и опубликовал в университетском сборнике «Древний Пакистан-II» результаты своих наблюдений, о которых следует рассказать хотя бы вкратце. В речной гальке на естественной поверхности участка он нашел квадратные медные монеты индо-греческих правителей Агафокла и Аполлодотора, о которых мало что известно, крме того, что они были ближайшими предшественниками Менандра и время их приходится на вторую четверть II в. до н. э. Соответственно монета Менандра, также медная и квадратная, была обнаружена в самом раннем структурном слое, лежащем выше наноса гальки. Профессор Дани безусловно нрав, приписывая основание города этому крупнейшему индо-греческому царю в середине II в. до н. э. Найдены и другие индо-греческие монеты, выпущенные Антиалкидом, с которым мы встретимся в следующей главе, Гелиоклом, Лисием, Телефом и Филоксеном. Из того же эллинистического слоя извлечен маленький терракотовый путти безупречного классического стиля. Так было установлено существование позднегреческого города.
По мнению профессора Дани, первоначальный план улиц оставался неизменным до начала III в. н. э., когда при кушанском царе Васудеве I город был перенесен на соседний участок. А до тех пор он побывал последовательно в руках скифов, парфян и ранних кушан, видимо, не понеся сколько-нибудь заметного урона в своем архитектурном облике. Можно добавить, предвосхищая главу VII нашей книги («Гандхара»), что до II в. н. э. здесь нет и намека на присутствие гандхарского искусства.
Теперь, следуя за Александром, оставим Пушкалавати и по древнему пути через Инд направимся к Таксиле, расположенной милях в 40 отсюда. Таксила была столицей владения или княжества, лежавшего на половине пути между Индом и Джеламом; когда войска захватчиков приблизились, ее князь не упустил случая заручиться их поддержкой против беспокойных соседей. Сын этого правителя, весьма дальновидный молодой человек по имени Амбхи, с помощью хорошо налаженной агентурной сети начал переговоры с Александром, когда тот находился еще за Индом, и вскоре, заняв место отца, принял завоевателей со всей учтивостью, которую они были способны оценить. Кавалерийский отряд из Таксилы присоединился к ним на переправе, где передовые части доблестного Гефестиона наводили мост и сосредоточили множество лодок и две тридцативесельные галеры. Там же были переданы от имени Амбхи 200 талантов серебра, 3 тысячи быков, более 10 тысяч овец и около 30 слонов. По обычаю, Александр принес на берегу реки жертвы богам и устроил состязания атлетов и всадников. Предзнаменования оказались благоприятными для переправы, и, когда войска вошли в Таксилу, там опять были возданы жертвы и состоялись игрища. Александр вместе с молодым князем Таксилы устроил в его дворце большой торжественный прием.
Это было важное событие, и Александр, как видно, позаботился обставать должным образом сдачу Пушкалавати. Мы можем только догадываться о цели некоторых его маневров. Но, пока Гефестион действовал на равнине, Александр совершал кампанию в горной стране Сват, и теперь, прежде чем снова вернуться в горы и штурмовать Аорн — твердыню, которой не мог овладеть даже Геракл! — он спустился к побежденному городу, принял его (несомненно, с подобающей случаю театральностью) и «поставил там македонский гарнизон, а начальником гарнизона назначил Филиппа». Возможно, хотя и не безусловно, того самого «полуцаря» Филиппа, который несколько позже завладел всей огромной сатрапией Северо-Западной Индии и в конце концов был убит своими же воинами.
Сейчас немногое известно о том, как выглядела Пушкалавати, разрушенная Гефестионом, но некоторое представление о ней можно составить по аналогии с Таксилой, о которой мы вскоре будем говорить подробно. Это был густонаселенный, неопрятный, беспорядочно застроенный город. Македонский гарнизон располагался, вероятно, не в домах, а лагерем, в походных палатках. Когда же летом 320 г. до н. э. перед тем как повернуть к дому, Александр реорганизовал индийские сатрапии, Пушкалавати окончательно утратила свое значение. Время для методического восстановления и перестройки захваченных городов на индийской стороне Гиндукуша еще не пришло.
Это время пришло через полтора столетия после смерти Александра, когда около 180 г. до н. э. Деметрий, с которым мы уже встречались, перевалил Гиндукуш со стороны Бактрии и снова колонизовал индийские сатрапии. Культура северо-запада отливалась в новые формы, здесь воцарился новый порядок жизни, умы обратились к новым идеям. И если до сих пор призрачный след армий Александра был почти неуловим для археологии, то теперь, в памятниках этой эпохи, он обрел наконец-то всю вещественность реализованной мечты. Мы видели, что в Беграме (Каписа) и, с еще большей вероятностью, в Пушкалавати это выразилось в переносе города на свободную, новую территорию, где можно было забыть о потерях и поражениях и куда эллинизм мог прийти, ничего и никого не вытесняя. С подобной же урбанистической революцией встретимся мы и в Таксиле. И если нужны примеры, лежащие вне нашей темы, то для Индии лучшим и наиболее известным окажется Дели. Постоянно растущий и меняющийся, он продемонстрировал в последние столетия, как смена династий или образа жизни требует новых территорий, позволяющих спланировать город в соответствии с новым пониманием комфорта и престижа.
В Пушкалавати подобные перемены, происходившие раз в сто лет, были обнаружены простым и очень современным способом.
Археолог наших дней предпочитает наблюдать и фотографировать свои объекты с воздуха; разумеется, когда у него есть такая возможность. Земля должна быть равномерно сухой или влажной — при этом условии различные виды грунта (так же как и растений) резко отличаются друг от друга окраской и цветовой насыщенностью и аэросъемка становится бесценным союзником археологии. С птичьего полета ясно видны очертания древних фундаментов и стен, скрытых или плохо различимых на поверхности земли. В других случаях взгляд сверху помогает понять структуру памятника, детали которой, разобщенные и наблюдаемые вблизи, подчас кажутся необъяснимыми. В Пушкалавати аэросъемка сотворила чудо. Во время раскопочного сезона 1958 г. пакистанские военно-воздушные силы любезно предоставили нам реактивный самолет с фотокамерой. И в какие-нибудь несколько минут вся эта местность площадью более квадратной мили с ее довольно сложным рельефом была сфотографирована так подробно, что результаты оказались совершенно удивительными.
Как было сказано, район Пушкалавати сейчас представляет собой ряд песчаных возвышенностей, более или менее удаленных одна от другой, среди которых Бала Гиссар выделяется только высотой. В 1903 г. осмотр двух крайних с востока возвышенностей дал повод предположить, что они относятся к первым векам новой эры, ко времени кушан; впрочем, на один из холмов, называемый Шайхан Дхери, ярдах в 600 от Бала Гиссара, это предположение не распространялось. Его значение внезапно и убедительно определила аэрофотосъемка 1958 г. Выяснилось, что это останки индо-греческого города с характерным эллинистическим планом.
Изрытый и выветренный холм Шайхан протягивается на полмили с западной стороны реки Сват. Между ним и рекой расположены крестьянские усадьбы, несколько одиночных домов и мусульманское кладбище. А на самом холме окрестные жители много лет подряд добывали кирпич для своих построек, ломая древние стены. В бесконечной путанице ям и земляных отвалов невозможно было угадать первоначальный их порядок, пока он не предстал со всей очевидностью на аэрофотоснимке параллельными линиями улиц — их можно различить не менее пяти на расстоянии в сорок ярдов одна от другой — и отчетливыми прямоугольными контурами домов. Две улицы разделены пространством пошире, ярдов в 50. Здесь, в центре продолговатого двора, виден след круглой ступы, буддийского или, что менее вероятно, джайнистского священного памятника. Как и все здания на этойзамечательной фотографии, она представляет собою своего рода негатив, где стены обозначены траншеями, которые были вырыты местными расхитителями по методу: «Отыщи стену, иди вдоль, выкопай до основания».
Во время своей опустошительной деятельности охотники за кирпичами открыли по крайней мере два монетных клада. Там были 15 монет Менандра, греко-буддийского царя Северо-Западной Индии (около 160–140 гг. до н. э.), и более поздние, вплоть до времени Гермея, который правил спустя столетие.
В 1963–1964 гг. профессор Пешаварского университета А. X. Дайн тщательно обследовал весь этот участок и опубликовал в университетском сборнике «Древний Пакистан-II» результаты своих наблюдений, о которых следует рассказать хотя бы вкратце. В речной гальке на естественной поверхности участка он нашел квадратные медные монеты индо-греческих правителей Агафокла и Аполлодотора, о которых мало что известно, крме того, что они были ближайшими предшественниками Менандра и время их приходится на вторую четверть II в. до н. э. Соответственно монета Менандра, также медная и квадратная, была обнаружена в самом раннем структурном слое, лежащем выше наноса гальки. Профессор Дани безусловно нрав, приписывая основание города этому крупнейшему индо-греческому царю в середине II в. до н. э. Найдены и другие индо-греческие монеты, выпущенные Антиалкидом, с которым мы встретимся в следующей главе, Гелиоклом, Лисием, Телефом и Филоксеном. Из того же эллинистического слоя извлечен маленький терракотовый путти безупречного классического стиля. Так было установлено существование позднегреческого города.
По мнению профессора Дани, первоначальный план улиц оставался неизменным до начала III в. н. э., когда при кушанском царе Васудеве I город был перенесен на соседний участок. А до тех пор он побывал последовательно в руках скифов, парфян и ранних кушан, видимо, не понеся сколько-нибудь заметного урона в своем архитектурном облике. Можно добавить, предвосхищая главу VII нашей книги («Гандхара»), что до II в. н. э. здесь нет и намека на присутствие гандхарского искусства.
Теперь, следуя за Александром, оставим Пушкалавати и по древнему пути через Инд направимся к Таксиле, расположенной милях в 40 отсюда. Таксила была столицей владения или княжества, лежавшего на половине пути между Индом и Джеламом; когда войска захватчиков приблизились, ее князь не упустил случая заручиться их поддержкой против беспокойных соседей. Сын этого правителя, весьма дальновидный молодой человек по имени Амбхи, с помощью хорошо налаженной агентурной сети начал переговоры с Александром, когда тот находился еще за Индом, и вскоре, заняв место отца, принял завоевателей со всей учтивостью, которую они были способны оценить. Кавалерийский отряд из Таксилы присоединился к ним на переправе, где передовые части доблестного Гефестиона наводили мост и сосредоточили множество лодок и две тридцативесельные галеры. Там же были переданы от имени Амбхи 200 талантов серебра, 3 тысячи быков, более 10 тысяч овец и около 30 слонов. По обычаю, Александр принес на берегу реки жертвы богам и устроил состязания атлетов и всадников. Предзнаменования оказались благоприятными для переправы, и, когда войска вошли в Таксилу, там опять были возданы жертвы и состоялись игрища. Александр вместе с молодым князем Таксилы устроил в его дворце большой торжественный прием.
 В первой половине нашего века сэр Джон Маршалл и его коллеги производили раскопки этого города. Благодаря их работе, длившейся около 20 лет, мы узнали кое-что о Таксиле тех времен[24], когда она встречала нового повелителя (рис. 20). Городская жизнь, несомненно, заинтересовала Александра и была запечатлена его историками. Впрочем, внешний вид города его вряд ли поразил. Вблизи городских ворот, на пустыре, складывали тела умерших, чтобы птицы и ночные звери очистили их кости. Там важно восседали грифы и кружили, пронзительно крича, коршуны. Неподалеку, как сообщили Александру, происходило сати — самосожжение вдов. Его провели по извилистым скверно вымощенным улицам, которые то вдруг расширялись, то сужались, то упирались в стену дома, далеко выступавшего из ряда соседних домов, Александру, привыкшему к четкой планировке греческих городов, столица эта казалась грязной деревней[25]. Хаотичность плана или, вернее, полное отсутствие такового определялись беспорядочной расстановкой домов и лавок. Их непрочные стены сложены были из неотесанных блоков песчаника разной величины; промежутки между блоками заполнены глиной и щебнем. Попадались тут стены из сырцового кирпича и стены, обмазанные глиной. Сквозь открытую дверь можно было увидеть, что внутри они оштукатурены и окрашены в алый цвет. Другой архитектурной отделки здесь, по-видимому, не знали. Ячейки примыкающих друг к другу жилых и торговых помещений получали свет от маленьких внутренних дворов или световых колодцев. Одна постройка, покрупнее прочих, была расположена с некоторой даже парадностью по сторонам квадратного двора. Часть дома представляла собою довольно обширный зал, крышу которого поддерживали три высоких столба, поставленных по его продольной оси и опирающихся на базы, сложенные из камней. Как показали раскопки, данные которых еще не опубликованы, только в центре города находилась постройка более или менее внушительного вида. Это было, вероятно, административное здание, возвышавшееся, как остров, в середине главной улицы, с абсидой неправильной формы на одной стороне, с поместительным поперечным залом, где стояли деревянные колонны, подпирающие кровлю, вроде тех, что описаны выше. Такие столбы — опоры на базах, сложенных из булыжника, здесь можно было найти в самых скромных домах.
На рыночной площади, если верить археологии, торговали в основном изделиями местного ремесла. Александр побывал и там. В одном углу рынка он заметил группу девушек, тесно сбившихся и, конечно, щебетавших, как стайка ласточек. Ему объяснили, что их родители слишком бедны, чтобы собрать приданое для свадьбы, и девушки будут проданы. Таков был древний обычай, параллели которому можно найти и во временах, не столь от нас отдаленных.
В более почтенной нищете и неподалеку от города проживали философы, о которых владыка Таксилы с излишней, может быть, поспешностью сообщил Александру. Падкий до всего нового и удивительного, Александр призвал своего штатного мудрена Онесикрита, ученого-дилетанта и киника, и велел ему пригласить во дворец неизвестных мыслителей. До нас дошел обстоятельный отчет о том, как исполнил это поручение Онесикрит. Философы приняли его довольно прохладно. Один из них не без иронии предложил Онесикриту раздеться (вероятно, они и сами были голые, как положено святым людям в Индии) и затем приблизиться к ним с должным смирением. Другой спросил напрямик: «Зачем Александр пришел издалека?», явно желая сказать, что никто не звал его сюда. Словом, с Онесикритом обошлись не очень любезно. Тогда за дело взялся князь Таксилы. Только после его уговоров одни философ явился, наконец, к Александру и преподал ему урок местной мудрости. Он бросил на землю ссохшуюся жесткую шкуру и наступил на ее край, отчего другие края поднялись. Он обошел шкуру со всех сторон, но, с какого бы края ни наступал на нее, результат был тот же, пока философ не встал посредине шкуры. Тогда она распрямилась и нее края оказались прижатыми к земле. Это поучительное действо должно было показать Александру, что империей следует управлять из центра, а не забираться на окраины вроде Таксилы. Нет, не такого приема ожидал гордый пришелец с Запада у мудрецов Пенджаба.
Эти и другие впечатлении вносили приятное разнообразие в монотонный церемониал приемов и официальных пиров. Но пребывание Александра в Таксиле имело далеко идущие последствия, что подтверждается вещественными доказательствами. До его прихода культура Таксилы, как и ее архитектура, вряд ли могла поразить воображение. И вот сюда является целая армия, несущая в походных сумах добычу со всей Азин. По стопам этой армии, как увидим далее, шли беженцы — мастера, художники разгромленной Персидской империи, искавшие новых заказов и новых покровителей на золотом Востоке. И не случайно мы находим здесь предметы роскоши, изощренного ремесла лишь начиная со времени Александра и его преемников. В одном из городских домов, мимо которого проходил, может быть, завоеватель, археологи нашли кувшин, содержащий 1107 серебряных монет, а также несколько украшений из золота и серебра. Среди монет, большей частью местных, продолговатых или, как их еще называют, типа «вогнутый брусок», был персидский сикль[26] с изображением Великого царя, вооруженного луком и стрелами и скачущего на коне по своей империи, затем две монеты Александра Македонского и одна Филиппа Аридея, приблизительно 317 г. до п. э. В том же слое обнаружен еще один клад продолговатых серебряных монет, золотые и серебряные бусы и подвески и две превосходные греко-персидские геммы; на обеих вырезан лев, терзающий оленя. Все это прямые последствия кампании 326 г. до н. э.
В первой половине нашего века сэр Джон Маршалл и его коллеги производили раскопки этого города. Благодаря их работе, длившейся около 20 лет, мы узнали кое-что о Таксиле тех времен[24], когда она встречала нового повелителя (рис. 20). Городская жизнь, несомненно, заинтересовала Александра и была запечатлена его историками. Впрочем, внешний вид города его вряд ли поразил. Вблизи городских ворот, на пустыре, складывали тела умерших, чтобы птицы и ночные звери очистили их кости. Там важно восседали грифы и кружили, пронзительно крича, коршуны. Неподалеку, как сообщили Александру, происходило сати — самосожжение вдов. Его провели по извилистым скверно вымощенным улицам, которые то вдруг расширялись, то сужались, то упирались в стену дома, далеко выступавшего из ряда соседних домов, Александру, привыкшему к четкой планировке греческих городов, столица эта казалась грязной деревней[25]. Хаотичность плана или, вернее, полное отсутствие такового определялись беспорядочной расстановкой домов и лавок. Их непрочные стены сложены были из неотесанных блоков песчаника разной величины; промежутки между блоками заполнены глиной и щебнем. Попадались тут стены из сырцового кирпича и стены, обмазанные глиной. Сквозь открытую дверь можно было увидеть, что внутри они оштукатурены и окрашены в алый цвет. Другой архитектурной отделки здесь, по-видимому, не знали. Ячейки примыкающих друг к другу жилых и торговых помещений получали свет от маленьких внутренних дворов или световых колодцев. Одна постройка, покрупнее прочих, была расположена с некоторой даже парадностью по сторонам квадратного двора. Часть дома представляла собою довольно обширный зал, крышу которого поддерживали три высоких столба, поставленных по его продольной оси и опирающихся на базы, сложенные из камней. Как показали раскопки, данные которых еще не опубликованы, только в центре города находилась постройка более или менее внушительного вида. Это было, вероятно, административное здание, возвышавшееся, как остров, в середине главной улицы, с абсидой неправильной формы на одной стороне, с поместительным поперечным залом, где стояли деревянные колонны, подпирающие кровлю, вроде тех, что описаны выше. Такие столбы — опоры на базах, сложенных из булыжника, здесь можно было найти в самых скромных домах.
На рыночной площади, если верить археологии, торговали в основном изделиями местного ремесла. Александр побывал и там. В одном углу рынка он заметил группу девушек, тесно сбившихся и, конечно, щебетавших, как стайка ласточек. Ему объяснили, что их родители слишком бедны, чтобы собрать приданое для свадьбы, и девушки будут проданы. Таков был древний обычай, параллели которому можно найти и во временах, не столь от нас отдаленных.
В более почтенной нищете и неподалеку от города проживали философы, о которых владыка Таксилы с излишней, может быть, поспешностью сообщил Александру. Падкий до всего нового и удивительного, Александр призвал своего штатного мудрена Онесикрита, ученого-дилетанта и киника, и велел ему пригласить во дворец неизвестных мыслителей. До нас дошел обстоятельный отчет о том, как исполнил это поручение Онесикрит. Философы приняли его довольно прохладно. Один из них не без иронии предложил Онесикриту раздеться (вероятно, они и сами были голые, как положено святым людям в Индии) и затем приблизиться к ним с должным смирением. Другой спросил напрямик: «Зачем Александр пришел издалека?», явно желая сказать, что никто не звал его сюда. Словом, с Онесикритом обошлись не очень любезно. Тогда за дело взялся князь Таксилы. Только после его уговоров одни философ явился, наконец, к Александру и преподал ему урок местной мудрости. Он бросил на землю ссохшуюся жесткую шкуру и наступил на ее край, отчего другие края поднялись. Он обошел шкуру со всех сторон, но, с какого бы края ни наступал на нее, результат был тот же, пока философ не встал посредине шкуры. Тогда она распрямилась и нее края оказались прижатыми к земле. Это поучительное действо должно было показать Александру, что империей следует управлять из центра, а не забираться на окраины вроде Таксилы. Нет, не такого приема ожидал гордый пришелец с Запада у мудрецов Пенджаба.
Эти и другие впечатлении вносили приятное разнообразие в монотонный церемониал приемов и официальных пиров. Но пребывание Александра в Таксиле имело далеко идущие последствия, что подтверждается вещественными доказательствами. До его прихода культура Таксилы, как и ее архитектура, вряд ли могла поразить воображение. И вот сюда является целая армия, несущая в походных сумах добычу со всей Азин. По стопам этой армии, как увидим далее, шли беженцы — мастера, художники разгромленной Персидской империи, искавшие новых заказов и новых покровителей на золотом Востоке. И не случайно мы находим здесь предметы роскоши, изощренного ремесла лишь начиная со времени Александра и его преемников. В одном из городских домов, мимо которого проходил, может быть, завоеватель, археологи нашли кувшин, содержащий 1107 серебряных монет, а также несколько украшений из золота и серебра. Среди монет, большей частью местных, продолговатых или, как их еще называют, типа «вогнутый брусок», был персидский сикль[26] с изображением Великого царя, вооруженного луком и стрелами и скачущего на коне по своей империи, затем две монеты Александра Македонского и одна Филиппа Аридея, приблизительно 317 г. до п. э. В том же слое обнаружен еще один клад продолговатых серебряных монет, золотые и серебряные бусы и подвески и две превосходные греко-персидские геммы; на обеих вырезан лев, терзающий оленя. Все это прямые последствия кампании 326 г. до н. э.
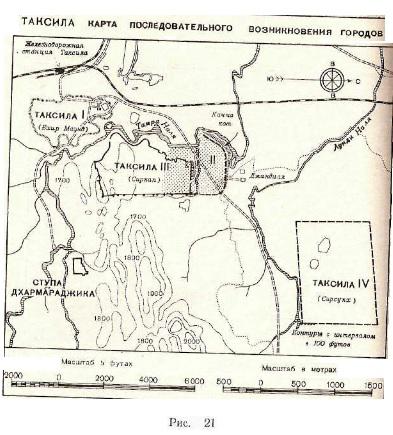 Но для одной важной перемены время еще не наступило. Прошла армия, у которой впереди много было боев и маршей, прошло время, но не сделано было ничего, чтобы изменить облик Таксилы, приблизив его к западному пониманию города. Археологией установлено, что Таксила, как и Пушкалавати, сохраняла свой прежний вид вплоть до появления здесь бактрийских греков из-за Гиндукуша около 180 г. до н. э. И тогда, опять же как в Пушкалавати, произошли перемены коренные и необратимые. В нескольких сотнях ярдов от старого города выросла вдруг новая Таксила с эллинистическим прямолинейным расположением улиц. Очевидно, Пушкалавати-Шайхан обрела себе двойника в Таксиле-Сиркапе.
Если не проявлять излишнего педантизма и не вдаваться в подробности, сходство их покажется бесспорным. В наши дни посетитель Сиркапа войдет в северные ворота и увидит перед собой прямую и широкую главную улицу. На восток и на запад тянутся каменные укреплении, тоже прямые, шириною в 20 футов, с квадратными башнями над выступающим по всей длине стен основанием, сделанным для того, чтобы воспрепятствовать подкопу. На восточном краю стена поворачивает под прямым углом к югу, она продолжается по прямой и снабжена башнями, расположенными на близком, но неравном расстоянии одна от другой. Достигнув южной оконечности, стена поднимается на скалистые вершины Хатхиала и, следуя за изгибами гряды, идет на запад. Спустившись к подножию гряды, стена идет под углом на север по руслу ручья, протекающего с внешней ее стороны. Невдалеке от юго-западного угла обнаружены запасные ворота.
По данным раскопок внутри укреплений, нижний (северный) город состоял из рядов узких прямых улочек или переулков, расходящихся под углом 90 градусов от главной улицы. В промежутках между ними шириной в 35–40 ярдов находились жилые кварталы — скопления довольно больших домов с внутренними дворами — подобные вытянутым островам (рис. 21), По обе стороны главной улицы располагались двумя линиями торговые помещения. Кое-где линия прерывалась культовыми памятниками — ступами, а на одном участке, в центре огороженного пространства, стоял ступообразный храм. Как и в Чарсаде-Шайхане, пространство это достигало в поперечнике 50 ярдов, превышая обычную ширину острова-квартала. На главной улице, ближе к центру, размещено большое здание с двумя соединенными дворами, на каждом из которых было возвышение или помост, что напомнило археологам, копавшим здесь, архитектурную подробность такого же рода в значительно более поздних дворцах эпохи Моголов, и потому они определили это здание как царский дворец. Однако сооружение, подобное этому, так называемый Махал, поставленный у подножия акрополя тех времен — Хатхиала, удален от шумного городского центра и с большим основанием может претендовать на царские привилегии.
Этот укрепленный город, очаг культуры западного типа, основан, по мнению Дж. Маршалла, бактрийскими греками в первой половине II в. до н. э., хотя большую часть своих находок здесь он датировал временем, когда парфяне, пришельцы с северо-запада, овладели этой областью, что произошло в I в. н. э., вероятно вскоре после 19 г. Теоретически одно не противоречит другому. Разумно предположить, что эллинистическая планировка городов была продолжена саками или скифами, которые появились в Пенджабе в начале I в. до н. э., а затем их преемниками, парфянами, в следующем столетии. Скифы, да и парфяне[27], были главным образом подражателями; их монеты чеканили мастера-греки, более того — у них даже сохранились македонские названия месяцев. И допустимо, что реконструкцию Таксилы, равно как и Пушкалавати, они вели по греческому образцу.
Тем не менее в скифо-парфянский период городская территория Таксилы претерпевала своеобразные изменения. Город значительно передвинулся в южном направлении вдоль постоянной оси север-юг. Глубокие раскопы, заложенные Дж. Маршаллом как раз внутри северных каменных укреплений, обнаружили семь последовательных слоев. Нижний и самый древний оказался довольно хаотичным. Он, вероятно, относится ко времени, предшествующему бактрийским грекам, которые появляются здесь только после 180 г. до н. э., и представляет собою, как можно видеть, остатки пригорода ранней Таксилы, лежавшей в трех четвертях мили отсюда, в местности, называемой Бхир-Маунд. Шестой и пятый слои идентифицированы с периодом бактрийских греков, первых, кто вел застройку по определенной системе. Полагают также, что четвертым и третьим слоями представлены так называемые скифы или, возможно, ветвь юечжи[28], которые, не имея определенного военно-политического плана и, быть может, не одержав даже полной победы, вторглись около 130 г. до н. э. в Бактрийское царство к северу от Гиндукуша, проникли в низовья Инда и оттуда, постоянно меняя маршрут, достигли в 80 г. до н. э. Пенджаба, где столетием позже оказались под властью парфян. Впрочем, подробности нам все еще далеко не ясны. Из двух верхних слоев Маршалла ранний определенно признан парфянским, а поздний частично совпадает с появлением здесь кушай, пришедших из Афганистана и Ирана во второй половине I в. н. э.
Пока что все хорошо. Толкование периодов жизни Таксилы можно признать в основном правильным по отношению к ее северной части, ограниченной остатками каменной стены. Однако расширенное значение, которое придает Дж. Маршалл своим раскопкам, несколько умеряется данными археологических работ 1944 г. В 566 ярдах южнее северной стены была заложена длинная широкая траншея в глубину до естественного грунта. И здесь, внутри городских стен, не оказалось и признака трех ранних слоев из семи, установленных Маршаллом. Слои начинаются с четвертого, датированного первой половиной или серединой I в. до н. э. Вот когда, а не за сто лет до того, и греко-бактрийское время, как полагал Маршалл, город был окружен каменной стеной, тянувшейся более чем на три мили. Ее возвели эллинизированные скифы или скифо-парфяне, которые правили здесь в тот период. Эти строители приняли греческую планировку потому, что их реконструкция производилась частью на территории первичного эллинистического города, так же как это было в Шайхане. Длинная главная улица, например, заканчивается не прямо, у северных ворот, а в стороне от них, видимо оттого, что новое сторожевое укрепление было предусмотрительно поставлено сбоку, а не поперек прежней городской оси. Но все-таки, где именно лежал этот новый эллинистический город и где находились оборонительные сооружения, которые, несомненно, у него были?
Но для одной важной перемены время еще не наступило. Прошла армия, у которой впереди много было боев и маршей, прошло время, но не сделано было ничего, чтобы изменить облик Таксилы, приблизив его к западному пониманию города. Археологией установлено, что Таксила, как и Пушкалавати, сохраняла свой прежний вид вплоть до появления здесь бактрийских греков из-за Гиндукуша около 180 г. до н. э. И тогда, опять же как в Пушкалавати, произошли перемены коренные и необратимые. В нескольких сотнях ярдов от старого города выросла вдруг новая Таксила с эллинистическим прямолинейным расположением улиц. Очевидно, Пушкалавати-Шайхан обрела себе двойника в Таксиле-Сиркапе.
Если не проявлять излишнего педантизма и не вдаваться в подробности, сходство их покажется бесспорным. В наши дни посетитель Сиркапа войдет в северные ворота и увидит перед собой прямую и широкую главную улицу. На восток и на запад тянутся каменные укреплении, тоже прямые, шириною в 20 футов, с квадратными башнями над выступающим по всей длине стен основанием, сделанным для того, чтобы воспрепятствовать подкопу. На восточном краю стена поворачивает под прямым углом к югу, она продолжается по прямой и снабжена башнями, расположенными на близком, но неравном расстоянии одна от другой. Достигнув южной оконечности, стена поднимается на скалистые вершины Хатхиала и, следуя за изгибами гряды, идет на запад. Спустившись к подножию гряды, стена идет под углом на север по руслу ручья, протекающего с внешней ее стороны. Невдалеке от юго-западного угла обнаружены запасные ворота.
По данным раскопок внутри укреплений, нижний (северный) город состоял из рядов узких прямых улочек или переулков, расходящихся под углом 90 градусов от главной улицы. В промежутках между ними шириной в 35–40 ярдов находились жилые кварталы — скопления довольно больших домов с внутренними дворами — подобные вытянутым островам (рис. 21), По обе стороны главной улицы располагались двумя линиями торговые помещения. Кое-где линия прерывалась культовыми памятниками — ступами, а на одном участке, в центре огороженного пространства, стоял ступообразный храм. Как и в Чарсаде-Шайхане, пространство это достигало в поперечнике 50 ярдов, превышая обычную ширину острова-квартала. На главной улице, ближе к центру, размещено большое здание с двумя соединенными дворами, на каждом из которых было возвышение или помост, что напомнило археологам, копавшим здесь, архитектурную подробность такого же рода в значительно более поздних дворцах эпохи Моголов, и потому они определили это здание как царский дворец. Однако сооружение, подобное этому, так называемый Махал, поставленный у подножия акрополя тех времен — Хатхиала, удален от шумного городского центра и с большим основанием может претендовать на царские привилегии.
Этот укрепленный город, очаг культуры западного типа, основан, по мнению Дж. Маршалла, бактрийскими греками в первой половине II в. до н. э., хотя большую часть своих находок здесь он датировал временем, когда парфяне, пришельцы с северо-запада, овладели этой областью, что произошло в I в. н. э., вероятно вскоре после 19 г. Теоретически одно не противоречит другому. Разумно предположить, что эллинистическая планировка городов была продолжена саками или скифами, которые появились в Пенджабе в начале I в. до н. э., а затем их преемниками, парфянами, в следующем столетии. Скифы, да и парфяне[27], были главным образом подражателями; их монеты чеканили мастера-греки, более того — у них даже сохранились македонские названия месяцев. И допустимо, что реконструкцию Таксилы, равно как и Пушкалавати, они вели по греческому образцу.
Тем не менее в скифо-парфянский период городская территория Таксилы претерпевала своеобразные изменения. Город значительно передвинулся в южном направлении вдоль постоянной оси север-юг. Глубокие раскопы, заложенные Дж. Маршаллом как раз внутри северных каменных укреплений, обнаружили семь последовательных слоев. Нижний и самый древний оказался довольно хаотичным. Он, вероятно, относится ко времени, предшествующему бактрийским грекам, которые появляются здесь только после 180 г. до н. э., и представляет собою, как можно видеть, остатки пригорода ранней Таксилы, лежавшей в трех четвертях мили отсюда, в местности, называемой Бхир-Маунд. Шестой и пятый слои идентифицированы с периодом бактрийских греков, первых, кто вел застройку по определенной системе. Полагают также, что четвертым и третьим слоями представлены так называемые скифы или, возможно, ветвь юечжи[28], которые, не имея определенного военно-политического плана и, быть может, не одержав даже полной победы, вторглись около 130 г. до н. э. в Бактрийское царство к северу от Гиндукуша, проникли в низовья Инда и оттуда, постоянно меняя маршрут, достигли в 80 г. до н. э. Пенджаба, где столетием позже оказались под властью парфян. Впрочем, подробности нам все еще далеко не ясны. Из двух верхних слоев Маршалла ранний определенно признан парфянским, а поздний частично совпадает с появлением здесь кушай, пришедших из Афганистана и Ирана во второй половине I в. н. э.
Пока что все хорошо. Толкование периодов жизни Таксилы можно признать в основном правильным по отношению к ее северной части, ограниченной остатками каменной стены. Однако расширенное значение, которое придает Дж. Маршалл своим раскопкам, несколько умеряется данными археологических работ 1944 г. В 566 ярдах южнее северной стены была заложена длинная широкая траншея в глубину до естественного грунта. И здесь, внутри городских стен, не оказалось и признака трех ранних слоев из семи, установленных Маршаллом. Слои начинаются с четвертого, датированного первой половиной или серединой I в. до н. э. Вот когда, а не за сто лет до того, и греко-бактрийское время, как полагал Маршалл, город был окружен каменной стеной, тянувшейся более чем на три мили. Ее возвели эллинизированные скифы или скифо-парфяне, которые правили здесь в тот период. Эти строители приняли греческую планировку потому, что их реконструкция производилась частью на территории первичного эллинистического города, так же как это было в Шайхане. Длинная главная улица, например, заканчивается не прямо, у северных ворот, а в стороне от них, видимо оттого, что новое сторожевое укрепление было предусмотрительно поставлено сбоку, а не поперек прежней городской оси. Но все-таки, где именно лежал этот новый эллинистический город и где находились оборонительные сооружения, которые, несомненно, у него были?
 На это ответят дальнейшие раскопки, хотя ответ нетрудно предугадать. В пятистах с лишним ярдах от каменных стен расположены остатки насыпи, называемые Качча-Кот (Глиняный Форт) и частично проходящие по берегу ручья (рис. 22). Внешне вал — а это, конечно, вал — представляет собой груду земли, но зачистка у подножия открыла обломки степы из кирпича-сырца. Первоначальная конструкция, возможно, походила на укрепления Бордж-и Абдаллах в Беграме. Дж. Маршалл, приписывая строительство каменных стен бактрийским грекам, решил, что эта далеко вынесенная фортификационная линия отмечала в Таксиле-Сиркапе «четко выраженную окраину города». Это нонсенс. Предвосхищая результат пока не состоявшихся раскопок, можно смело предположить, что Качча-Кот — это след главных укреплений греко-бактрийского города, который занимал территорию вне пояса каменных стен и простирался к югу под северной частью позднейшей скифо-парфянской Таксилы. Южная его оконечность находилась где-то между зоной «глубоких раскопов» Маршалла и центральной траншеей, прорытой в 1944 г. Круглый холм с плоской вершиной в юго-западном углу этого участка мог быть в то время акрополем. Если так, то его тактическое значение было утеряно, когда скифо-парфянский город распространился вплоть до хребта Хатхиал, лежащего значительно выше, что, несомненно, и соблазнило скифо-парфян расширить город именно в южном направлении.
На это ответят дальнейшие раскопки, хотя ответ нетрудно предугадать. В пятистах с лишним ярдах от каменных стен расположены остатки насыпи, называемые Качча-Кот (Глиняный Форт) и частично проходящие по берегу ручья (рис. 22). Внешне вал — а это, конечно, вал — представляет собой груду земли, но зачистка у подножия открыла обломки степы из кирпича-сырца. Первоначальная конструкция, возможно, походила на укрепления Бордж-и Абдаллах в Беграме. Дж. Маршалл, приписывая строительство каменных стен бактрийским грекам, решил, что эта далеко вынесенная фортификационная линия отмечала в Таксиле-Сиркапе «четко выраженную окраину города». Это нонсенс. Предвосхищая результат пока не состоявшихся раскопок, можно смело предположить, что Качча-Кот — это след главных укреплений греко-бактрийского города, который занимал территорию вне пояса каменных стен и простирался к югу под северной частью позднейшей скифо-парфянской Таксилы. Южная его оконечность находилась где-то между зоной «глубоких раскопов» Маршалла и центральной траншеей, прорытой в 1944 г. Круглый холм с плоской вершиной в юго-западном углу этого участка мог быть в то время акрополем. Если так, то его тактическое значение было утеряно, когда скифо-парфянский город распространился вплоть до хребта Хатхиал, лежащего значительно выше, что, несомненно, и соблазнило скифо-парфян расширить город именно в южном направлении.
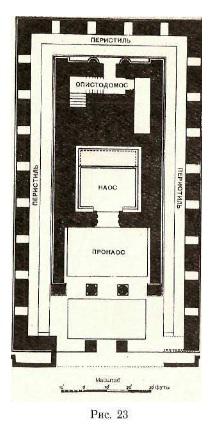 В связи с этим уместно вспомнить о двух из многих здании, расположенных за пределами укрепленной территории. Первое находится ярдах в 250 к северу от Качча-Кота; это руины, замечательного, хотя и перестроенного сооружения, очевидно храма полуклассического типа (рис. 23). Он известен под названием Джандиал и стоит на искусственной насыпи высоко над городом. Длина его составляет 158 футов. Он сложен из валунов, покрытых штукатуркой, однако южный вход сделан из обтесанного камня. В плане он повторяет традиционный греческий храм — внутреннее его пространство четко делится на пронаос или открытый спереди портик, наос[29], то есть святилище, и за ним опистодомос[30], помещение, открывающееся в противоположный (задний) портик. Но две особенности отличают его от классического прототипа: перистиль (колоннада, окружающая храм) заменен здесь стеной с большими оконными проемами, а между святилищем и опистодомосом уложена массивная, на глубоком фундаменте, каменная платформа с широкими ступенями, ведущими на нее. Платформа эта предназначалась для какой-то тяжелой надстройки. С внешней, южной стороны две ионические колонны в антах[31] держали над широким проемов архитрав[32], а пара таких же колонн и две пилястры обрамляли вход в пронаос.
Несмотря на почти классический облик и великолепно сработанные ионические колонны, к сожалению сохранившиеся во фрагментах, здание это можно считать единственным в своем роде. Внутри не обнаружено никаких следов культовой статуи или чего-нибудь подобного. Следовательно, храм вряд ли мог быть индуистским, буддийским или джайнистским. По вполне основательной догадке Дж. Маршалла, каменная платформа была подножием сорокафутовой башни, на вершине которой пылал священный огонь. Возможно также, что оттуда возносили молитвы солнцу и луне. В таком случае храм этот связан с культом огнепоклонников или с зороастризмом. Но, вероятно, здесь могли совершаться обряды и каких-нибудь иных восточных религий той эпохи. Археологические находки не указывают точной даты постройки храма Джандиал. Маршалл иногда говорит, что храм «был воздвигнут в правление бактрийских греков» (т. е. между 180 и 80 гг. до н. э.), иногда же, что он относится ко времени скифо-парфян (I в. до н. э. — I в. н. э.). Однако когда бы его ни построили, очевидно, что архитектор был хорошо знаком с греко-бактрийским зодчеством, а каменщики, тесавшие капители и базы колонн, безупречно владели своим ремеслом. Между прочим, колонны здесь устанавливали по классической методе — барабаны опускали один на другой, вращая их вокруг оси, чем достигалось соединение точное и плотное, впритирку.
На расстоянии одной мили к юго-западу от Джандиала, ярдах в 500 на запад от Сиркапа и несколько севернее деревушки Мохра Малиаран, находится другое примечательное здание, обнаруженное раскопками еще до 1873 г. Это, как полагали, буддийская культовая постройка. Она имела шесть колонн, от которых уцелели песчаниковые базы аттического типа и несколько фрагментов ионических капителей довольно грубой работы. Одна из капителей, источенная временем и непогодой, и три базы стоят теперь перед Лахорским музеем. Здание, часть которого они составляли, можно предположительно датировать по заложенным в его фундамент «двенадцати большим медным монетам Азеса» второй половиной I в. до н. э. Наряду с колоннами Джандиала эти фрагменты являются единственным примером ионического ордера как в Северо-Западной Индии, так и в древней Бактрии, где в качестве западного образца использовали обычно коринфскую капитель.
Кроме того, Сиркап и его окрестности дали множество римских и греко-римских вещей — стекло I в. н. э., изображение Силена[33] на дне серебряной чаши и бронзовую статуэтку Гарпократа[34] (то и другое, вероятно, из Александрии), две штуковые головы путти[35] и сатира выдержанного классического стиля и явно не индийские (рис. 24). Все это говорит нам о непрерывном импорте товаров, идеи и, быть может, художников с Запада.
В связи с этим уместно вспомнить о двух из многих здании, расположенных за пределами укрепленной территории. Первое находится ярдах в 250 к северу от Качча-Кота; это руины, замечательного, хотя и перестроенного сооружения, очевидно храма полуклассического типа (рис. 23). Он известен под названием Джандиал и стоит на искусственной насыпи высоко над городом. Длина его составляет 158 футов. Он сложен из валунов, покрытых штукатуркой, однако южный вход сделан из обтесанного камня. В плане он повторяет традиционный греческий храм — внутреннее его пространство четко делится на пронаос или открытый спереди портик, наос[29], то есть святилище, и за ним опистодомос[30], помещение, открывающееся в противоположный (задний) портик. Но две особенности отличают его от классического прототипа: перистиль (колоннада, окружающая храм) заменен здесь стеной с большими оконными проемами, а между святилищем и опистодомосом уложена массивная, на глубоком фундаменте, каменная платформа с широкими ступенями, ведущими на нее. Платформа эта предназначалась для какой-то тяжелой надстройки. С внешней, южной стороны две ионические колонны в антах[31] держали над широким проемов архитрав[32], а пара таких же колонн и две пилястры обрамляли вход в пронаос.
Несмотря на почти классический облик и великолепно сработанные ионические колонны, к сожалению сохранившиеся во фрагментах, здание это можно считать единственным в своем роде. Внутри не обнаружено никаких следов культовой статуи или чего-нибудь подобного. Следовательно, храм вряд ли мог быть индуистским, буддийским или джайнистским. По вполне основательной догадке Дж. Маршалла, каменная платформа была подножием сорокафутовой башни, на вершине которой пылал священный огонь. Возможно также, что оттуда возносили молитвы солнцу и луне. В таком случае храм этот связан с культом огнепоклонников или с зороастризмом. Но, вероятно, здесь могли совершаться обряды и каких-нибудь иных восточных религий той эпохи. Археологические находки не указывают точной даты постройки храма Джандиал. Маршалл иногда говорит, что храм «был воздвигнут в правление бактрийских греков» (т. е. между 180 и 80 гг. до н. э.), иногда же, что он относится ко времени скифо-парфян (I в. до н. э. — I в. н. э.). Однако когда бы его ни построили, очевидно, что архитектор был хорошо знаком с греко-бактрийским зодчеством, а каменщики, тесавшие капители и базы колонн, безупречно владели своим ремеслом. Между прочим, колонны здесь устанавливали по классической методе — барабаны опускали один на другой, вращая их вокруг оси, чем достигалось соединение точное и плотное, впритирку.
На расстоянии одной мили к юго-западу от Джандиала, ярдах в 500 на запад от Сиркапа и несколько севернее деревушки Мохра Малиаран, находится другое примечательное здание, обнаруженное раскопками еще до 1873 г. Это, как полагали, буддийская культовая постройка. Она имела шесть колонн, от которых уцелели песчаниковые базы аттического типа и несколько фрагментов ионических капителей довольно грубой работы. Одна из капителей, источенная временем и непогодой, и три базы стоят теперь перед Лахорским музеем. Здание, часть которого они составляли, можно предположительно датировать по заложенным в его фундамент «двенадцати большим медным монетам Азеса» второй половиной I в. до н. э. Наряду с колоннами Джандиала эти фрагменты являются единственным примером ионического ордера как в Северо-Западной Индии, так и в древней Бактрии, где в качестве западного образца использовали обычно коринфскую капитель.
Кроме того, Сиркап и его окрестности дали множество римских и греко-римских вещей — стекло I в. н. э., изображение Силена[33] на дне серебряной чаши и бронзовую статуэтку Гарпократа[34] (то и другое, вероятно, из Александрии), две штуковые головы путти[35] и сатира выдержанного классического стиля и явно не индийские (рис. 24). Все это говорит нам о непрерывном импорте товаров, идеи и, быть может, художников с Запада.
 Я задержал внимание читателей на этих греческих и полугреческих городах между Западным Пенджабом и Гиндукушем по двум причинам. Во-первых, до недавнего времени о них было известно немногое и приток нового материала в последние годы оправдывает и даже требует хотя бы общего описания. Во-вторых, материал этот весьма убедительно показывает, как недолгий в общем поход Александра эллинизировал чуть ли не в единый миг огромные пространства Азии, населенные к тому времени кочевниками, полукочевниками и кое-где земледельцами[36]. Восточнее Персеполя и на северо-востоке между Каспием и Памиром различные племена, условно объединяемые нами под названием скифов и парфян, иногда проникались духом ахеменидской дисциплины, и тогда возникали города вроде Кирополя в излучине Яксарта, в верхнем его течении, или редкие, разбросанные крепости, связанные «царской дорогой». Однако тут речь шла не столько о цивилизации, сколько о политике. Конечно, и Александру с его македоно-греческой армией было важно сохранить контроль над окраинами империи, и он основал свою «Дальнюю Александрию» (Ходжент) в верхнем течении Яксарта, а также другие города и форты. Ради достижения этой военно-политической цели он, конечно, использовал персидский образец, даже развил его. Но и только. Ибо города, заложенные Александром, стали по преимуществу центрами распространения эллинистического гуманизма. Их руководящая роль сводилась к умиротворению, но не столько мерами карательными, сколько методами цивилизации. Мы и сейчас знаем не так уж много о Кандахаре или Ай-Хануме, и все же достаточно, чтобы составить представление о культурной целостности этих вновь открываемых очагов эллинизма in partibus, о том интересе, который проявляли здесь к проблемам философии и морали, образования и эстетики, проблемам в основе своей греческим, но поставленным в условия восточного окружения.
По-видимому, эти гуманные и гуманистические проблемы удалось решить, о чем свидетельствует облик городов, которые мы окинули беглым взглядом, Беграм, Пушкалавати Шанхай (Чарсада), Таксила-Сиркап — городов, построенных через полтора века после Александра, но построенных греками или иными носителями эллинских традиций, которые именно он принес в глубину Азии. И это не все. Когда еще через сто лет власть перешла к парфянам и скифам, они утверждали эту власть не как разрушители, но как мудрые наследники этой великой традиции. Я назвал их подражателями, что в значительной мере справедливо. Они были побеждены александровским гуманизмом. Культурная идея, которую столь настойчиво проводил Александр, была принята «скифами», потому она и выжила, даже перейдя рубежи Окса и Яксарта. Даже подчиняясь силе, греки завоевывали умы. Так было на Востоке и на Западе[37].
Я задержал внимание читателей на этих греческих и полугреческих городах между Западным Пенджабом и Гиндукушем по двум причинам. Во-первых, до недавнего времени о них было известно немногое и приток нового материала в последние годы оправдывает и даже требует хотя бы общего описания. Во-вторых, материал этот весьма убедительно показывает, как недолгий в общем поход Александра эллинизировал чуть ли не в единый миг огромные пространства Азии, населенные к тому времени кочевниками, полукочевниками и кое-где земледельцами[36]. Восточнее Персеполя и на северо-востоке между Каспием и Памиром различные племена, условно объединяемые нами под названием скифов и парфян, иногда проникались духом ахеменидской дисциплины, и тогда возникали города вроде Кирополя в излучине Яксарта, в верхнем его течении, или редкие, разбросанные крепости, связанные «царской дорогой». Однако тут речь шла не столько о цивилизации, сколько о политике. Конечно, и Александру с его македоно-греческой армией было важно сохранить контроль над окраинами империи, и он основал свою «Дальнюю Александрию» (Ходжент) в верхнем течении Яксарта, а также другие города и форты. Ради достижения этой военно-политической цели он, конечно, использовал персидский образец, даже развил его. Но и только. Ибо города, заложенные Александром, стали по преимуществу центрами распространения эллинистического гуманизма. Их руководящая роль сводилась к умиротворению, но не столько мерами карательными, сколько методами цивилизации. Мы и сейчас знаем не так уж много о Кандахаре или Ай-Хануме, и все же достаточно, чтобы составить представление о культурной целостности этих вновь открываемых очагов эллинизма in partibus, о том интересе, который проявляли здесь к проблемам философии и морали, образования и эстетики, проблемам в основе своей греческим, но поставленным в условия восточного окружения.
По-видимому, эти гуманные и гуманистические проблемы удалось решить, о чем свидетельствует облик городов, которые мы окинули беглым взглядом, Беграм, Пушкалавати Шанхай (Чарсада), Таксила-Сиркап — городов, построенных через полтора века после Александра, но построенных греками или иными носителями эллинских традиций, которые именно он принес в глубину Азии. И это не все. Когда еще через сто лет власть перешла к парфянам и скифам, они утверждали эту власть не как разрушители, но как мудрые наследники этой великой традиции. Я назвал их подражателями, что в значительной мере справедливо. Они были побеждены александровским гуманизмом. Культурная идея, которую столь настойчиво проводил Александр, была принята «скифами», потому она и выжила, даже перейдя рубежи Окса и Яксарта. Даже подчиняясь силе, греки завоевывали умы. Так было на Востоке и на Западе[37].
* * *
Несомненно, северо-запад Пакистана привлечет еще многих искателей; они откроют новые следы индо-греческой эпохи, оставленные некогда Александром, его греческими преемниками и азиатскими их учениками. Но следы, быть может, поведут еще дальше, на восток Индии. И там, в штате Орисса, перед археологами снова возникнет призрак Эллады. В III в. до н. э. возле средневекового и современного Бубанесвара был заложен город, квадратный в плане, явно неиндийского типа. Это произошло, несомненно, в связи с тем и, вероятно, вскоре после того, как молодой! царь Ашока опустошил около 261 г. область Калингу. В этой местности, называемой ныне Шишупалгарх, проведена была в 1948–1949 гг. археологическая разведка. В каждой из городских стен, охвативших участок в три четверти кв. мили, пробито по два входа, причем весьма симметрично одна пара против другой. Думается, что и внутри стен город был спланирован не по-индийски. Это весьма возможно, хотя и не доказано раскопками. Не менее возможно, что город основан именно Ашокой, чьи владения, как мы знаем, включали эллинизированные территории северо-запада. В таком случае есть основание предполагать, что прямолинейный план города возник под влиянием «Александрий» или их позднейших градостроительных вариантов. Если догадки наши со временем подтвердятся, мы увидим, что Александр закладывал города и там, где никогда не бывал. Подводя итог, следует сказать, что грандиозный его марш от Персеполя до Пенджаба оставил живучее эллинистическое наследство удаленнейшим восточным окраинам. И этот непосредственный, наиболее очевидный результат легендарного похода был не единственным и не самым долговечным, ибо разгром Персидской монархии вызвал на востоке своего рода цепную реакцию, которая оказывала формирующее влияние на индийское искусство, архитектуру, даже мышление вплоть до средневековья. На архитектуру в особенности; тут к слову «влияние» так часто добавляли «персепольское», что это стало уже общим местом. К этим столь долго не смолкавшим отзвукам саги об Александре мы и обратимся теперь.Безработные мастера
Падение Персеполя символизировало падение Персидской империи. В те считанные месяцы, что оставались побежденному царю и тем, кто столь бесславно пытался подменить его собою, империя лишена была крова. Она как бы возвращалась к кочевой жизни, из которой с таким блеском вышла более чем за два века до того. Между тем итоги политического и культурного двухсотлетнего ее развития были поистине замечательны. Созданная скитальцами по рождению, империя объединила и подчинила азиатские земли, протянувшиеся на 3000 миль. Не располагая сколько-нибудь развитой художественной школой, она оформила свое имперское мировоззрение и обрела собственный стиль, организуя таланты чужестранных художников. За 200 лет она создала архитектуру и скульптуру, которые заняли подобающее место во всемирной истории искусств и навсегда остались там под славным именем «искусство Ахеменидов». Все это по воле македонских захватчиков превратилось однажды ночью в дым. Империя погибала, и никому не было дела до ее искусства. Войско на марше не занимается поощрением художеств, даже если это войско Великого Александра. Множество мастеров Персии обречено было на длительное безделье. Податься им было некуда. На западе, где процветало искусство эллинов, они оказались бы лишними. На северо-восток? Но все еще неустойчивый, варварский быт скифов и парфян не испытывал нужды в их мастерстве. «Александрии», которые завоеватель разбрасывал на своем пути, даже легендарная «тысяча бактрийских городов», упомянутая Юстином, имели, должно быть, вид и потребности вполне первобытные. Если там и строили, то своими, греческими силами. Только в одной стороне слабо светил луч надежды — в стороне, куда вели давно проторенные торговые пути. Там, а Индии, была столетиями налаженная городская жизнь, и только там могли они рассчитывать на признание и того рода покровительство, какое было привычно художникам Персии. Их ожидания полностью оправдались уже вскоре после смерти Александра в 323 г. до н. э. Вот почему именно в том направлении потянулись бездомные мастера. Память об этом исходе до сих пор сохраняется в государственном гербе Индии. Эта поразительная миграция культуры, оставившая глубокий след и в истории и в монументальном искусстве, оказалась весьма важным, хотя и не прямым, последствием разгрома Персии греческими войсками. Коротко говоря, историческая обстановка была такова: в 326 г. до н. э. Александр повернул в обратный путь, из Индии в Вавилон. Завоеванные области он превратил в сатрапии; управлять ими должны были индийские раджи и македонские офицеры. Подробности в данном случае несущественны, достаточно сказать, что вся система очень скоро развалилась и, видимо, не была восстановлена до смерти Александра. Судьба этих территорий была решена заново, когда в 323 г. в Вавилоне и в 321 г. в Трипарадизе его генералы делили империю, и азиатская часть досталась Селевку Никатору. Правда, лишь десять лет спустя тот выпутался, наконец, из интриг и ссор затянувшегося раздела и смог заняться своим Востоком. И только в 305 или, вероятно, в 304 г. до н. э. Селевк готов был встретить череду новых и опасных событий, которые теперь угрожали ему в Северо-Западной Индии. Там после похода Александра резко возобладали захватнические устремления. Они оформлялись по не существующему уже ахеменидскому образцу, но непосредственным стимулом были, несомненно, впечатления от македонской агрессии. Существование второго, непосредственного, источника вдохновения может быть подтверждено, если мы примем рассказ Плутарха о том, как юноша Андракотт, в котором нетрудно признать будущего императора Чандрагунту Маурья, увидел самого Александра и был поражен этой встречей. «Говорят, — как пишет Плутарх, — впоследствии [он] часто повторял, что Александру ничего не стоило довершить свое намеренье…», то есть стать хозяином Северной Индии. Состоялась их встреча в действительности или нет, но известно, что между 325 и 320 гг. до н. э. этот самый Андракотт, или Чандрагупта, приступил с немалой энергией и успехом к созданию империи. Подробности опять-таки не имеют для нас значения, и все же события эти следует изложить, пусть вкратце. Чандрагупта из рода Маурьев[38] служил в войсках царя Нанда в небольшом царстве Магадха на реке Ганг, в местности, называемой теперь Южный Бихар. Он не поладил со своим повелителем, взбунтовался, потерпел неудачу и вынужден был спасаться бегством. Кажется, его поддержали в Пенджабе. Он вторгся в Магадху с запада, одолел царя и узурпировал его трон. Мы не знаем, как удалось ему впоследствии расширить пределы этого не слишком обширного царства. Однако когда Селевк явился сюда и предъявил права на индийские сатрапии Александра, его встретила грозная армия во главе с царем Чандрагуптой. После пробы сил Селевку пришлось уступить все земли на индийской стороне Гиндукуша. Сын и преемник Чандрагупты распространил свою власть далеко на юг Индии. Царство Магадха стало империей Маурьев, величайшей империей Индийского полуострова вплоть до нашего времени. Поначалу новая империя представлялась более политическим, нежели культурным, объединением. Не было еще ни искусства, ни архитектуры, которые могли бы назваться маурианскими. Был контур империи, который еще только предстояло заполнить. Династия Маурьев должна была решать в основном ту же проблему, что и Ахемениды за 200 лет до того. Теперь, однако, средства для решения этой проблемы были под рукой. Здесь, в новой индийской империи, нашли приют мастера погибших Суз, Экбатан, Персеполя. Здесь не знали монументального искусства, тем настоятельнее была потребность в нем — в искусстве, которое воплотило бы религиозные и светские идеалы на имперском уровне, в чем молодое государство Маурьев испытывало настоятельную потребность. Здесь, в среднем течении Ганга, вот уже два века длилось этическое, духовное брожение, апостолы буддизма и джайнизма создавали тут великие морально-философские системы, которым, повторяю, недоставало лишь зримой формы, адекватного материального выражения. Художественный этот пробел стоит того, чтобы задержаться на нем. Индийское изобразительное искусство до эпохи Маурьев в течение столетий было по существу и по преимуществу фольклором. Типичный его продукт — терракотовые фигурки людей и животных, вылепленные более или менее талантливо, часто выразительные, всегда декоративные, но по своему духовному значению равные игрушке или амулету. На фоне зрелой индийской мысли это искусство кажется детским. Тоже и архитектура, насколько известно, не дала ко времени Будды почти ни одного сооружения, которое мы без натяжки могли бы назвать монументальным. Фортификационные постройки Раджгира (VI в. до н. э.) в южных холмах Патны сложены прочно, но кладка их груба и беспорядочна. Современные им дома Хастинапура в верховьях Ганга и Каусамби, возле устья Джамны, свидетельствуют об известной строительной сноровке, и все же в них нет и намека на понимание архитектуры как самостоятельной эстетической ценности. Правда, сведения, которыми мы располагаем, неполны уже потому, что образцы деревянного зодчества до нашего времени не сохранились. Совершенно очевидно, что монументальная архитектура появляется в Индии лишь при династии Маурьев, вскоре после похода Александра, и появляется при весьма замечательных обстоятельствах. Около середины V в. до н. э. столица Магадхи была перенесена из Раджгира на более удобную и плодородную равнину, в район нынешнего города Патна, где в то время река Сон впадала в Ганг. Именно здесь, в Паталипутре, на месте которой еще за три четверти века до того была поставлена пограничная крепость, обосновался в 322 г. до н. э. мятежник и похититель престола Чандрагупта Маурья. Ровно через 20 лет после соглашения обоих царей, индийского и греческого, сюда же, ко двору Маурьев, прибыл Мегасфен, посол Селевка. Для нас, историков, это большая удача, потому что Мегасфен, человек наблюдательный и аккуратный, записал все, что увидел в Паталипутре. И еще большей удачей оказалось то, что отрывки его записей, достаточно вразумительные, сохранили для нас позднейшие писатели, в особенности Страбон (I в. до н. э.) и Элиан (III в. н. э.). Мегасфен пишет, что город Паталипутра был вытянут на девять и одну пятую мили в длину и простирался вширь на одну и две трети мили; укрепления его состояли из широкого, в 200 ярдов, рва и деревянного палисада с бойницами для лучников, с 570 башнями 64 воротами. Продолговатые его очертания указывают на то, что город, как и современная Патна, бесконечно тянулся вдоль берега Ганга. Весьма значительные ею размеры, даже со скидкой на преувеличение или неточность, убеждают в том, что город строил император Маурьев, а не его скромные предшественники из династии Нанда. Во дворце императора все было устроено так, «чтобы вызвать восхищение, и ни богатые Сузы, ни великолепные Экбатаны не могли бы с ним состязаться. В парках тут гуляют павлины и фазаны, нарочно к тому приученные, и есть растения, которые увидишь только здесь… и тенистые рощи, и цветущие луга, и ветви деревьев, искусством садовника замысловато сплетенные… Также есть прекрасные бассейны и в них рыбы удивительной величины и совсем ручные». Словом, это был типичный персидский «парадиз», и постройки его претендовали на сравнение с дворцами персидских царей. Можно не сомневаться, что именно по этой модели устраивал свою резиденцию Чандрагупта. Недаром его молодая империя приютила стольких художников одряхлевшей и погибшей империи Ахеменидов. Археологам досталось не так уж много от былой роскоши Паталипутры. Но и это немногое подтвердило выводы, которые позволяют сделать исторические сведения. Уже пробные и довольно бессистемные раскопки 1896 г. открыли на территории столицы Маурьев капитель колонны знакомого нам ахеменидского стиля. Ступенчатый импост, волюты, расположенные по обеим сторонам капители, и пальметта в центре вполне соответствуют персидскому прототипу. Если не по действительному времени создания, то по стилю капитель эта должна быть отнесена к самому началу пересадки иранского искусства в Северную Индию. Кроме того, были найдены две ножки каменного трона того же ахеменидского типа, вырезанные в виде крылатых львов и отполированные до блеска, как это было принято у мастеров Персии. В 1912 г. произведена еще более решительная попытка обнаружить маурийскую Паталипутру. Эти раскопки, как и предыдущие, не отличались строгостью метода, однако теперь удалось обнаружить часть зала, где стояло 80 (а может, и больше) колонн высотою в 20 футов, так же как в колонных залах Персеполя. Обломки этих колони сохранили тщательную полировку, которая в Индии характерна именно для эпохи Маурьев и заимствована, как уже говорилось, у персидских камнерезов, которые, возможно, в свою очередь поглядывали на полированные мраморы греческих городов Малой Азии. Значительное расстояние между колоннами — 14 футов — предполагает деревянные потолочные перекрытия. Деревянные конструкции перед колоннадой, очевидно, поддерживали снизу платформу или монументальную лестницу вроде персепольской, которые было бы рискованно возводить без искусственной опоры на здешнем неустойчивом грунте. Возобновленные в 1955–1950 гг. раскопки дали «большое количество осколков полированного песчаника (видимо, фрагменты архитектурных деталей) и в том же слое образец искусства эпохи Маурьев — поврежденное скульптурное изображение лежащего Нанди, быка Шивы. Здесь, возможно, была еще одиночная колонна, от нее остался обломок полированного песчаника 6 на 3 фута, украшенный шнуром перлов и типичной персидской пальметтой». Данные, как видим, не слишком обильные, но все же и они указывают на то, что крупное это сооружение представляет собой персидский диван, или ападану, зал для приемов, а настойчиво повторяющиеся «иранизмы» свидетельствуют об импорте художественных идеи и самих художников. Добавим, что раскопками частично обнаружены и деревянные укрепления, о которых писал Мегасфен. Две линии деревянных столбов высотой в 15 футов, отстоящие на 14,5 фута одна от другой и соединенные своего рода полом и кровлей из поперечных бревен, прослежены на довольно значительном расстоянии и тянутся далее, «почти бесконечно», как показалось археологам. Может быть, это был проход внутри земляного вала или, что вероятнее, деревянная конструкция была заполнена землей и оказывалась, таким образом, наружной облицовкой. Укрепления подобного типа не имеют аналогий в Индии, хотя Мегасфен отмечал, что у индийцев «все города на берегах рек и морей построены из дерева, ибо, построенные из кирпича, они не могли бы достаточно долго противостоять дождям, с одной стороны, и, с другой, речным потокам, когда те выходят из берегов. Но города, поставленные на возвышениях, где паводок им не опасен, строят из глины и кирпича». Видимо, фортификация Паталипутры в отличие от экзотического колонного зала характерна для Индии. В остальном же формирующее влияние зрелого искусства Персии на незрелый индийский экспериментализм очевидно. Влияние это отнюдь не замыкалось в пределах царского дворца и города, чему найдется немало подтверждений. Такова, например, скальная культовая архитектура, процветавшая в течение целого тысячелетия со времен великого царя Маурьев Ашоки в гористых районах Центральной Индии. Наиболее ранний храм (среди датированных) находится в горной местности Барабар милях в сорока к югу от Паталипутры. Это искусственные пещеры, вырубленные в гнейсе и оформленные внутри наподобие древних деревянных храмов. Все они круглые или вытянутые в плане с купольными и килевидными сводами, зеркально отполированными, опять-таки на персидский манер. Сохранились надписи, из коих явствует, что около 250 г. до н. э. Ашока, внук Чандрагупты Маурья, передал этот храм аскетам адживика[39], соперничавшим с буддистами и джайнистами. Сам Ашока исповедовал буддизм, и царственный его дар лучшее доказательство религиозной терпимости, которую он декларировал в своих многочисленных эдиктах, в том числе и тех, уже известных нам, что найдены в далеком Кандахаре. Существенно, что подобные храму Барабара скальные сооружения не встречаются в Индии до эпохи Маурьев. Зато в них можно усмотреть генетическое родство с гробницами, вырубленными в персидских и индийских скалах в VII в. до н. э. или даже ранее. Видимо, Ашока усвоил персо-мидийскую традицию, приспособив ее к индийским нуждам и представлениям. Чрезвычайно напоминает местные постройки из дерева и тростника уже самый древний храм в Барабаре, хотя он и отмечен прикосновением персидской строительной техники (вспомним полированные поверхности камня). Другой скальный храм, Ломас Риши, представляет собой продолговатый сводчатый зал, в который ведет отделанная под дерево дверь индийского стиля, украшенная резьбой и скульптурой, исполненной весьма тщательно и с большим мастерством. Еще одно пещерное сооружение, Судама, выглядит как зал с коробовым сводом; в дальнем углу зала находится святилище, имитирующее в камне круглую хижину с дощатыми стенами и тростниковой кровлей. Все это, разумеется, отполировано до зеркального блеска. Поздняя скальная архитектура гораздо более изыскана, но и тут мы постоянно отмечаем удивительное свойство индийского мышления — способность перенимать, преображая. Говоря о пещерных храмах, следует отметить и другие черты индийского строительства эпохи Маурьев, указывающие на его близость к ахеменидской архитектуре. Правда, говорить придется скорее о волнующих намеках, нежели о точных и недвусмысленных указаниях. Как в Индии, так и в Персии архитектурное мышление определялось ведущим строительным материалом — деревом и необожженным кирпичом. В обеих странах камень использовали только как более прочный материал для передачи форм, заранее и досконально разработанных в дереве. Конечно, индийцы и персы были достаточно искусными мастерами, имея дело с простой прямостоящей конструкцией, то есть, решая относительно несложную проблему распределения вертикального веса с наименьшим боковым отклонением. Но в целом для ихпостроек типична одна особенность, а именно: детали из камня не выглядели обязательными в архитектурно-декоративной системе здания, они не обусловлены конструктивными требованиями или художественной традицией. Бесспорно, это сходство может оказаться случайным, несмотря на всю его очевидность. Продолжим, однако, сравнения. Херцфельд пишет: «Мидийские каменщики, желая изготовить лестницу, колонну или окно, составляли из отдельных камней некое нагромождение, отвечавшее их замыслу размером и очертаниями, после чего тесали из этой рукотворной скалы то, что требовалось. Так поступает скульптор, вырубающий фигуру из монолита. Объект не разделяли на структурные элементы, с тем чтобы придать каждому форму, продиктованную их назначением. Ремесло иранского каменотеса никогда не удалялось от своего истока — обработки цельной скалы». Он добавляет также, что у греков «форма всегда функциональна. Этот принцип совершенно незнаком иранской архитектуре». Все это очень напоминает приемы индийских мастеров. Вплоть до средневековья здесь складывали храмы из неотесанных каменных блоков и затем придавали им задуманную форму (см., например, постройки средневековой Ориссы; впрочем, традиция восходит к более ранней эпохе). Храм, воздвигнутый на поверхности земли отличался от высеченного и скале тем, что для первого нужно было добыть в карьере и доставить на строительную площадку материал, а также тем, что оформить здание требовалось не только внутри, но и снаружи. Так, в индийском зодчестве наметился разрыв между искусством камнереза и замыслами архитектора, что придавало демонстративный, вызывающе независимый характер скульптурному декору. Это в лучшем случае. Но бывали и худшие, когда здание понимали — позволим себе сравнение из нашего быта — как альбом для марок или афишную тумбу. Персидские рельефы не казались столь пышными и причудливыми, быть может, из-за их известной статичности. Хотя нередко и там боги, цари, воины и данники бредут нескончаемой торжественной процессией вопреки логике архитектурных пространств, частью которых, и отнюдь не самой существенной, они были задуманы. Впрочем, это не относится к рельефам лестниц. И еще одно замечание о персидском наследстве, доставшемся Индии Маурьев. Мы уже говорили о том, что Ашока использовал придорожные скалы и стены домов для пропаганды своих политических и этических идеалов. Думается, и тут не обошлось без влияния Ирана. Царских надписей, выбитых на камне или металлических досках, Индия не знала до Ашоки, они появляются здесь только в его правление, начиная с 257 г. до н. э. Однако Бехистунская, или Бисутунская, надпись Дария I в Западной Персии датирована 518 г. до н. э. Грозные директивы и хвастливые мемории персидских деспотов совсем не похожи на мягкие, хотя и настойчивые, призывы императора-буддиста, но способ явно заимствован и, разумеется, преображен. К этому ряду культурных заимствований можно причислить знаменитые песчаниковые колонны, которые воздвигал Ашока уже после того, как принял буддизм. Всего колонн было не менее тридцати; скульптурная их символика достаточно ясно давала понять, с какой целью они установлены. Все же некоторые из них император позднее снабдил надписями, содержавшими благочестивые увещания, подобные тем, что известны нам по его же большим наскальным эдиктам. К тому времени, если не раньше, такие колонны были прямо связаны с проповедью буддийской веры и морали. Возможно, первоначальное их значение не было столь конкретным. Сооружение одиночных колонн, бесспорно, местная традиция. На классическом Западе памятники такого рода встречаются до времен Римской империи. Правда, культовые обряды минойского Крита включали поклонение столпу. Известна также колонна между двумя геральдическими львами над воротами в Микенах; символическое значение этой колонны, датированной приблизительно XIII в. до н. э., до сих нор не получило сколько-нибудь удовлетворительного истолковании. В Индии же памятные деревянные столпы воздвигали и в XIII в. до н. э. и, может быть, еще раньше. Уже ведическая литература сообщает об этих посвятительных йупа. Их могли ставить также в ознаменование победы или других важных событий. Столп в индийской космологии означал ось мироздания, соединявшую небо и землю. Согласно древней легенде, высоко в Гималаях есть озеро, из глубин его каждое утро восходит гигантский столб, вершина которого поддерживает трон солнечного божества; он достигает зенита и во второй половине дня начинает медленно погружаться в сумрак священных вод. Кругом озера стоят четыре изваяния — лев, лошадь, бык, слон — стражи четырех сторон света. Эти мифологические представления отразились, например, в сложной капители времен Ашоки — Сарнатхской, ныне ставшей государственной эмблемой Индии. Четыре грозных персидских льва, которые казались еще более грозными, когда глаза их сверкали драгоценной инкрустацией, поддерживали солнечный диск, что должно было выражать мировой порядок (рис. 25). Львы установлены на круглой абаке[40], но широкому ребру которой расположены четыре других, второстепенных, солнца и четыре изображения упомянутых животных. Возможно, колонны Ашоки целиком связаны с его буддизмом, но их символическое значение восходит к самым древним индийским традициям.
В то же время архитектурные и скульптурные особенности этих колонн явно заимствованы. Несмотря на то что нигде, кроме Индии эпохи Маурьев, такие колонны не встречаются до III в. до н. э., тем не менее элементы, их составляющие, указывают на влияние искусства Ахеменидов. Все они отполированы по-персидски, до блеска, все суживаются кверху, имея средний диаметр 3 фута и высоту более 40 футов. У них нет каннелюр, как у персепольских, но колонны в Пасаргадах тоже не каннелированы. Базы отсутствуют, зато есть лотосовидные колоколообразные капители, напоминающие канители Персеполя. Над ними круглая абака несет изваяние какого-нибудь из четырех мифологических зверей или, как в Сарнатхе, группу львов, державших первоначально священное колесо из золоченой бронзы. Эти львы — во всяком случае с капители Сарнатха — явились в Индию прямо из ахеменидской Персии (рис. 20), а туда из Ассирии VIII и VII вв. до н. э. (прекрасные ассирийские образцы можно увидеть на резной слоновой кости, найденной профессором М. Е. Л. Маллованом в Нимруде на берегах Тигра). Но не в Ассирии начинается генеалогия этих царственных геральдических зверей; мы обнаруживаем их еще далее, в классическом искусстве Восточного Средиземноморья, в частности на гомеровских львиных воротах в Микенах. На всем этом громадном протяжении времени и пространства они сохраняют фамильное сходство, лишь слегка измененное местными художественными вкусами.
Надо отметить, что по сравнению со своими родичами, весьма натурально изображенными на ассирийских рельефах (знаменитые «Львиные охоты»), и столь же выразительными быками, слонами и лошадьми буддийской скульптуры, с которыми они находятся в тесном соседстве и композиционной взаимосвязи, львы Сарнатхэ нее же более условны, геральдичны, и это резко отделяет их от мира повседневности. Такая трактовка объясняется, конечно, тем, что лев — традиционный символ царского достоинства и власти; самого Будду именовали «львом из рода Шакия». Архаический и возвышенный образ, закрепленный многовековой практикой искусства, не располагал художника к свободе вариации. Но мне приходило в голову и другое соображение. Бык, лошадь, слон — все это привычные домашние животные и модель, легко доступная художнику. Иное дело лев. Теперь их здесь немного, сотни две на небольшом участке, на западе Индийского полуострова, хотя, конечно, в те времена львы обитали во многих районах Индии. Но, считался ли лев редкостным или вполне заурядным хищником, моделью он был неудобной, слишком подвижной и свирепой. Перед художником открывались две возможности — или следовать традиции, или быть съеденным. Автор геральдической группы Сарнатха выбрал, по-видимому, первую. Как бы там ни было, по тон или по иной причине, но геральдическая трактовка льва победила.
При всем сходстве с персидскими прототипами львиная капитель из Сарнатха обладает некоторыми специфическими местными чертами. Для нее, как и вообще для скульптуры эпохи Маурьев, характерна мягкая, плавная моделировка форм, что и заставляет нас приписывать авторство ученику-индийцу, а не учителю-персу. Особенность эта еще заметнее в другой сарнатхской капители, снабженной персидскими волютами, хотя всадник на одной ее стороне и слон на другой явно изготовлены в Индии (быть может, II в. до н. э.). Капитель того же типа из Паталипутры с волютами, шнуром перлов и пальметтами гораздо ближе к старым иранским образцам и может быть отнесена к периоду не позднее III в. до н. э. К этому раннему маурианскому периоду можно отодвинуть и фрагмент из полированного песчаника, о котором говорилось, также имеющего шнур перлов и пальметты и найденного в нижнем слое того же участка раскопок в 1955 г. Эллинистические аналогии тут возникают не менее легко, чем персидские, и все же непосредственным источником влияния следует считать, конечно, архитектуру Ахеменидов.
Капители… Я перелистываю труды по истории индийской архитектуры и с III в. до н. э. вплоть до средневековья вновь и вновь встречаю эпитет «персепольский», когда речь заходит о капителях, венчающих колонны вырубленных на степах скальных храмов Индии Формы подобные лотосу и колоколу, что персы позаимствовали для украшения своих колонн на западе, в Египте, стали основной характеристикой первого известного нам индийского архитектурного ордера, как бы он ни варьировался или, лучше сказать, индианизировался в зависимости от места и времени. В этом нет преувеличения. Древнейшие образцы индийского деревянного зодчества не обнаружены, а потому я позволю себе повторить, что до персепольских событий Индия не производила ничего такого, что по праву могло бы именоваться архитектурным стилем; и опять же повторяю, что цвет персидского искусства, пересаженный с катастрофической внезапностью, свойственной иногда силам истории, в индийскую почву, ожил и процветал там долгие годы. Так в иную эпоху и при других обстоятельствах еще более тонкая и разнородная смесь субклассических идей Ренессанса дала жизнь и силу многим побегам европейского искусства.
Явление это весьма замечательно, и его нужно подтвердить примерами. Паталипутра была уже к 300 г. до н. э. блестящей столицей, однако найденные при ее раскопках памятники архитектуры не удалось пока точно датировать. Поэтому наиболее ранним фактом разработки персидских традиций приходится считать монументальные колонны Ашоки. О них мы говорили. Сто лет спустя и менее двух столетий после похода Александра персидские черты окончательно закрепляются в индийском строительстве. В конце II в. до н. э. (скорее даже в 100 г.) в Центральной Индии, в городе Беснагаре, был воздвигнут каменный столп, почти во всем подобный колоннам Ашоки. Установил его в честь Васудевы (Кришны) индианизированный грек Гелиодор, прибывший сюда посланником от Антиалкида, правителя Таксилы, грека по рождению или, может быть, только по имени. Беснагарский столп завершен, как положено, персидской лотосовой капителью, а ствол его в одной части длины огранен фасетами, в другой же прорезан каннелюрами, что заставляет вспомнить канеллированные колонны Персеполя. Позднее украшенные вертикальными желобами колонны встречаются часто, а то, что мы не находим ранние образцы, — не более как случайность.
К тому же периоду, судя по надписям, относятся восточные ворота ступы, буддийского священного памятника в Бхархуте, тоже в Центральной Индии. Теперь эти ворота находятся в Индийском музее в Калькутте. По сторонам их стоят две колонны, каждая из четырех граненых стволов, собранных в «пучок» и увенчанных «персепольскими» капителями, которые соединяются и поддерживают скульптуры — пару львов и пару быков с человеческими головами. Поиски их прототипа приведут, конечно, в Ассирию, но для нас важно, что посредником и в этом случае была Персия. А массивный надвратный акротерий[41], с его длинными каменными листьями жимолости напоминает о другом скрещении художественных идей — греко-ахеменидском. И надпись на воротах, вполне в духе этого сложного культурного единства, сделана письмом кхарошти, которое создавалось на основе арамейского алфавита, принятого в ахеменидской Персии, и получила широкое распространение в пограничных районах Северо-Западной Индии со времен Ашоки.
Изображения зверей на импостах капителей — одна из важных частей персидского наследства. Индия приняла его, и это свидетельствует в равной мере о чуткой восприимчивости наследников и обаянии чужеземного мастерства. В персидском строительстве балки архитрава опирались на импостные плиты, положенные на ребро, что и отличало их от квадратных импостов классических западных ордеров. Нередко концы этих продолговатых импостных блоков вырезали в виде передней части тела какого-нибудь животного; так образовались протомы, то есть сдвоенные, спиной к спине, изваяния животных, богато представленные в Персеполе и других городах империи Ахеменидов (ср. рис. 8). Их индийскую версию можно видеть, например, в чайтье, пещерном храмовом зале в Карли, к юго-востоку от Бомбея, построенном, как полагают, в конце I в. до н. э. Здесь колоколовидные капители, несколько огрубленные потомки персепольских, завершены ступенчатыми импостами, по краям которых вместо протом изображены слоны и лошади с восседающими на них мужскими и женскими фигурами. Они увешаны драгоценностями, их позы, их формы насквозь индийские, и только исходная архитектурная идея напоминает о другой, далекой земле. Добавим, кстати, что колонны, несущие эти канители, опираются на широкие чашеподобные базы, возможно, связанные происхождением с ахеменидскими торовидными базами из Ай-Хапума. В Карли перед входом в чайтью стоят еще две довольно примитивные колонны с колоколообразными капителями и каменными львами позднего, но все же узнаваемого стиля Ашоки.
Проходили века, но «персепольская» капитель не исчезала. Неподалеку от Дели, в мечети Ктуб стоит привезенный откуда-то в незапамятные времена железный столб, поставленный, как сообщает надпись на нем, в память могущественного царя Чандры, вероятно Чандрагунты II (375–413 гг. н. э.) из династии Гупта (рис. 27). Столб посвящен индийскому богу Вишну, и можно предполагать, что некогда вершину его украшала статуя человеко-птицы, на которой Вишну имел обыкновение ездить верхом. Что касается происхождения лотосовой или колоколовидной капители столба, то оно очевидно. Между прочим, железо, из которого отлит столб, не поддается коррозии, что и поставило его в ряд всемирно известных технических чудес. Аналогичные железные балки храма XIII в. в Коиараке (Восточная Индия) вышли, вероятно, из той же мастерской.
К этому ряду культурных заимствований можно причислить знаменитые песчаниковые колонны, которые воздвигал Ашока уже после того, как принял буддизм. Всего колонн было не менее тридцати; скульптурная их символика достаточно ясно давала понять, с какой целью они установлены. Все же некоторые из них император позднее снабдил надписями, содержавшими благочестивые увещания, подобные тем, что известны нам по его же большим наскальным эдиктам. К тому времени, если не раньше, такие колонны были прямо связаны с проповедью буддийской веры и морали. Возможно, первоначальное их значение не было столь конкретным. Сооружение одиночных колонн, бесспорно, местная традиция. На классическом Западе памятники такого рода встречаются до времен Римской империи. Правда, культовые обряды минойского Крита включали поклонение столпу. Известна также колонна между двумя геральдическими львами над воротами в Микенах; символическое значение этой колонны, датированной приблизительно XIII в. до н. э., до сих нор не получило сколько-нибудь удовлетворительного истолковании. В Индии же памятные деревянные столпы воздвигали и в XIII в. до н. э. и, может быть, еще раньше. Уже ведическая литература сообщает об этих посвятительных йупа. Их могли ставить также в ознаменование победы или других важных событий. Столп в индийской космологии означал ось мироздания, соединявшую небо и землю. Согласно древней легенде, высоко в Гималаях есть озеро, из глубин его каждое утро восходит гигантский столб, вершина которого поддерживает трон солнечного божества; он достигает зенита и во второй половине дня начинает медленно погружаться в сумрак священных вод. Кругом озера стоят четыре изваяния — лев, лошадь, бык, слон — стражи четырех сторон света. Эти мифологические представления отразились, например, в сложной капители времен Ашоки — Сарнатхской, ныне ставшей государственной эмблемой Индии. Четыре грозных персидских льва, которые казались еще более грозными, когда глаза их сверкали драгоценной инкрустацией, поддерживали солнечный диск, что должно было выражать мировой порядок (рис. 25). Львы установлены на круглой абаке[40], но широкому ребру которой расположены четыре других, второстепенных, солнца и четыре изображения упомянутых животных. Возможно, колонны Ашоки целиком связаны с его буддизмом, но их символическое значение восходит к самым древним индийским традициям.
В то же время архитектурные и скульптурные особенности этих колонн явно заимствованы. Несмотря на то что нигде, кроме Индии эпохи Маурьев, такие колонны не встречаются до III в. до н. э., тем не менее элементы, их составляющие, указывают на влияние искусства Ахеменидов. Все они отполированы по-персидски, до блеска, все суживаются кверху, имея средний диаметр 3 фута и высоту более 40 футов. У них нет каннелюр, как у персепольских, но колонны в Пасаргадах тоже не каннелированы. Базы отсутствуют, зато есть лотосовидные колоколообразные капители, напоминающие канители Персеполя. Над ними круглая абака несет изваяние какого-нибудь из четырех мифологических зверей или, как в Сарнатхе, группу львов, державших первоначально священное колесо из золоченой бронзы. Эти львы — во всяком случае с капители Сарнатха — явились в Индию прямо из ахеменидской Персии (рис. 20), а туда из Ассирии VIII и VII вв. до н. э. (прекрасные ассирийские образцы можно увидеть на резной слоновой кости, найденной профессором М. Е. Л. Маллованом в Нимруде на берегах Тигра). Но не в Ассирии начинается генеалогия этих царственных геральдических зверей; мы обнаруживаем их еще далее, в классическом искусстве Восточного Средиземноморья, в частности на гомеровских львиных воротах в Микенах. На всем этом громадном протяжении времени и пространства они сохраняют фамильное сходство, лишь слегка измененное местными художественными вкусами.
Надо отметить, что по сравнению со своими родичами, весьма натурально изображенными на ассирийских рельефах (знаменитые «Львиные охоты»), и столь же выразительными быками, слонами и лошадьми буддийской скульптуры, с которыми они находятся в тесном соседстве и композиционной взаимосвязи, львы Сарнатхэ нее же более условны, геральдичны, и это резко отделяет их от мира повседневности. Такая трактовка объясняется, конечно, тем, что лев — традиционный символ царского достоинства и власти; самого Будду именовали «львом из рода Шакия». Архаический и возвышенный образ, закрепленный многовековой практикой искусства, не располагал художника к свободе вариации. Но мне приходило в голову и другое соображение. Бык, лошадь, слон — все это привычные домашние животные и модель, легко доступная художнику. Иное дело лев. Теперь их здесь немного, сотни две на небольшом участке, на западе Индийского полуострова, хотя, конечно, в те времена львы обитали во многих районах Индии. Но, считался ли лев редкостным или вполне заурядным хищником, моделью он был неудобной, слишком подвижной и свирепой. Перед художником открывались две возможности — или следовать традиции, или быть съеденным. Автор геральдической группы Сарнатха выбрал, по-видимому, первую. Как бы там ни было, по тон или по иной причине, но геральдическая трактовка льва победила.
При всем сходстве с персидскими прототипами львиная капитель из Сарнатха обладает некоторыми специфическими местными чертами. Для нее, как и вообще для скульптуры эпохи Маурьев, характерна мягкая, плавная моделировка форм, что и заставляет нас приписывать авторство ученику-индийцу, а не учителю-персу. Особенность эта еще заметнее в другой сарнатхской капители, снабженной персидскими волютами, хотя всадник на одной ее стороне и слон на другой явно изготовлены в Индии (быть может, II в. до н. э.). Капитель того же типа из Паталипутры с волютами, шнуром перлов и пальметтами гораздо ближе к старым иранским образцам и может быть отнесена к периоду не позднее III в. до н. э. К этому раннему маурианскому периоду можно отодвинуть и фрагмент из полированного песчаника, о котором говорилось, также имеющего шнур перлов и пальметты и найденного в нижнем слое того же участка раскопок в 1955 г. Эллинистические аналогии тут возникают не менее легко, чем персидские, и все же непосредственным источником влияния следует считать, конечно, архитектуру Ахеменидов.
Капители… Я перелистываю труды по истории индийской архитектуры и с III в. до н. э. вплоть до средневековья вновь и вновь встречаю эпитет «персепольский», когда речь заходит о капителях, венчающих колонны вырубленных на степах скальных храмов Индии Формы подобные лотосу и колоколу, что персы позаимствовали для украшения своих колонн на западе, в Египте, стали основной характеристикой первого известного нам индийского архитектурного ордера, как бы он ни варьировался или, лучше сказать, индианизировался в зависимости от места и времени. В этом нет преувеличения. Древнейшие образцы индийского деревянного зодчества не обнаружены, а потому я позволю себе повторить, что до персепольских событий Индия не производила ничего такого, что по праву могло бы именоваться архитектурным стилем; и опять же повторяю, что цвет персидского искусства, пересаженный с катастрофической внезапностью, свойственной иногда силам истории, в индийскую почву, ожил и процветал там долгие годы. Так в иную эпоху и при других обстоятельствах еще более тонкая и разнородная смесь субклассических идей Ренессанса дала жизнь и силу многим побегам европейского искусства.
Явление это весьма замечательно, и его нужно подтвердить примерами. Паталипутра была уже к 300 г. до н. э. блестящей столицей, однако найденные при ее раскопках памятники архитектуры не удалось пока точно датировать. Поэтому наиболее ранним фактом разработки персидских традиций приходится считать монументальные колонны Ашоки. О них мы говорили. Сто лет спустя и менее двух столетий после похода Александра персидские черты окончательно закрепляются в индийском строительстве. В конце II в. до н. э. (скорее даже в 100 г.) в Центральной Индии, в городе Беснагаре, был воздвигнут каменный столп, почти во всем подобный колоннам Ашоки. Установил его в честь Васудевы (Кришны) индианизированный грек Гелиодор, прибывший сюда посланником от Антиалкида, правителя Таксилы, грека по рождению или, может быть, только по имени. Беснагарский столп завершен, как положено, персидской лотосовой капителью, а ствол его в одной части длины огранен фасетами, в другой же прорезан каннелюрами, что заставляет вспомнить канеллированные колонны Персеполя. Позднее украшенные вертикальными желобами колонны встречаются часто, а то, что мы не находим ранние образцы, — не более как случайность.
К тому же периоду, судя по надписям, относятся восточные ворота ступы, буддийского священного памятника в Бхархуте, тоже в Центральной Индии. Теперь эти ворота находятся в Индийском музее в Калькутте. По сторонам их стоят две колонны, каждая из четырех граненых стволов, собранных в «пучок» и увенчанных «персепольскими» капителями, которые соединяются и поддерживают скульптуры — пару львов и пару быков с человеческими головами. Поиски их прототипа приведут, конечно, в Ассирию, но для нас важно, что посредником и в этом случае была Персия. А массивный надвратный акротерий[41], с его длинными каменными листьями жимолости напоминает о другом скрещении художественных идей — греко-ахеменидском. И надпись на воротах, вполне в духе этого сложного культурного единства, сделана письмом кхарошти, которое создавалось на основе арамейского алфавита, принятого в ахеменидской Персии, и получила широкое распространение в пограничных районах Северо-Западной Индии со времен Ашоки.
Изображения зверей на импостах капителей — одна из важных частей персидского наследства. Индия приняла его, и это свидетельствует в равной мере о чуткой восприимчивости наследников и обаянии чужеземного мастерства. В персидском строительстве балки архитрава опирались на импостные плиты, положенные на ребро, что и отличало их от квадратных импостов классических западных ордеров. Нередко концы этих продолговатых импостных блоков вырезали в виде передней части тела какого-нибудь животного; так образовались протомы, то есть сдвоенные, спиной к спине, изваяния животных, богато представленные в Персеполе и других городах империи Ахеменидов (ср. рис. 8). Их индийскую версию можно видеть, например, в чайтье, пещерном храмовом зале в Карли, к юго-востоку от Бомбея, построенном, как полагают, в конце I в. до н. э. Здесь колоколовидные капители, несколько огрубленные потомки персепольских, завершены ступенчатыми импостами, по краям которых вместо протом изображены слоны и лошади с восседающими на них мужскими и женскими фигурами. Они увешаны драгоценностями, их позы, их формы насквозь индийские, и только исходная архитектурная идея напоминает о другой, далекой земле. Добавим, кстати, что колонны, несущие эти канители, опираются на широкие чашеподобные базы, возможно, связанные происхождением с ахеменидскими торовидными базами из Ай-Хапума. В Карли перед входом в чайтью стоят еще две довольно примитивные колонны с колоколообразными капителями и каменными львами позднего, но все же узнаваемого стиля Ашоки.
Проходили века, но «персепольская» капитель не исчезала. Неподалеку от Дели, в мечети Ктуб стоит привезенный откуда-то в незапамятные времена железный столб, поставленный, как сообщает надпись на нем, в память могущественного царя Чандры, вероятно Чандрагунты II (375–413 гг. н. э.) из династии Гупта (рис. 27). Столб посвящен индийскому богу Вишну, и можно предполагать, что некогда вершину его украшала статуя человеко-птицы, на которой Вишну имел обыкновение ездить верхом. Что касается происхождения лотосовой или колоколовидной капители столба, то оно очевидно. Между прочим, железо, из которого отлит столб, не поддается коррозии, что и поставило его в ряд всемирно известных технических чудес. Аналогичные железные балки храма XIII в. в Коиараке (Восточная Индия) вышли, вероятно, из той же мастерской.
 Можно привести и еще примеры — в Центральной Индии, в Санчи (V в. н. э.), и в Западной Индии, в Бадами (VI в. н. э.), мы снова встречаем достаточно характерные «персепольские» канители с продолговатым импостом. Здесь, однако, традиционный иранский ордер все более видоизменяется и растворяется в стихии безгранично плодовитого индийского воображения — недаром буйные джунгли были его колыбелью. Так пепел Персеполя постепенно утрачивал животворящую свою силу, но это заняло почти тысячу лет, а это немалый срок. Соблазнительно, хотя и бесполезно, размышлять о том, что могло бы произойти, если бы раны, полученные Александром в 333 г. до н. э. в битве при Иссе, оказались смертельными. Наверное, в течение следующего тысячелетия индийская культура приобрела бы какие-то иные черты и многое, что мы узнаем и чем восхищаемся в храмах и городах старой Индии, не появилось бы никогда.
Можно привести и еще примеры — в Центральной Индии, в Санчи (V в. н. э.), и в Западной Индии, в Бадами (VI в. н. э.), мы снова встречаем достаточно характерные «персепольские» канители с продолговатым импостом. Здесь, однако, традиционный иранский ордер все более видоизменяется и растворяется в стихии безгранично плодовитого индийского воображения — недаром буйные джунгли были его колыбелью. Так пепел Персеполя постепенно утрачивал животворящую свою силу, но это заняло почти тысячу лет, а это немалый срок. Соблазнительно, хотя и бесполезно, размышлять о том, что могло бы произойти, если бы раны, полученные Александром в 333 г. до н. э. в битве при Иссе, оказались смертельными. Наверное, в течение следующего тысячелетия индийская культура приобрела бы какие-то иные черты и многое, что мы узнаем и чем восхищаемся в храмах и городах старой Индии, не появилось бы никогда.
Гандхара
На предыдущих страницах мы говорили о том влиянии, какое оказали на индийскую культуру драматические события в Персеполе. Именно к ним протянуты многочисленные и крепкие нити от эмблемы сегодняшней Индии, от ее святилищ, вытесанных в недрах гор, от великолепных образцов ее средневекового архитектурного ордера через диаспору персидских мастеров, возникшую после 330 г. до н. э., когда место прежнего мецената — павшей ахеменидской империи заступила империя Маурьев. Это были важные и ближайшие последствия похода Александра, но до странности далекие от целей завоевателя. Если бы дух его возвратился и увидел результат своих усилий, он, наверное, счел бы себя самым несчастным среди призраков. Впрочем, некоторым утешением послужили бы ему упорядоченные эллинистические города, оставленные им самим и его преемниками на просторах Бактрии и Северной Индии. Новые археологические открытия: в этих городах выдвинули проблему, которая давно уже волнует историков искусства. Проблема отчасти связана с греческой традицией, и нам следует обсудить ее. Во второй половине XIX в. северо-западная пограничная область Индии, древняя Гандхара, возбудила любопытство европейцев неожиданным обилием предметов искусства, названного вскоре гандхарским. Это были многочисленные каменные изображения, преимущественно рельефы на зеленоватом сланце с Пешаварской равнины; они перемежались скульптурой из штука, массовой продукцией, которая большей частью, если не вся, была связана с представлениями и обрядами махаяны[42], процветавшей в этом районе в первых веках повой эры. Более точная дата не была установлена. До сих нор исследования буддийских памятников Гандхары — недавняя широко задуманная разведка в долине реки Сват и более обстоятельные, хотя не столь фундаментальные, раскопки в Афганистане — проводились без достаточного применения новейших аналитических методов. Однако можно быть уверенным, что ни один подлинный образец гандхарского искусства не обнаружен в стратиграфическом слое, предшествующем установлению в Индии кушанской династии во второй половине I в. н. э.[43] По-видимому, периодом существования гандхарской школы следует ориентировочно считать 100–450 гг. н. э., не учитывая экспериментальных и не вполне зрелых произведений, которые могли появляться ранее. Глина и штук постепенно вытеснили зеленый сланец во второй половине V в. н. э., когда в Индию вторглись из Средней Азии белые гунны, или эфталиты. С этого времени искусство едва существовало в отдаленных уголках страны, ненадолго возрождалось, но в целом это была гибель, медленное и неотвратимое угасание. Китайский путешественник Сюань-цзян, который побывал в этом краю в 630 г. н. э., рассказывает о том, как повелитель гуннов уничтожил всю царскую семью Гандхары, истребил более 90 тыс. жителей и разрушил 1600 буддийских монастырей. Стоит ли удивляться, что, когда он сам умер, «небо потемнело, и земля содрогнулась, и подул свирепый ветер, в то время пока он низвергался в ад на вечные муки». Искусство Гандхары, несмотря на тематическое однообразие и весьма определенную направленность, очень сложно по составу. Множество греческих и римских черт находили в нем уже первые его ценители. К сожалению, им недоставало критического чутья. Воспитанные на музейных антиках и школьной латыни, они именовали это искусство «греко-буддийским», даже «греко-скифским», не замечая в нем собственно «гандхарского». Будда в широких складчатых одеждах казался похожим на Сократа или какого-нибудь иного греко-римского мудреца, облаченного в тогу. Базары и сама почва этой оживленной пограничной провинции поставляли все новью, и новые шедевры. Глиняные фигурки с классическими плиссированными подолами напоминали местным коллекционерам, пришельцам с Запада, изнывающим от ностальгии, то ли Афину, то ли Атласа, и фрагменты коринфских колонн и пилястр легко соединялись в картины далекого восточного форпоста средиземноморской цивилизации. Это было понятно, и это льстило воображению викторианского чиновника или офицера, чьи правнуки до сих пор сохраняют на дне комодов и на чердаках своих английских домов поломанные статуэтки будд или бодисатв. Прежде чем говорить об этом искусстве более подробно, мы должны признать, что в нем действительно содержатся некоторые элементы античной классики. Греческий или греко-римский мир, несомненно, повлиял на его иконографию, а может быть, и непосредственно участвовал в ее создании. За примерами дело не станет. Но прежде мы должны признать и то, что западный элемент подчиняется здесь элементам иного происхождения и отнюдь не является главной составляющей величиной искусства Гандхары. Оставляя в стороне коринфские колонны и пилястры, мы увидим, что черты классики в нем хотя и легкоразличимые, но все же не имеют того значения, которое склонны были придавать им европейские критики. Сам гандхарский Будда — это пухлый восточный принц, хотя некоторое время существовал и аскетический его тип. Его одежда — это обычное монашеское облачение, распространенное по всему Индостану, хотя она и похожа отчасти на гиматий или тогу. Вполне индийскими выглядят и персонажи легенд о прошлых рождениях Будды, те фигуры, что обычно окружают его изображения. Иноземные черты, которыми они в той или иной мере наделены, более характерны для нравов и обычаев внутренней Азии, нежели периферии классического Запада. Тем не менее искусство это остается восхитительно сложным и эклектичным. В нем разнообразно сочетаются основные его компоненты — индийский, иранский, греко-римский. Последний нам особенно интересен в связи с новыми археологическими находками в Александровой Бактрии, и мы займемся этой, быть может наиболее увлекательной, стороной проблемы гандхарского искусства, но сначала небесполезно будет составить более определенное представление о всех трех его компонентах. Первый среди них, индийский, я назвал бы фундаментом искусства Гандхары. Оно было создано в крупных буддийских общинах по обе стороны нынешней пакистано-афганской границы. Эта территория — его дом, хотя временами оно распространялось далеко на север, в Центральную Азию, и захватывало юг Индии. Географическим ареалом этого искусства в начале его подъема были пространства от Окса до широко разветвленной системы Инда, политическим — индо-греческие и бактрийские царства. Но религиозный субстрат, на котором оно процвело и без которого вряд ли появилось бы на свет, был, духовно и социально, насквозь индийским. Каких бы высот ни достигало оно в гористых пограничных областях, генетически оно связано с жаркими равнинами и дремучими джунглями среднего течения Ганга. Если бы совлечь с гандхарского искусства чужеземные напластования, оно все равно могло бы существовать как ветвь искусства Индии. В качестве примера я предлагаю рельеф, помещенный на рис. 28. Он украшен маленькими коринфскими и персепольскими колоннами, что никак не влияет на глубоко индийский его характер.
Первый среди них, индийский, я назвал бы фундаментом искусства Гандхары. Оно было создано в крупных буддийских общинах по обе стороны нынешней пакистано-афганской границы. Эта территория — его дом, хотя временами оно распространялось далеко на север, в Центральную Азию, и захватывало юг Индии. Географическим ареалом этого искусства в начале его подъема были пространства от Окса до широко разветвленной системы Инда, политическим — индо-греческие и бактрийские царства. Но религиозный субстрат, на котором оно процвело и без которого вряд ли появилось бы на свет, был, духовно и социально, насквозь индийским. Каких бы высот ни достигало оно в гористых пограничных областях, генетически оно связано с жаркими равнинами и дремучими джунглями среднего течения Ганга. Если бы совлечь с гандхарского искусства чужеземные напластования, оно все равно могло бы существовать как ветвь искусства Индии. В качестве примера я предлагаю рельеф, помещенный на рис. 28. Он украшен маленькими коринфскими и персепольскими колоннами, что никак не влияет на глубоко индийский его характер.
 Второй компонент, иранский или парфянский, представлен в пластике Гандхары иранскими (или парфянскими) костюмами. Не следует, впрочем, переоценивать это обстоятельство. Традиционный персидский костюм, состоявший из рубахи и длинных штанов, не был, вероятно, редкостью в пограничных землях со смешанным ирано-кушанским населением, где работали художники гандхарской школы. Появляясь на некоторых рельефах, костюм этот не всегда означает их зависимость от искусства Ирана. Таков, например, широко известный фриз, находящийся ныне в коллекции Археологического музея в Торонто. На него часто и не без основания ссылаются, говоря о связях и влияниях иного рода. На фризе (рис. 29) изображены, видимо, донаторы, и заканчивается он небольшой пластичной статуей Эрота в нише. Шестеро элегантных бородачей, завитых, наряженных в персидские костюмы, с тяжелыми кушанскими мечами у пояса, стоят в непринужденных, даже изысканных позах; это последнее и дало повод компетентным критикам усмотреть в этом фризе стилистическое родство с позднеантичной скульптурой. По замечанию Сопера, «они держатся удивительно свободно, как фигуры какого-нибудь римского фриза… Они совершенно не похожи на застывшие фронтальные изображения кушанских вельмож из Матхуры. Я готов поверить, что эти свободные жесты были подсказаны подлинником из мастерских Рима, мраморным этюдом, где так же расставленные фигуры решали ту же композиционную задачу. Но там были музы…». В этом рассуждений есть, конечно, доля субъективности. Но, может быть, задумав изобразить иранских или кушанских персонажей в буддийской ситуации, художник и впрямь не случайно воспользовался подходами и решениями западного искусства? Над этим стоит задуматься, и далее мы еще поговорим о гандхарских рельефах, разработанных в подобной манере «иллюзионистского» правдоподобия.
Есть и другие произведения этой школы, стоящие несравненно ближе к парфянской пластике, хотя всем им далеко до острой суховатой точности линеарного стиля Пальмиры и Хатры. На рельефе из Шотарака, буддийского памятника в 50 милях севернее Кабула, представлен, судя по костюму, иранец или парфянин и рядом с ним женщина, одетая и причесанная по-гречески. Сочетания такого рода обычны для Пальмиры, для Дура-Европоса, расположенных в глубине Парфии[44]. Каменная фигура из Шахри-Бахлола в окрестностях Пешавара (теперь находится в Пешаваре) одета согласно иранским модам в длинные брюки и кафтан, богато расшитые бусами, и перетянута узорным поясом, похожим на те, что известны по рельефам из Хатры. И все же, несмотря на многочисленные морские и караванные дороги из Пальмиры в Индию, гандхарское искусство не дает нам почти ничего, что прямо указывало бы на парфянский запад. Также и пресловутую фронтальность, свойственную некоторым скульптурным композициям Гандхары (например, из ступы Дхармараджика в Таксиле), вовсе не обязательно приписывать влиянию Парфии. Правда, в полупарфянской Пальмире по крайней мере с I в. н. э. божества и другие, менее значительные персоны изображаются непременно анфас, со взглядом, устремленным вперед, на зрителя. Ростовцев, занимающий выгодные позиции в Дура-Европосе на Евфрате и почитаемый основателем парфянского искусствознания, отмечал ту же особенность в художественном ремесле «иранских кочевников» (скифов и сарматов) Южной России уже в III в. до н. э. Кроме того, по его мнению, «именно саки [скифы, — М. У.] преподали художникам и скульпторам Гандхары начала фронтальности».
Позволим себе не согласиться с этим, ибо интересующее нас явление имеет весьма разветвленные корни. Почти всегда оно возникает на почве примитивных культур и всюду в мире характерно для искусства детей. Принцип этот был знаком греческой архаике; он становится нормой и основным художественным приемом в обществах, склонных раболепствовать перед богом и монархом. Исключением из правила оказались ахеменидские персы — они решительно предпочитали профиль. Требование фронтальности может быть предъявлено изобразительному искусству даже внутри развитых (во всех других аспектах) эстетических систем. Таков, например, рельеф времени Северов из города Лептис Магна в Триполитании (203 г. н. э.), в котором скульпторы, видимо находясь под «восточным влиянием», представили царское семейство и окружившую его толпу придворных пристально глядящими прямо перед собой. Но, повторяю, пластика Гандхары была прежде всего индийской и утверждала индийское религиозное мышление. Фронтальность же была усвоена искусством Индии еще во II в. до н. э. На буддийском рельефе того времени из Бхархута тесные ряды храмовых прислужников повернуты лицом к зрителю и являют собой поистине образец фронтальной расстановки фигур. Отметим, кстати, ярусное построение «перспективы», поскольку оно достаточно часто встречается в Гандхаре, как, впрочем, и в поздней Римской империи[45].
Итак, обсуждаемая особенность была свойственна почти всем искусствам Востока и в каждый конкретный период имела для них большее или меньшее значение. Искусство Ахеменидов, овеянное западными ветрами, подавляло эту особенность, которая была вновь принята постахеменидским искусством, когда в нем возобладали сугубо иранские тенденции, если можно их так квалифицировать. Этой же особенностью отмечено индийское искусство при династии Шунгов во II в. до н. э., а оно внесло немалую долю в ту многообразную смесь, которая образовала гандхарскую школу. Здесь, вероятно, и следует видеть источник фронтальности некоторых рельефов Гандхары, не затрудняясь путешествиями в Месопотамию и Южную Россию.
Второй компонент, иранский или парфянский, представлен в пластике Гандхары иранскими (или парфянскими) костюмами. Не следует, впрочем, переоценивать это обстоятельство. Традиционный персидский костюм, состоявший из рубахи и длинных штанов, не был, вероятно, редкостью в пограничных землях со смешанным ирано-кушанским населением, где работали художники гандхарской школы. Появляясь на некоторых рельефах, костюм этот не всегда означает их зависимость от искусства Ирана. Таков, например, широко известный фриз, находящийся ныне в коллекции Археологического музея в Торонто. На него часто и не без основания ссылаются, говоря о связях и влияниях иного рода. На фризе (рис. 29) изображены, видимо, донаторы, и заканчивается он небольшой пластичной статуей Эрота в нише. Шестеро элегантных бородачей, завитых, наряженных в персидские костюмы, с тяжелыми кушанскими мечами у пояса, стоят в непринужденных, даже изысканных позах; это последнее и дало повод компетентным критикам усмотреть в этом фризе стилистическое родство с позднеантичной скульптурой. По замечанию Сопера, «они держатся удивительно свободно, как фигуры какого-нибудь римского фриза… Они совершенно не похожи на застывшие фронтальные изображения кушанских вельмож из Матхуры. Я готов поверить, что эти свободные жесты были подсказаны подлинником из мастерских Рима, мраморным этюдом, где так же расставленные фигуры решали ту же композиционную задачу. Но там были музы…». В этом рассуждений есть, конечно, доля субъективности. Но, может быть, задумав изобразить иранских или кушанских персонажей в буддийской ситуации, художник и впрямь не случайно воспользовался подходами и решениями западного искусства? Над этим стоит задуматься, и далее мы еще поговорим о гандхарских рельефах, разработанных в подобной манере «иллюзионистского» правдоподобия.
Есть и другие произведения этой школы, стоящие несравненно ближе к парфянской пластике, хотя всем им далеко до острой суховатой точности линеарного стиля Пальмиры и Хатры. На рельефе из Шотарака, буддийского памятника в 50 милях севернее Кабула, представлен, судя по костюму, иранец или парфянин и рядом с ним женщина, одетая и причесанная по-гречески. Сочетания такого рода обычны для Пальмиры, для Дура-Европоса, расположенных в глубине Парфии[44]. Каменная фигура из Шахри-Бахлола в окрестностях Пешавара (теперь находится в Пешаваре) одета согласно иранским модам в длинные брюки и кафтан, богато расшитые бусами, и перетянута узорным поясом, похожим на те, что известны по рельефам из Хатры. И все же, несмотря на многочисленные морские и караванные дороги из Пальмиры в Индию, гандхарское искусство не дает нам почти ничего, что прямо указывало бы на парфянский запад. Также и пресловутую фронтальность, свойственную некоторым скульптурным композициям Гандхары (например, из ступы Дхармараджика в Таксиле), вовсе не обязательно приписывать влиянию Парфии. Правда, в полупарфянской Пальмире по крайней мере с I в. н. э. божества и другие, менее значительные персоны изображаются непременно анфас, со взглядом, устремленным вперед, на зрителя. Ростовцев, занимающий выгодные позиции в Дура-Европосе на Евфрате и почитаемый основателем парфянского искусствознания, отмечал ту же особенность в художественном ремесле «иранских кочевников» (скифов и сарматов) Южной России уже в III в. до н. э. Кроме того, по его мнению, «именно саки [скифы, — М. У.] преподали художникам и скульпторам Гандхары начала фронтальности».
Позволим себе не согласиться с этим, ибо интересующее нас явление имеет весьма разветвленные корни. Почти всегда оно возникает на почве примитивных культур и всюду в мире характерно для искусства детей. Принцип этот был знаком греческой архаике; он становится нормой и основным художественным приемом в обществах, склонных раболепствовать перед богом и монархом. Исключением из правила оказались ахеменидские персы — они решительно предпочитали профиль. Требование фронтальности может быть предъявлено изобразительному искусству даже внутри развитых (во всех других аспектах) эстетических систем. Таков, например, рельеф времени Северов из города Лептис Магна в Триполитании (203 г. н. э.), в котором скульпторы, видимо находясь под «восточным влиянием», представили царское семейство и окружившую его толпу придворных пристально глядящими прямо перед собой. Но, повторяю, пластика Гандхары была прежде всего индийской и утверждала индийское религиозное мышление. Фронтальность же была усвоена искусством Индии еще во II в. до н. э. На буддийском рельефе того времени из Бхархута тесные ряды храмовых прислужников повернуты лицом к зрителю и являют собой поистине образец фронтальной расстановки фигур. Отметим, кстати, ярусное построение «перспективы», поскольку оно достаточно часто встречается в Гандхаре, как, впрочем, и в поздней Римской империи[45].
Итак, обсуждаемая особенность была свойственна почти всем искусствам Востока и в каждый конкретный период имела для них большее или меньшее значение. Искусство Ахеменидов, овеянное западными ветрами, подавляло эту особенность, которая была вновь принята постахеменидским искусством, когда в нем возобладали сугубо иранские тенденции, если можно их так квалифицировать. Этой же особенностью отмечено индийское искусство при династии Шунгов во II в. до н. э., а оно внесло немалую долю в ту многообразную смесь, которая образовала гандхарскую школу. Здесь, вероятно, и следует видеть источник фронтальности некоторых рельефов Гандхары, не затрудняясь путешествиями в Месопотамию и Южную Россию.
 И наконец, несколько замечаний о третьем компоненте воздействиях классического Запада. Вспомним рельеф с иранскими вельможами из гандхарской коллекции в Торонто и его предполагаемую близость к римскому искусству. Столь же и еще более «западными» по стилю считаются многие каменные фризы Гандхары — один из них помещен на рис. 30. Этот рельеф из Индийского музея в Калькутте, непрерывной чередой представляющий эпизоды из жизни Будды, отличается «непрерывным», повествовательным характером, который мы находим и в знаменитом фризе Пергамского алтаря в Малой Азии, и в рельефе из Бхархута в Центральной Индии. Оба они были созданы приблизительно в одно время — один около 180 г. до н. э., другой во второй половине II в. до н. э. Но общая для них непрерывность изображений вряд ли имела единый источник, во всяком случае установить его невозможно. Сюжет Калькуттского рельефа — возвращение Будды, Просветленного, в отчий дом. Начинается он эпизодом с собакой, залаявшей при появлении Будды. Впоследствии эту собаку несколько неожиданно объявили воплощением его отца. Замечателен не столько сюжет фриза, сколько его пластика разнообразие поз, свобода и естественность фигур. Они дышат, движутся. Историк искусства сказал бы, что они выполнены в «иллюзионистской манере». Цитирую А. Сопера: «В эпоху кушанского величия [II в. н. э., — М. У.] я вижу только одну часть западного мира, которая создавала искусство, сравнимое с гандхарским: Западное Средиземноморье с центром в Риме. Рельефы саркофагов, чуть ли не основной вид римской скульптуры II в., демонстрируют то же умение распоряжаться человеческой фигурой… тот же восторг перед иллюзией сцены, заполненной живыми актерами». Далее Сопер перечисляет все известные контакты между «бактрийскими» правителями и Римом в начале II в. — рассказ в «Истории Августов» о расположении, которым пользовались восточные государи у императора Адриана, и о том, как бактрийские цари (кого бы ни имела в виду «История») отправляли к нему послов с просьбой о дружбе и союзе, а также сообщения в «Сокращении римской истории…» о посольствах из Индии, Бактрии и Гиркании к Антонину Пию. По мнению Сопера, одно из таких посольств вывезло из Рима в Пешавар скульптора, «чтобы растущее гандхарское искусство могло приобрести подобающий ему царственный блеск». Другой исследователь, Бенджамин Роуленд, бесстрашно утверждает, что «иноземные мастера, прибывавшие в немалом числе из восточных провинций Римской империи, несомненно, способствовали созданию первых буддийских скульптур в Пешаварской долине». Утверждение это отчасти допустимо, хотя обосновать его нелегко. Гандхатара действительно могла импортировать западных художников. Во многих районах Индии человек с Запада, грек считающий себя таковым, давно стал примелькавшейся фигурой. Часто упоминаемая история Фомы, сирийского мастера, купленного около 40 г. н. э. по приказу Гондофара, царя Таксилы, восходит к апокрифическим «Деяниям апостолов» III в. н. э. и выглядит вполне достоверной. Греки, или ионийцы, под именем йона (пракрит), йоника и, чаще, йавана (санскрит) упоминаются со II в. до н. э. Последнее имя, которое сохранило в своем корне звук, обозначавшийся архаической греческой буквой дигамма и которое можно сопоставить с древнееврейским джаван или йаван, пришло сюда, как полагают, через раннеахеменидскую Персию. Мы подчас забываем, что древний евразийский мир был в высшей степени космополитичен.
И наконец, несколько замечаний о третьем компоненте воздействиях классического Запада. Вспомним рельеф с иранскими вельможами из гандхарской коллекции в Торонто и его предполагаемую близость к римскому искусству. Столь же и еще более «западными» по стилю считаются многие каменные фризы Гандхары — один из них помещен на рис. 30. Этот рельеф из Индийского музея в Калькутте, непрерывной чередой представляющий эпизоды из жизни Будды, отличается «непрерывным», повествовательным характером, который мы находим и в знаменитом фризе Пергамского алтаря в Малой Азии, и в рельефе из Бхархута в Центральной Индии. Оба они были созданы приблизительно в одно время — один около 180 г. до н. э., другой во второй половине II в. до н. э. Но общая для них непрерывность изображений вряд ли имела единый источник, во всяком случае установить его невозможно. Сюжет Калькуттского рельефа — возвращение Будды, Просветленного, в отчий дом. Начинается он эпизодом с собакой, залаявшей при появлении Будды. Впоследствии эту собаку несколько неожиданно объявили воплощением его отца. Замечателен не столько сюжет фриза, сколько его пластика разнообразие поз, свобода и естественность фигур. Они дышат, движутся. Историк искусства сказал бы, что они выполнены в «иллюзионистской манере». Цитирую А. Сопера: «В эпоху кушанского величия [II в. н. э., — М. У.] я вижу только одну часть западного мира, которая создавала искусство, сравнимое с гандхарским: Западное Средиземноморье с центром в Риме. Рельефы саркофагов, чуть ли не основной вид римской скульптуры II в., демонстрируют то же умение распоряжаться человеческой фигурой… тот же восторг перед иллюзией сцены, заполненной живыми актерами». Далее Сопер перечисляет все известные контакты между «бактрийскими» правителями и Римом в начале II в. — рассказ в «Истории Августов» о расположении, которым пользовались восточные государи у императора Адриана, и о том, как бактрийские цари (кого бы ни имела в виду «История») отправляли к нему послов с просьбой о дружбе и союзе, а также сообщения в «Сокращении римской истории…» о посольствах из Индии, Бактрии и Гиркании к Антонину Пию. По мнению Сопера, одно из таких посольств вывезло из Рима в Пешавар скульптора, «чтобы растущее гандхарское искусство могло приобрести подобающий ему царственный блеск». Другой исследователь, Бенджамин Роуленд, бесстрашно утверждает, что «иноземные мастера, прибывавшие в немалом числе из восточных провинций Римской империи, несомненно, способствовали созданию первых буддийских скульптур в Пешаварской долине». Утверждение это отчасти допустимо, хотя обосновать его нелегко. Гандхатара действительно могла импортировать западных художников. Во многих районах Индии человек с Запада, грек считающий себя таковым, давно стал примелькавшейся фигурой. Часто упоминаемая история Фомы, сирийского мастера, купленного около 40 г. н. э. по приказу Гондофара, царя Таксилы, восходит к апокрифическим «Деяниям апостолов» III в. н. э. и выглядит вполне достоверной. Греки, или ионийцы, под именем йона (пракрит), йоника и, чаще, йавана (санскрит) упоминаются со II в. до н. э. Последнее имя, которое сохранило в своем корне звук, обозначавшийся архаической греческой буквой дигамма и которое можно сопоставить с древнееврейским джаван или йаван, пришло сюда, как полагают, через раннеахеменидскую Персию. Мы подчас забываем, что древний евразийский мир был в высшей степени космополитичен.

Но влияние греческого или греко-римского искусства на гандхарское проявляется не только в стилистической близости, к тому же достаточно спорной. Я сошлюсь на один пример очевидной и непосредственной встречи Запада и Востока. Это каменный гандхарский рельеф из частного собрания в Англии; есть основания считать его изделием мастеров древней Пушкалавати (современная Чарсада). На камне виден знакомый деревянный конь, окруженный недоверчивыми троянцами. Один ударяет его копьем. Это, конечно, Лаокоон, разгадавший козни врагов. Словом, все как у Вергилия во второй книге «Энеиды», и одежды героев почти классические. А вот и Кассандра, обнаженная до пояса, очень индийская. Она выходит слева, из ворот Трои, беззвучно возглашая свои ужасные пророчества. Не исключено, что этот буквально воспроизведенный эпизод Троянского цикла иллюстрирует какую-то местную буддийскую легенду; тем не менее иконография сюжета ясно указывает на первоисточник. Это вергилиевский эпос, интерпретированный индо-греческим (или индо-римским) скульптором.
 Мы уже говорили о маленьких коринфских колоннах и пилястрах, которыми резчики Гандхары украшали свои безусловно индийские творения (рис. 28), — как и откуда появились они здесь? Базы и капители «персепольского» типа были задачей иного рода, и в предшествующей главе мы справились с ней более или менее успешно. Но и коринфские мотивы обретают свое место в той общей картине, которую, надеюсь, нам удастся благополучно закончить. Разумно предположить, что ближайшим и вполне доступным их источником была эллинистическая архитектура. Ай-Ханум показал, где следует ее искать. Кроме того, недавние раскопки огромного кушанского храмового комплекса в Сурх-Котале (Центральный Афганистан), основательно проведенные Даниэлем Шлюмберже, дали позднеэллинистический вариант коринфских пилястр. Этот комплекс культовых построек датирован по надписи временем Канишки I, то есть приблизительно первой половиной II в. н. э. Таким образом, удается проследить не только пути продвижения коринфского ордера из Греко-Бактрии в Гандхару, но также конструктивную и скульптурную метаморфозу, которую он претерпел на этой промежуточной стадии. В Сурх-Котале коринфские пилястры обнаружены и в комплексе святилища и на так называемой буддийской платформе, построенной несколько позже в миле от него. По замечанию Д. Шлюмберже, архитектура святилища менее всего может быть названа собственно буддийской или индийской. Его портик с колоннами более характерен для классического Запада, нежели для Персии или буддизма. Таковы и детали орнаментов. Например, гирлянды фриза, которые, поддерживают эроты, подобны тем, что находили в гандхарской Таксиле и других местах, однако происхождение их бесспорно греко-римское (рис. 31). Правда, основной храм отмечен многими чертами персидского зодчества, таковы, например, его ступенчатые мерлоны[46] (ср. Сузы и Персеполь). Всю атмосферу этого храмового комплекса, по-видимому, можно определить как греко- или римско-иранскую. Здесь нет ни единого камня, указывающего на присутствие индийской художественной традиции. Шлюмберже считает, что здесь мы застаем элементы бактрийского и персидского искусства на пути в Гандхару, где они должны будут соединиться в сложное и все-таки нерасторжимое целое. С его мнением трудно не согласиться. Интересно, однако, что коринфский ордер не проник далее Гандхары и Пенджаба; напрасно мы будем искать эти пилястры и колонны в глубинах Кушанской империи — их нет даже в Матхуре, южнее Дели.
Мы уже говорили о маленьких коринфских колоннах и пилястрах, которыми резчики Гандхары украшали свои безусловно индийские творения (рис. 28), — как и откуда появились они здесь? Базы и капители «персепольского» типа были задачей иного рода, и в предшествующей главе мы справились с ней более или менее успешно. Но и коринфские мотивы обретают свое место в той общей картине, которую, надеюсь, нам удастся благополучно закончить. Разумно предположить, что ближайшим и вполне доступным их источником была эллинистическая архитектура. Ай-Ханум показал, где следует ее искать. Кроме того, недавние раскопки огромного кушанского храмового комплекса в Сурх-Котале (Центральный Афганистан), основательно проведенные Даниэлем Шлюмберже, дали позднеэллинистический вариант коринфских пилястр. Этот комплекс культовых построек датирован по надписи временем Канишки I, то есть приблизительно первой половиной II в. н. э. Таким образом, удается проследить не только пути продвижения коринфского ордера из Греко-Бактрии в Гандхару, но также конструктивную и скульптурную метаморфозу, которую он претерпел на этой промежуточной стадии. В Сурх-Котале коринфские пилястры обнаружены и в комплексе святилища и на так называемой буддийской платформе, построенной несколько позже в миле от него. По замечанию Д. Шлюмберже, архитектура святилища менее всего может быть названа собственно буддийской или индийской. Его портик с колоннами более характерен для классического Запада, нежели для Персии или буддизма. Таковы и детали орнаментов. Например, гирлянды фриза, которые, поддерживают эроты, подобны тем, что находили в гандхарской Таксиле и других местах, однако происхождение их бесспорно греко-римское (рис. 31). Правда, основной храм отмечен многими чертами персидского зодчества, таковы, например, его ступенчатые мерлоны[46] (ср. Сузы и Персеполь). Всю атмосферу этого храмового комплекса, по-видимому, можно определить как греко- или римско-иранскую. Здесь нет ни единого камня, указывающего на присутствие индийской художественной традиции. Шлюмберже считает, что здесь мы застаем элементы бактрийского и персидского искусства на пути в Гандхару, где они должны будут соединиться в сложное и все-таки нерасторжимое целое. С его мнением трудно не согласиться. Интересно, однако, что коринфский ордер не проник далее Гандхары и Пенджаба; напрасно мы будем искать эти пилястры и колонны в глубинах Кушанской империи — их нет даже в Матхуре, южнее Дели.
* * *
Так или иначе, но давняя и почтенная проблема гандхарского искусства, проблема его происхождения и его связей, готова, кажется, принять определенные формы. В начале нашей истории — неистовый гений Александра Великого; в конце — блистательный оппортунизм величайшего среди кушан Канишки I; между ними — четыре столетия, перенасыщенные искусством и политикой. Суммируем, не боясь некоторых преувеличений. Скажем еще раз, что гандхарское искусство возникло на земле греческих колонистов и бактрийских царей. Это была обширная земля, она лежала между Гиндукушем и Оксом и простиралась на юг до Инда узкой полосой, проложенной еще в 326 г. до н. э. Александром. Потом, около 180 г. до н. э., сюда пришли бактрийские греки, люди решительные и предприимчивые, а потому узкая полоса вскоре заметно раздалась вширь. Но и само Бактрийское царство около 130 г. до н. э. пало под натиском полукочевых племен с Яксарта. Индо-греческие владения к югу от Гиндукуша стали последней независимой территорией греков в Азии, пока фланговый удар скифов не покончил и с нею приблизительно в 80 г. до н. э. Мы подводим итог, и сведения, недавно полученные археологией, нам, пожалуй, пригодятся. Некие племена, завоевавшие Бактрию около 130 г. до н. э., может быть уничтожили ее города. Если я правильно понял сообщения Бернара, копающего греческий город в Ай-Хануме (см. сл.), жизнь здесь продолжалась и после 130 г., хотя, по-видимому, это была довольно скудная жизнь. Немногое осталось от города. Как предполагают, он погиб в пожаре, потом тут было землетрясение. Окрестные жители добывали здесь строительный материал, растаскивали металлические детали — скобы и пр. Не установлена пока самая важная дата — дата пожара. И установить ее можно только дальнейшими раскопками. Весьма вероятно, что город действительно существовал долгое время после того, как из регионов Окса — Яксарта — Атрека нахлынули сюда полчища завоевателей. Они, конечно, были варварами, эти скифы (а может быть, парфяне или какая-нибудь ветвь юечжи), но глупцами они не были. В городах и военных колониях они сталкивались с культурами персидской и позже македонской (эллинистической) и в какой-то мере сумели их оценить. Это они спустя два века продолжали строительство Таксилы, Чарсады (Пушкалавати) и других старых греческих городов Гандхары и Пенджаба, где сложилась впоследствии высокая культура империи кушан, которые сами были кланом центральноазиатских юечжи. Легко представить этих воинственных всадников с границ Китая, из диких пустынь или с гор Центральной Азин предшественниками кровожадных орд какого-нибудь Михиракулы, Тимура или Чингиз-хана. Но это не так. Они побеждали, но готовы были учиться и, вероятно, уже на ранней стадии своих завоеваний щадили население греко-бактрийских городов, полагая, что терпимость выгодна. Так же поступали они и через два столетия в городах индо-греческих[47]. В период пребывания на иранских территориях многие из них усвоили зороастризм, но в Индии они обнаружили не столь уж несовместимую с ним религиозную доктрину. Это важное обстоятельство. Именно здесь, в Гандхаре и Пенджабе, центральных областях Индогреческого царства, неустойчивые границы которого достигали Матхуры на юге и Броча на западном морском побережье, процветал в предкушанские времена буддизм, ставший основой гандхарского искусства. Мы видели, что уже к середине III в. до н. э. буддийские заповеди, которыми Ашока скрепил свою разноплеменную империю, распространились вплоть до Кандахара, лежавшего поблизости от границ, а может быт и внутри индо-греческих владений. Три великие ступы из четырех, поставленных во славу телесных даров Будды, находились некогда в Гандхаре и Пенджабе: Дар Костей — в Маникьяле (Пенджаб), Дар Плоти — между Пешаваром и Бунером и Дар Глаз — к северу от Пушкалавати. По замечанию Тарна, для буддистов это была поистине Святая Земля. Характерная черта индийского мышления — терпимость — была свойственна и буддизму, который никогда не исключал другие культуры и верования. Тем не менее он сделался главенствующей религией, что произошло, видимо, в эпоху Менандра, крупнейшего индо-греческого царя, правившего между 130 и 140 гг. до н. э. или несколько позже (даты спорны, но в данном случае это несущественно). Одухотворенное лицо Менандра известно нам по многочисленным монетам, и самое искусное и убедительное изображение дает прекрасная серебряная тетрадрахма, приобретенная недавно Британским музеем. Это лицо священнослужителя или поэта, а не удачливого военачальника сомнительного происхождения, кем он был в действительности. Но, может быть, так и должен выглядеть государь, чья власть ограничена мнениями Совета (этих советников, греков или йонака, было не менее пятисот, хотя число, несомненно, завышено). Вряд ли он стал буддистом в официально-корпоративном смысле, но дух этой религии глубоко проник в его сознание, и, когда он умер, буддийские предания прославили его чуть ли не наравне с Буддой. При нем были написаны блестящие, почти платоновского стиля диалоги — «Милиндапанха», или «Вопросы Милинды». Имя Милинда было принятой транскрипцией имени Менандр. Пожалуй, среди преемников Александра он был единственным, чьи деяния стали легендой и остались в истории. А в качестве литературного персонажа ему удалось перешагнуть границы своего времени (такой чести не был удостоен даже Ашока), что в конечном итоге послужило к вящей славе земли, которой правил Менандр, «государь и спаситель», и, разумеется, учения, с которым имя его связано прочно, хотя и косвенно. За два столетия после смерти Менандра в буддизме произошли многие перемены. То, что начиналось как философия нравственного совершенствования с благостным негативизмом в качестве высшей его ступени, с Буддой в качестве учителя и понятием «просветленности» в качестве архетипа, оформилось со временем как религия, центром которой стал Будда в качестве божества. Прежде считалось недопустимым изображать пророка буддизма в виде реальной личности (как до сих пор не существует изображений пророка ислама), теперь изображение Будды-бога казалось уместным и как бы становилось в один ряд с традиционными образами индийского пантеона. Также и бодисатвы, которые первоначально выражали различные воплощения Будды и достаточно неопределенно символизировали силы добра и милосердия, были поняты впоследствии как его святые коллеги, апостолы, разделившие с Буддой его духовную миссию — вести все живое к совершенству. Для судеб искусства эти перемены оказались решающими: они создавали возможность и одновременно потребность новой и развитой иконографии. Сходные проблемы решало и христианство,формировавшееся в ту эпоху на Западе. Это был один из тех периодов в истории человечества, когда цивилизованную его часть потрясали интеллектуальные и духовные бури и всюду охваченный беспокойством людской разум искал новые формулы для выражения новых идей. Но откуда могла появиться в Индии новая иконографическая система и ее создатели? И главное, каким образом северо-западная область, индо-греческая, упорно сохранявшая свою культурную традицию даже при скифских и парфянских правителях, могла удовлетворить требования буддийского большинства? С большей или меньшей уверенностью можно утверждать, что северо-запад не имел к тому времени скульптуры в полном смысле этого слова в отличие от Центральной Индии, от долин Джамны и Ганга, где существовали вполне определенные скульптурные школы. Ни в Таксиле (Сиркап), ни в Пушкалавати (Шанхай) пока не найдено образцов местной художественной пластики, значительно превышающей уровень ремесла. Реликвии греко-бактрийского искусства покрывались пылью в запустелых эллинистических городах — они еще не умерли, но творческий огонь там давно угас. Игрушки и амулеты, ремесленные поделки из глины, реже из камня, иногда примитивные, иногда явно классического стиля, появлялись в этой пустоте, ни в коей мере ее не заполняя. С их помощью невозможно было выразить сложные и разнообразные идеи нового буддийского учения — махаяны. Накануне рождения гандхарского искусства родина его представляла собой эстетический вакуум. Но час пробил, и земля, задремавшая было в межвременье, внезапно пробудилась — наступило время кушан. Они явились из-за Гиндукуша, с бактрийской стороны; их вожди были искусны и храбры, удача сопутствовала им. Эти воины, опоясанные тяжелыми мечами, в долгополых развевающихся кафтанах, в шароварах, заправленных в сапоги, которым были не страшны каменистые и песчаные азиатские тропы, легко захватили царство славного Менандра и приступили к созданию своей обширной империи. Когда именно приступили — неизвестно, во всяком случае не ранее второй половины I в. н. э. У них было многое или все, с чем можно начинать такое великое предприятие, — сила, богатство, энергия, память о древней иранской традиции и более свежие впечатления от греческих городов Бактрии. Теперь, перевалив горные хребты на северо-востоке, они увидели другие города, не столь развитые, но все-таки очень похожие на те, бактрийские; и тогда, не теряя времени, они принялись за дело. Некоторые результаты их усилий нам известны. Новые хозяева умели не только захватывать с боя, но и щедро платить. Они вербовали художников и ремесленников отовсюду — с берегов великих рек в северных степях, с иранских территорий, откуда пришли сами, из умирающих городов Греко-Бактрии с их обветшалыми коринфскими колоннадами и поблекшими эллинистическими статуями вроде тех, что начал открывать Поль Бернар в айханумских раскопках, и, может быть, из римских колоний Западной Азии. Так, в иной обстановке, подстрекаемое иными стимулами, оживало и облекалось новой плотью бессмертное дело Александра и его преемников. В кушанское время процвела торговля, предметы роскоши стекались со всех концов земли в сокровищницы Беграма у подножия Гиндукуша — стекло, бронза, лепной штук из Египетской Александрии, драгоценная слоновая кость из Матхуры, лаковые чаши из Китая. Покупали вещи и покупали мастеров — это было в обычае. Разнообразными путями шло становление ганхарского искусства, и процесс этот, по-видимому, тесно связан с историей государства Кушан, которое достигло высшего развития при императоре Канишке I, приблизительно в начале II в. н. э. Дата правления Канишки — классическая проблема в истории Индии; по некоторым данным можно предположить, что в 128 г. н. э. он, во всяком случае, находился на троне. Гораздо лучше мы осведомлены о его деяниях и его личности. Лишь немногие монеты сохранили для нас энергичную бородатую физиономию царя. Статуя Канишки в Матхуре (рис. 32), к сожалению, лишена головы. Но, чтобы понять его нрав и склонности, достаточно увидеть этот кафтан и огромные сапоги, вызывающе развернутые носами в сторону, эту массивную палицу и меч в ножнах, схваченный твердой рукой. Монументальная надпись в его царском святилище в Сурх-Котале демонстрирует кушанскую письменность, основанную, конечно, на бактрийских эллинистических источниках. Его золотые монеты чеканились по римским стандартам (впрочем, они могли быть просто надчеканенными римскими монетами); на них помещены рядом западные и восточные божества и часто император Рима — удивительная смесь! Словом, это был восточный монарх, восточный ум, в котором соединились любопытство и решимость, упрямство и готовность перенимать. Ему пристало быть покровителем искусства эклектического и в то же время чрезвычайно действенного, появившегося внезапно, как взрыв, эрзац-искусства, искусства-эсперанто, которое использовало принципиально различные идеи и формы и тем не менее блестяще решило свою главную задачу — превратилось в средство массовой коммуникации, чем и объясняется его невероятная продуктивность.
Некоторые результаты их усилий нам известны. Новые хозяева умели не только захватывать с боя, но и щедро платить. Они вербовали художников и ремесленников отовсюду — с берегов великих рек в северных степях, с иранских территорий, откуда пришли сами, из умирающих городов Греко-Бактрии с их обветшалыми коринфскими колоннадами и поблекшими эллинистическими статуями вроде тех, что начал открывать Поль Бернар в айханумских раскопках, и, может быть, из римских колоний Западной Азии. Так, в иной обстановке, подстрекаемое иными стимулами, оживало и облекалось новой плотью бессмертное дело Александра и его преемников. В кушанское время процвела торговля, предметы роскоши стекались со всех концов земли в сокровищницы Беграма у подножия Гиндукуша — стекло, бронза, лепной штук из Египетской Александрии, драгоценная слоновая кость из Матхуры, лаковые чаши из Китая. Покупали вещи и покупали мастеров — это было в обычае. Разнообразными путями шло становление ганхарского искусства, и процесс этот, по-видимому, тесно связан с историей государства Кушан, которое достигло высшего развития при императоре Канишке I, приблизительно в начале II в. н. э. Дата правления Канишки — классическая проблема в истории Индии; по некоторым данным можно предположить, что в 128 г. н. э. он, во всяком случае, находился на троне. Гораздо лучше мы осведомлены о его деяниях и его личности. Лишь немногие монеты сохранили для нас энергичную бородатую физиономию царя. Статуя Канишки в Матхуре (рис. 32), к сожалению, лишена головы. Но, чтобы понять его нрав и склонности, достаточно увидеть этот кафтан и огромные сапоги, вызывающе развернутые носами в сторону, эту массивную палицу и меч в ножнах, схваченный твердой рукой. Монументальная надпись в его царском святилище в Сурх-Котале демонстрирует кушанскую письменность, основанную, конечно, на бактрийских эллинистических источниках. Его золотые монеты чеканились по римским стандартам (впрочем, они могли быть просто надчеканенными римскими монетами); на них помещены рядом западные и восточные божества и часто император Рима — удивительная смесь! Словом, это был восточный монарх, восточный ум, в котором соединились любопытство и решимость, упрямство и готовность перенимать. Ему пристало быть покровителем искусства эклектического и в то же время чрезвычайно действенного, появившегося внезапно, как взрыв, эрзац-искусства, искусства-эсперанто, которое использовало принципиально различные идеи и формы и тем не менее блестяще решило свою главную задачу — превратилось в средство массовой коммуникации, чем и объясняется его невероятная продуктивность.
* * *
Но определить источники и воздействия, формирующие искусство, еще не значит дать ему исчерпывающую оценку. Между тем даже время, когда были разыграны эти богатейшие историко-художественные импровизации, не определено с надлежащей достоверностью. И все же каково значение гандхарской школы? Велик ли ее вклад в историю мирового искусства? Обсудить этот вопрос нужно, хотя суждение наше может показаться субъективным. Я только что назвал гандхарское искусство орудием массового общения. В самом деле, одна из главных его черт — удивительная плодовитость. Даже теперь мало-мальски опытному собирателю нетрудно составить коллекцию его образцов. Всем, кто имел дело с этим искусством, знакомо своего рода пресыщение им, которое раньше или позже, но приходит. Несмотря на высокий уровень мастерства, на разнообразие сюжетов, материала и связей со многими художественными школами, искусство это отличается строгостью, целеустремленностью и весьма редко позволяет себе светскую тематику. Оно кажется несколько монотонным, что можно объяснить функциональной двойственностью его произведений. С одной стороны, гандхарское искусство учило благочестию. Его будды, стоящие или сидящие в позах медитации или поучения, многочисленны, как наши статуи Мадонны или Христа. Тысячи изображений на камне, штуке, глине, часто примитивные, иногда высокохудожественные, представляют тысячи буддийских историй и легенд, как религиозная живопись на стенах христианских церквей, как многоцветные витражи соборов бесконечно повторяют сцены из Священного Писания, дидактические, нередко наивные, исполненные на различных уровнях мастерства. Аналогия эта достаточно правомерна и сама по себе является ответом на вопрос о значении гандхарского искусства. Я считаю нужным повторить и настаиваю, что искусство такого рода на Востоке и на Западе говорило общепонятным языком картинок и символов с огромными массами людей, преимущественно неграмотных. С другой стороны, буддийское искусство, не менее чем христианское, выражало суетные притязания бесчисленных жертвователей. Это по их заказу фабриковались мириады будд и бодисатв, многократно повторялись сцены из джатак или из жизни Учителя. И чем их становилось больше, этих изделий, тем большей гордостью преисполнялись сердца благочестивых заказчиков, тем крепче была уверенность, что обожествленный Философ обратит наконец внимание на их земные нужды. Обилию и однообразию этих копий способствовала дешевизна материала крашеного штука. Впоследствии некоторые религиозные центры (например, монастыри вокруг Таксилы) штамповали их в количестве, которое можно сравнить только с машинным производством. Поистине дух св. Сульпиция проник в Гандхару и Пенджаб и оттуда распространился по всей Восточной Азии. Европейцу полезно помнить, что непрочный, податливый в обработке штук был подарком Запада. Штуковые статуэтки доставляли сюда по старым торговым путям из Александрии Египетской, где естественные запасы сырья для этого материала в какой-то мере оправдывали его широкое применение. Заканчивая обзор искусства Гандхары, отметим основные условия его возникновения и развития. Первое среди них — примат буддизма, давно здесь установленного и к этому времени озабоченного созданием собственной культовой иконографии. Второе — выгодное положение Гандхары между греко-бактрийскими городами на севере с их скульптурой и архитектурой и древними центрами индийского художественного ремесла на юге. Третье — отсутствие сложившейся и достаточно развитой эстетической системы. И четвертое условие — появление в конце I в. н. э. могущественных завоевателей, чей кругозор не был, по-видимому, ограничен узкими племенными интересами. Это позволило им понять религиозные (а значит, и политические) нужды обширной пограничной области, расположенной на главных путях мировой торговли и во многом определявшей рост и безопасность новой Кушанской империи. Много веков спустя другая империя безуспешно пыталась закрепить за собою этот пограничный район, возводя форты и размещая в них солдат-оккупантов. Канишка и его кушаны строили здесь монастыри с гарнизонами из тысяч местных буддийских монахов и добились полного успеха. Я думаю, сказанного довольно, чтобы составить общее представление о гандхарском искусстве. Многочисленные и глубокие корни удерживают его в родной почве, многие чужеземные мастера поработали над ним. В границах своего понимания мира искусство это достигло совершенства. Оно было искусством и для широких слоев населения, и для искушенных ценителей одновременно. А в тех редких случаях, когда оно выходило за пределы своей специальной функции, в его произведения проникали греко-римские черты, отражающие мирской характер греческого мышления. Остается сказать несколько слов об эволюции взглядов на происхождение и состав искусства Гандхары. В недалеком прошлом оно представлялось простым сочетанием классических, греческих, и восточных элементов, приспособленных к идеологии гандхарского буддизма. Так было принято название — «греко-буддийское искусство». Считали, что греческая его половина заимствована непосредственно из провинции, основанной Александром в Бактрии и ставшей впоследствии царством. В 1899 г. Винсент Смит заявил, что по особенностям стиля, да и по времени, этот западный элемент соотносится более с классическим Римом, нежели с Грецией, и предложил называть гандхарское искусство римско-буддийским. Он только не объяснил, как очутился Рим в Гандхаре. Около 1905 г. А. Фуше, чей вклад в изучение гандхарского искусства весьма основателен, пришел к выводу, что прямая связь между Бактрией и Гандхарой не может быть установлена. По его замечанию (для того времени справедливому), Греко-Бактрия оставила нам великолепные эллинистические монеты, но ни одного памятника архитектуры, скульптуры или живописи. Около 130 г. до н. э., как писал Фуше, кочевники уничтожили греческую Бактрию, и если греко-бактрийская школа существовала когда-нибудь, то теперь уже во всяком случае перешла в разряд мифов. Бактрийские греки бежали через Гиндукуш в Гандхару и далее, но тамошние буддисты не были еще многочисленны и сильны настолько, чтобы пытаться создать новую буддийскую цивилизацию. Они создали ее лишь в конце II в. н. э., и только тогда в Гандхаре появилось собственное гандхарское искусство. Это произошло через три столетия после гибели Греко-Бактрии и через два после того, как индо-греческих царей в Гандхаре сменили новые правители (кушаны), которых не интересовали ни греческая культура, ни буддизм. Что касается индо-греческого искусства Гандхары, то оно вряд ли пережило индо-греческие режимы, то есть восьмидесятые годы до н. э. Эти несколько путаные и даже противоречивые выводы были поводом полувековых раздумий ученого, склонного к теоретизированию и располагавшего скудным фактическим материалом. Несколько лет назад, желая сопоставить его теории с действительностью, я отважился подтвердить догадку Винсента Смита о связях между искусствами Гандхары и Рима, использовав для этого замечательные находки римских вещей I и II вв. н. э. в Беграме и других местах. Казалось бы, восточно-западные связи в период становления гандхарского искусства неоспоримы; археология, действительно, документирует торговлю Востока и Запада времен Римской империи. Но это далеко не исчерпывало всей гандхарской проблемы. И вот в 1960 г. Даниэль Шлюмберже опубликовал в журнале «Сирия» две очень интересные статьи. Он утверждал, что высокоразвитое греко-бактрийское искусство, в прямом родстве с которым находится искусство Гандхары, не следует считать мифом потому только, что образцы его пока не обнаружены. И он оказался прав. Утверждение это он обосновал данными своих раскопок в Сурх-Котале. Там, в архитектуре кушанского храмового комплекса, были выявлены классические и персидские элементы, но не индийские, как можно было предполагать. Таким образом, его раскопки продемонстрировали своего рода «художественный багаж» кушан, с которым они продвигались на юго-восток после длительного пребывания на иранских и других, более северных, территориях, где могли познакомиться, пусть бегло, с культурой греческих городов Бактрии, к тому времени пришедших, вероятно, в упадок, может быть даже мертвых и заброшенных. Теперь и Ай-Ханум готов, кажется, подтвердить это предположение. Теперь, то есть с 1965 г., можно не сомневаться, что кушанские всадники проезжали по этим эллинистическим улицам мимо пыльных коринфских колоннад, мимо статуи, еще не покинувших свое архитектурное окружение. Маловероятно, что Ай-Ханум и ему подобные города внезапно погибли в 130 г. до н. э. Но и в таком случае кое-что от былого великолепия должно было сохраниться и привлечь внимание смышленых кушанских кочевников, даже если они всего лишь ставили свои шатры среди величественных руин. Итак, Ай-Ханум и Сурх-Котал внесли существенные поправки в наши представления о гандхарской проблеме. Не изменив эти представления коренным образом, они указали источник воздействия на искусство Гандхары, о котором прежде можно было только догадываться. Греческие надписи III в. до н. э. из Кандахара также говорят нам о цивилизованном обществе греческих экспатриантов. Это общество проникалось духом и мыслью Востока и было очень близко к той совершенно не греческой, а может быть неогреческой, идее интернационализма, которую Тарн приписывает всеобъемлющему гению Александра. И, соединяя на страницах своей книги новые факты и старые теории, я думал о том, что все эти далеко ведущие перемены в сознании людей, в их городской жизни, в искусствах и ремеслах, все они прямо или косвенно восходят к тому дню, когда после памятного пира в Персеполе Александр Великий повернул вопреки желанию своих соратников не на запад, а на восток.Литература
Арриан, Поход Александра, перевод М. Е. Сергеенко, М.—Л., 1962. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф., История древней Индии, М., 1969. Буддийские пещеры Кара-тепе в Старом Термезе, М., 1969. Всеобщая история архитектуры, 2-е изд., т. I, М., 1970. Ильин Г. Ф., Древнеиндийский город Таксила, М., 1958. Искусство Древнего Востока (в серии «Памятники мирового искусства»), М., 1968. История таджикского народа, т. I, М., 1963. Кара-тепе — буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе, М., 1964. Квинт Курций Руф, История Александра Македонского, М., 1963. Кошеленко Г. А., Культура Парфии, М., 1966. Луконин В. Г., Persia, II (в серии «Archologia mundi»), Geneve, 1967. Массон В. М., Ромодин В. А., История Афганистана, т. I, М., 1964. Массон М. Е., Пугаченкова Г. А. Парфянские ритоны Нисы (Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции, т. IV); альбом — Ашхабад, 1956; текст — Ашхабад, 1959. Пугаченкова Г. А., Искусство Афганистана, М., 1963. Пугаченкова Г. А., Скульптура Халчаяна, М., 1971. Ранович А. Б., Эллинизм и его историческая роль, М., 1949. Ставиский Б. Я., Между Памиром и Каспием. Средняя Азия в древности, М., 1966. Тарн В. В., Эллинистическая цивилизация, М., 1952. Толстов С. П., По древним дельтам Окса и Яксарта, М., 1962. Толстов С. П., По следам древнехорезмийской цивилизации, М., 1948. Bernard Р., Аї Кhanum от the Oxus: A Hellenistic City in Central Asia, Proceedings of British Academy, vol. LIII, London, 1967. Foucher А., L’аrt greco-bouddhique du Gandhara, vol. I–II, Paris, 1950–1951. Ghirshman R., Begram, Cairo, 1946. Ghirshman R., Iran, Parths et Sassanides, Paris, 1962. Ghirshman R., Perse, Proto-Iraniens, Medes, Achemenides, Paris, 1963. Ingholt H., Gandharan Art in Pakistan, New York, 1947. Le Rider G., Suse sous les Seleucidge, et les Parthes, Paris, 1965. Marshall J., Taxila, vol. I–II, Cambridge, 1951. Marshall J., The Buddhist Art of Gandhara, Cambridge, 1960. Olmstead A.T., Histiry of the Persian Empire, Chicago, 1948. Rosenfield J., The Dynastic Arts of Kushans, Los Angeles, 1967. Rostovtzeff M., Dura-Europos and ils Art, Oxford, 1938. Rostovtzeff M., The Sicial and Economic Histiry of the Hellenictic World, vol. I–III, Oxford, 1941. Rowland B., The Art and Architecture of India, 2nd ed. Harmondsworth, 1956. Schlumberger D., L’Orient Hellenise. Paris, 1970. Schmidt E., Persepolis, vol. I–II, Chicago, 1953, 1957. Tarn W. W., The Greeks in Bactria and India, 2nd ed. Cambridge, 1951. Wheeler R. E. M., Rome beyond the Imperial Frontiers, London, 1954. Wheeler R. E. M., Charsada, A Metropolis of the North West Frontier, Oxford, 1962. Will E., Histirie politique du monde hellenistique, t. I, Nancy, 1966.Список иллюстраций
1. Скульптурный портрет Александра Македонского. Британский музей. 2. Персеполь. Греческие профили на ноге статуи Дария. Нью-Йорк. Метрополитэн-музей, фонд Роджерса. 3. Персеполь. Восточная лестница приемного зала. 4. Персеполь. Общий вид дворца. 5. Пасаргады. Гробница Кира. Западная сторона. Фото автора. 6. Персеполь. Дворцы Дария I и Ксеркса (510–460 гг. до н. э.), вид с самолета. 7. Персеполь. Вход в тронный зал. Изображение царского приема, ниже — ряды персидской и мидийской стражи. 8. Персеполь. Колонны и капители, (а — in sity; б — реконструкция). 9. Персеполь. Восточная лестница приемного зала. Чужеземец, возможно из Гандхары, приносит дар царю. 10. Кандахар. Греческая надпись 225 г. до н. э., найденная в 1963 г. 11. Ай-Ханум. План эллинистического города. А — нижний город, В — акрополь, С — цитадель. 12. Ай-Ханум. Персидская база и коринфская капитель при входе на агору. 13. Ай-Ханум. Капитель пилястры (а) и капитель коринфского ордера с агоры (б). 14. Ай-Ханум. Эллинистическая герма 15. Ай-Ханум. Голова эллинистической гермы. 16. Беграм. План (по Гиршману). 17. Беграм. Силен. Бронзовая маска (I–II вв. н. э.). Кабульский музей. 18. Беграм. Юноша в шлеме (Арес?). Медальон из штука (I в. н. э.). Кабульский музей. 19. Чарсада (Пушкалавати). Оборонительный ров вокруг Бала Гиссара. 20. Таксила. Карта последовательного возникновения городов. 21. Таксила. Сиркап, построенный на основе индо-греческого плана (I в. н. э.). По диагонали фото пересекает главная улица. Справа от центра — главный храм, окруженный двором. Вид с самолета. 22. Таксила. План Сиркапа, показывающий раскопанные участки, относящиеся главным образом к первым векам до новой эры и новой эры. 23. Таксила. План храма Джандиал в окрестностях Сиркапа. У южного входа и примыкающего к нему входа в пронаос были колонны ионического ордера. 24. Таксила. Силен или Дионис, погрудное изображение в центре серебряного блюда. Греко-римская работа. Из Сиркапа. Рядом: голова из штука, эллинистическая или греко-римская. Из монастыря Джаулиан. 25. Сарнатх. Капитель колонны Ашоки (245 г. до н. э.). Музей Сарнатх. 26. Персеполь. Львиная голова на двухконечном импосте. 27. Мечеть Ктуб в окрестностях Дели. Железная колонна с лотосовой «персепольской» капителью (400 г. н. э.). 28. Гандхарское искусство. Рельеф из Сваби. Пешаварский музей. 29. Гандхара. Фриз с изображением донаторов в персидской или кушанской одежде. 30. Гандхарское искусство. Часть ступы с изображением непрерывного ряда эпизодов из жизни Будды. Начинается эпизодом с лающей собакой (слева). Индийский музей в Калькутте. 31. Гандхарское искусство. Рельеф из монастыря Кунала, Таксила. Изображены путти, или амуры, держащие гирлянду. 32. Царь Канишка I. Каменная статуя. Без головы. Музей в Матхуре.

Последние комментарии
5 часов 28 минут назад
5 часов 42 минут назад
6 часов 15 минут назад
6 часов 47 минут назад
22 часов 17 минут назад
22 часов 27 минут назад