Избранные произведения писателей Дальнего Востока [Масудзи Ибусэ] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Избранные произведения писателей Дальнего Востока
В настоящий том «Библиотеки избранных произведений писателей Азии и Африки» включены произведения прозаиков четырех стран Дальнего Востока — КНР, КНДР, МНР и Японии. Китайская проза представлена произведениями первых лет народовластия в Китае, отразившими начинавшийся в те годы процесс демократизации китайского общества. Следующий раздел книги — роман корейской писательницы Кан Гёнэ о взаимоотношениях разложившейся феодальной деревни и капиталистического города, зарождении передовой интеллигенции, пролетарской партии. Четыре монгольские повести утверждают новый уклад жизни в стране, строящей социализм. Роман Ибусэ Масудзи «Черный дождь» воспроизводит страшную картину атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году и ее последствия.Китайская Народная Республика
Ай У
Один из наиболее видных представителей старшего поколения китайских-писателей Ай У (настоящее имя Тэн Даогэн) родился в 1904 году в уезде Синьфань провинции Сычуань. Отец его был учителем в средней школе. Юноша тоже поступил в учительскую семинарию, но рутинные методы преподавания не удовлетворили его. С 1925-го по 1930 год он странствовал по юго-западным окраинам Китая и странам Индокитайского полуострова, испробовал много профессий, приобщился к революционному движению. Был арестован английскими колониальными властями в Сингапуре и выслан на родину. В 1932 году в Шанхае вступает в Лигу левых китайских писателей, печатается в ее изданиях, подвергаясь преследованиям чанкайшистской полиции. Первые его сборники рассказов и очерков — «Путешествие на Юг», «Ночной пейзаж», «Записки скитальца» — построены большей частью на автобиографическом материале. В 40-е годы наряду с продолжением этой линии («Мои детские годы», «Мои юные годы») Ай У все чаще обращается к жизни крестьян китайской «глубинки», их многотрудной, полной лишений жизни (повести «Трагедия одной женщины», «Деревенские беды», роман «Плодородная долина» и др.). Но писатель видит не только страдания и несправедливость — он изображает и волю к борьбе, и стремление во всех обстоятельствах сохранить свое человеческое достоинство, о чем свидетельствуют и публикуемые ниже рассказы. Крупнейшим произведением этого периода стал роман «В горах» — о том, как население глухой деревни поднимается на бой с японскими агрессорами. После создания КНР Ай У работает начальником управления культуры города Чунцина, затем проводит несколько лет на Аньшаньском комбинате, результатом чего явился роман «В огне рождается сталь». В числе других его произведений 50-х годов — книга очерков «Путешествие по Европе», где писатель подробно и с большой теплотой рассказывает о пребывании в Советском Союзе. В годы «культурной революции» писатель подвергся репрессиям, четыре года провел в заключении. В 1977 году его имя стало вновь появляться в печати, а два года спустя он был избран членом правления возобновившей свою деятельность Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства. В. СорокинЖЕНА ШИ ЦИНА
Утреннее солнце, как всегда в ясные дни, осветило яркими лучами деревья в ущелье, засверкало в росинках, в траве и на листьях. Но на душе у жены Ши Цина было сумрачно, и, словно капли дождя из тучи, готовы были брызнуть слезы из глаз. Она смотрела на опрокинутую табуретку, разбитую лампу, затоптанный огород перед хижиной: шпинат превратился в жидкую грязь, а от помидоров остались лужицы красного сока. Они пугали ее, эти лужицы, ей казалось, будто это кровь ее мужа, раненного во время ночной схватки. По шоссе на склоне горы за рекой умчалась машина, и сразу наступила тишина, необычная, зловещая тишина. Каменные глыбы на горе в солнечных лучах выглядели особенно уродливыми, как огромные лысые головы, покрытые коростой. Шоссе пряталось за этими глыбами, и гора сохраняла свой первозданный вид. Когда Ши Цин был с ней, их хижина, единственная в ущелье, не казалась ей одинокой и заброшенной. Ее мысли всегда были заняты речкой у самой хижины да огородом на склоне горы, который требовал неустанных забот и труда. Повязав голову платком, она от зари до темна то вскапывала землю, то косила траву, то собирала овощи. Бывало, загорятся в небе над ущельем звезды, лес и хижина исчезнут в тумане, малыши, сидя у входа, плачут, маму зовут, а она все еще собирает в поле бобы, бальзамку, баклажаны, перец, чтобы чуть свет пойти в селение, в пяти ли отсюда, продать овощи и купить рису. Нет теперь в семье хозяина; может быть, он никогда больше не вернется. В ту ночь она громко плакала, била себя в грудь, рвала на себе волосы, а днем помертвевшая стояла на берегу, нащупывая рукой сук потолще, чтобы привязать к нему веревку. Но тут перед глазами всплыли образы ее пятерых детей, в ушах зазвучали их тоненькие голоса, и сердце ее дрогнуло. Она должна жить ради этих малюток. Как сильно болят руки после побоев старосты, но ничего, она приложит немного лекарственной травы, и все пройдет. А когда руки в порядке, можно работать. Этот склон возле речки позволит ей прокормить и вырастить детей. Еще лет девять тому назад она поняла, что семье не прожить на жалованье Ши Цина, школьного служителя. И круглый год она полола и поливала огород, роняя в землю капли пота, чтобы над хижиной всегда вился дымок, как бы оповещая всех, кто проезжает в машинах по противоположному склону, что ущелье не безлюдно. Она решила вскопать всю пустошь, расширить огород. Она тяжело трудилась, живя надеждой, что небо смилостивится и лет через пять муж благополучно вернется. Дни шли за днями, ее лицо, обожженное солнцем, становилось все более изможденным. Губы уже не искрились улыбкой, в глазах застыла тоска. Продавая овощи в селении, она часто из-за пустяков спорила и бранилась. Ущелье, где она жила, девять лет назад было совсем глухим, поросшим чертополохом, корявым кустарником и бурьяном, который коровы и овцы не ели. Место было такое дикое, что ни дровосеки, ни пастухи сюда не наведывались. Круглый год здесь летали стаями птицы. Несколько раз в ущелье забредали охотники, но найти в зарослях убитую дичь было почти невозможно, и, изодрав штаны о колючки, они уходили, потеряв всякий интерес к этому месту. Но вот одна крупная государственная школа, спасаясь от вражеских бомбардировок, переехала из соседней провинции в этот безлюдный горный район. Ши Цин поступил в школу служителем, соорудил в ущелье тростниковую хижину и поселился в ней с матерью и женой. Ущелье, примыкавшее к земельному участку, на котором разместили школу, тоже как бы перешло в ее владение. Каждый вечер к реке приходили школьники, пели песни, которые слышны были далеко вокруг. Летом они катались на маленьких лодках, и в зеленых камышах мелькали их белые формы. Ущелье перестало казаться тихим и пустынным. Прежде Ши Цин с женой жили в деревне в нескольких днях пути отсюда и обрабатывали там арендованную у помещика землю; затем решили перебраться поближе к школе, как только узнали об ее переезде, чтобы навсегда избавиться от старосты, причинившего им много горя. Ши Цин, сызмальства привыкший ухаживать за всходами риса и пшеницы, устроился в школу и стал обслуживать преподавателей и учеников. Но привязанность к земле осталась: при виде плодородного чернозема у него разгорались глаза. Цены на продукты угрожающе росли изо дня в день, прожить на одно жалованье и скудный паек риса было невозможно, и вот Ши Цин по вечерам и в воскресные дни, вооружившись топором, мотыгой и серпом, выкорчевывал кустарник, терновник, выпалывал бурьян. Его жена, ловкая и проворная, успевала дважды приготовить еду, и ее ладная фигура в старом синем платье с засученными выше локтя залатанными рукавами целыми днями мелькала на склоне. Руки ее постоянно были исцарапаны до крови, одежда облеплена трухой и листьями. Даже беременная, она ни за что не хотела оставаться дома. Либо трудилась на огороде, где, кроме овощей, росли пшеница и бобы, либо в поле, где выполняла большую часть работы. Ее усердие вызывало единодушное одобрение приходивших сюда прогуляться жен школьных преподавателей. Земля щедро вознаграждала супругов: зимой и весной — овощи, летом — рапс и пшеница, осенью — фасоль и фрукты. Все это они меняли на зерно. Откормили свинью, завели кур. Каждые два года у них прибавлялось по ребенку, в хижине всегда было шумно и весело. Когда умерла мать, ее похоронили у самого подножья горы, чтобы душа ее была рядом и помогала благоденствию семьи. В начале апреля и в день зимнего равноденствия они с детьми ходили на могилу и по всем правилам обряда прибирали ее. Никто никогда не вмешивался в их дела, никто не требовал налогов или арендной платы, как будто это ущелье безраздельно принадлежало им. Пришел как-то староста, стал что-то вынюхивать, но, услышав в ответ: «Мы школьные», — ушел и больше их не беспокоил. Когда случались лишние деньги, они переделывали и расширяли свою хижину, чтобы была более прочной и пригодной для жилья. Около хижины насадили мандарины и мушмулу, а на берегу реки — персики и сливу. Весной деревья стояли осыпанные цветами самых разных оттенков, а осенью на ветках качались румяные плоды, которые обычно вызывали восторг у пассажиров, проезжавших мимо на автомашинах. Жена Ши Цина была довольна жизнью. Когда ущелье сотрясалось от грохота проносившихся машин, она со своего склона смотрела на набившихся в кузов людей, на тюки и чемоданы на крышах машин и невольно удивлялась: «И чего это они без конца мечутся? Куда лучше жить спокойно, как мы!» Но вот закончилась антияпонская война. Школа вскоре вернулась обратно, на восток. Ши Цину, южанину, не хотелось отправляться со всей семьей так далеко, к тому же жалко было бросать землю, которую почти восемь лет они обрабатывали собственными руками. Они решили остаться в ущелье. В вознаграждение за предоставленный школе участок все постройки были переданы помещику, который поселился в кирпичном доме европейского типа. В коридоре, рядом с бывшим кабинетом директора школы, он повесил клетки с птицами, а у входа в канцелярию разместил кур и гусей. В классах и комнатах, где жили ученики, штукатурка осыпалась, во многих местах проглядывали сплетенные из бамбука остовы стен, затянутые паутиной. Ши Цин потерял работу, а с нею и покровительство. Теперь староста не давал им покоя. И вот однажды ночью, пустив в ход кулаки, он увел Ши Цина. Его жена постепенно привыкла к своему одиночеству, но, глядя на машины, проносившиеся по склону за рекой, с тоской думала: «Может быть, он когда-нибудь вернется вот так, на машине?» По лесу больше не разносились песни, вечерами возле речки никого не было. В ущелье царила первозданная тишина, которую лишь два раза в день нарушал шум автомобиля. Жена Ши Цина была готова стерпеть все, что пошлет ей судьба. Она жила в добром соседстве с отвесными скалами, спокойной речушкой, лесом, о чем-то шептавшем, когда налетал ветер. Поросшая травой могила свекрови безмолвно утешала ее. Подрастали дети, и в хижине, и на склоне горы звенел их смех, будоража этот молчаливый мир. Однажды, месяца через четыре после того, как увели ее мужа, к ней на огород явились трое мужчин. Двое принялись измерять его бечевкой. Она побоялась, что они затопчут овощи, посаженные ею с таким старанием, положила ребенка, которого кормила грудью, и попыталась их остановить: — Эй, не топчите огород, там только что посажено! Мужчины не обратили на нее никакого внимания и продолжали топтать землю, измеряя ее вдоль и поперек. — Господа, вы что, оглохли? — не выдержав, крикнула жена Ши Цина. — Не слышите, что вам говорят? Затоптали все грядки, разве там теперь что-нибудь вырастет? Они посмотрели на нее равнодушно, будто ее слова их совсем не касались. А третий, который был в длинном халате и стоял на берегу, покуривая сигарету, презрительно бросил: — Ну ты, дрянь, чего расшумелась? — Это моя земля, как же мне не шуметь? — Она задыхалась от гнева. Куривший холодно усмехнулся: — Ха, твоя земля! Те, что измеряли огород, тоже стали насмехаться: — Ты, видать, еще не проснулась! Куривший, изобразив на лице удивление, спросил: — Твоя земля, говоришь? А ну, скажи, когда ты ее купила? Жена Ши Цина сперва растерялась, но она была не глупа и тут же сообразила, что ответить: — Как же не моя? Это школа нам подарила! Куривший поднял брови и с презрением фыркнул: — Подарила! За такой подарок твоей школе недолго в тюрьму угодить! Те, что мерили землю, подошли к жилищу. Две собаки с остервенением набросились на непрошеных гостей. Обуреваемая яростью, женщина не стала отгонять собак — пусть покусают негодяев. С болью в душе смотрела она на затоптанный огород. Кое-где семена капусты уже дали два нежных листка, но сейчас все было смято. Ей казалось, что эти люди искалечили детей, которых она вскормила. Разрывая руками землю, она проверяла, не пострадали ли проросшие семена, бормоча сквозь зубы проклятья: — Чтоб вам сдохнуть, окаянные! Попортили все! Они ушли. В ущелье снова воцарилось спокойствие. Подул ветерок, зашелестели листья в лесу, где-то застучал дятел.. Жена Ши Цина вернулась к детям и снова стала кормить малыша. Старшие беспокоились: — Мама, что они делали? — Что делали? Они бандиты, грабители! Потери были большие. Но семена капусты и репы она не очень жалела, они стоят недорого, а вот урожай — что теперь удастся собрать? Ведь это грабеж! И она молча в душе молилась, чтобы небо помогло ей и никто больше не приходил топтать ее огород. Но небо бездушно, словно дерево или камень. Не прошло и двух дней, как снова явились те двое в куртках, что обмеряли землю. На этот раз они не топтали грядки. Покрикивая на собак, они приблизились к хижине. Жена Ши Цина сразу помрачнела. — Зачем опять пришли? — настороженно и зло спросила она. Криками и пинками они отогнали собак, потом один из них вытащил лист бумаги и громко произнес: — Слушай, что тебе говорят: за четыре с лишним му[1] земли ты должна уплатить залог в триста тысяч юаней[2]. Понятно? Залог получишь обратно, если ничего больше не будешь сажать. Пойми наконец, что это не твоя земля, а господина У, у него бумага есть. Тягаться с ним тебе бесполезно, если даже сам начальник уезда будет на твоей стороне. Жена Ши Цина мгновенно сообразила, что речь идет о купчей. Спорить и в самом деле было бесполезно. Охваченная отчаянием, она заорала, пытаясь тем самым придать себе храбрости: — Я не наберу триста тысяч юаней, если даже продам всех моих детей! Тот, что был с бумагой в руках, грубо ее оборвал: — Не ори! Это только залог! А еще ты должна ежегодно платить за аренду пять доу[3] риса!.. Не дослушав, она завопила: — Это все едино, что заставить вола отелиться! Раскрой глаза, посмотри: разве на этой чертовой земле вырастет хоть одно зернышко? Пять доу риса? Лучше убейте меня! — Ну чего ты орешь? Перекричать, что ли, нас хочешь? Мы пришли тебя известить. Вот и все. — Человек с бумагой вдруг взорвался. — Не хочешь платить — убирайся, кто тебя держит! Тут вмешался второй, продолжая отгонять палкой собак. — Лучше всего уезжай! Что хозяйка, что собаки — злее не видал! Сунув ей в руки бумагу, они ушли, не оглядываясь. Женщина молча, с остервенением изорвала бумагу в клочки и швырнула им вслед. Спустя немного она взглянула на огород и промолвила с ненавистью: — Хотят, чтобы я отсюда ушла. Как бы не так! Десять лет надрывалась как вол. Пота вылила сотню ведер, не меньше! Все равно не уйду, хоть дубиной гоните! Одиночество больше не пугало ее, злые люди были страшней. Но она твердо решила не уходить из ущелья. Без малого десять лет живет она здесь; ей стали родными и горы, и лес, и речушка, особенно этот склон, который от зари дотемна она мерила босыми ногами. Круглый год зеленели здесь овощи, зрели тыквы и наливались соком разные фрукты, она была привязана к этой земле, как младенец к материнской груди, считала ущелье частью своего дома. Рубила на топливо один сухостой и живого дерева не касалась. Не хотела причинять боль этим единственным и постоянным соседям, к тому же так приятно было смотреть, как они растут прямо у нее на глазах. И речушка доставляла ей радость. Без нее вряд ли что-нибудь уродилось бы на склоне. В канун Нового года она всегда приходила на берег, жгла благовонные свечи и жертвенные деньги, чтобы от всей души поблагодарить духов. Когда в соседнем селении, где она продавала овощи, удивлялись величине ее помидоров и бобовых стручков, она радостно говорила: — Так земля у нас, что и говорить, плодородная, да и воду носить с реки сподручно! Но тут же, испугавшись, как бы другие тоже не переселились в ущелье, она хмурилась и печально вздыхала: — Только вот сорняки очень быстро растут, три дня не пройдет, смотришь — опять полоть надо! Хоть корову паси! Наша земля вдвое больше труда требует. Надоело, все силы высосала! И вот теперь ее хотят выгнать отсюда. Разве можно такое стерпеть? Она лучше с жизнью расстанется, чем уйдет из ущелья. Был бы дома хозяин, никто бы бранить ее не посмел. А одинокую женщину всякий обидит. «Но это мы еще посмотрим! — Она гневно тряхнула головой. — Я покажу вам, что такое женщина!» Палку, мотыгу, серп, топор — все это она держала у самого входа в дом. Пусть только сунутся, она их проучит: ее не запугаешь, не на такую напали! Работая на огороде, она то и дело распрямляла спину, чтобы передохнуть, а заодно и посмотреть, не идет ли по узкой тропинке по ту сторону речушки недобрый человек. Ведь ей надо успеть добежать до дому и приготовиться, чтобы не застигли врасплох. Иногда она отсылала детей на самый высокий холмик и просила старшего следить, не приближается ли кто-нибудь к их дому. Через несколько дней в ущелье появился какой-то старик. В хижине все переполошились. Не спуская глаз с пришельца, хозяйка с палкой в руках поджидала в дверях. Самый младший ребенок ревел, напуганный свирепым видом матери и злобным лаем собак. Старик приблизился, покрикивая на псов. Женщина не стала их отгонять, не приветствовала старика, не пригласила сесть. Он побагровел и буркнул: — Чего уставилась? Я не разбойник. У него и в самом деле не было никакого оружия, в руках он держал коротенькую трубку и с виду никак не был похож на бандита. Выражение ее лица несколько смягчилось, но беспокойство не прошло. — Вы кто? — Я староста, — строго сказал старик, удивляясь, что она его не хочет узнавать. — Пришел поговорить насчет земли господина У. Я знаю, он многовато запросил, но ты должна понять: добрых десять лет он не брал с вас ни медяка за аренду. Отдай он этот участок другому, давно получил бы все сполна. Он еще милостиво с вами обошелся. Я замолвил за тебя словечко, и он решил уступить. Залог — двести девяносто тысяч юаней, а арендная плата дань в новых мерах...[4] А, проклятые псы! Старик замахнулся трубкой и испуганно вскрикнул. Пока староста говорил, жена Ши Цина отгоняла псов. Из всего сказанного она уловила только слово «дань» и тут же закричала, будто ее укусила собака: — Это называется уступил? Какая же это, к черту, уступка! Старик сердито глянул на нее. — Да ты слушай хорошенько! Я же сказал: дань в новых мерах. Не зря говорят, что ты бестолковая! Услышала полслова и понеслась! — А хоть и новыми мерками, мне все равно платить нечем! — сердито возразила она. — Если б эти дохлые черти не забрали хозяина, тогда еще куда ни шло! Вы посмотрите: пять ртов, и каждый день им подавай еду, как мне одной управиться! — Ничего не поделаешь! — Старик посмотрел на ребятишек в грязных лохмотьях, покачал головой и вздохнул. — Земля-то чужая, хочешь не хочешь, а залог и аренду надо платить. Нет на свете такого закона, чтобы землей даром пользоваться. — Очень прошу вас, потолкуйте еще раз с господином У, — умоляюще произнесла она. — Уговорите его пожалеть нас. Вернется хозяин, что-нибудь придумаем. — А если не вернется, — сказал староста, — так и платить не надо? — Ой, пожалейте нас, добрый человек, не говорите таких страшных слов! — с болью воскликнула она. — Если он не вернется, что будет со мною и детьми? Старик отвернулся и сердито пробормотал: — Кто знает, что будет, время военное. — Но тут же, смягчившись, принялся ее утешать: — Ничего, бог поможет, авось и вернется! — Да сбудутся ваши слова! — благодарно ответила женщина. — Пусть бог нас услышит! Староста махнул трубкой и сказал раздраженно: — Ну, ближе к делу! Соглашайся на арендную плату. Будь послушной. Господин У не требует, чтобы ты сейчас заплатила. К концу года отдашь, и ладно. Значит, залог двести девяносто тысяч. Постарайся, придумай что-нибудь! — Он обшарил глазами хижину. — Можешь продать свинью и кур!.. — Так ведь это же поросенок, совсем маленький, жалко его продавать. Да и что за него выручишь? — В голосе ее звучало отчаяние. — Неужели у тебя нет сбережений? — удивился староста. — Разве школа вам ничего не дала, когда уезжала отсюда? — Ой, да вы сами посудите! — закричала она. — Когда школа уехала, Ши Цин остался без работы, цены росли день ото дня. Месяца не прошло, как от тех несчастных денег и медяка не осталось! А было бы хоть немножко, дети не исхудали бы так и не ходили в лохмотьях! Староста опять покачал головой и вздохнул. Со страдальческим выражением она потянула его за рукав. — Уговорите господина У пожалеть нас, не брать залог, а аренду я буду платить натурой: тыквами, бататом... — Ишь выдумала! — усмехнулся староста. — На кой ему это? Мясо и рыба и те приелись, зачем же ему твои тыквы или батат? Разве только свиней кормить! Не проси, стыдно мне ему такое сказать. Она тяжело вздохнула. — Неужто он и впрямь думает, что мои куры несут золотые яйца? — Уж очень он жаден до денег, — сочувственно проговорил староста. — Мог бы и не брать с тебя залога. Сын у него офицер, по нескольку раз в год деньги ему присылает. На ее измученном лице появилось презрение, и она бросила холодно: — Рассуди он так, я ему долгих лет пожелала бы! У старика был явно озабоченный вид; не переставая вздыхать, он собрался уходить. — Что я ему теперь скажу? Идти к нему с теми словами, что ты говоришь, все равно что раскаленный уголь на ладони нести... — А вы ему скажите: она, мол, что сухой бамбук, из нее масла не выжмешь! Не оборачиваясь, старик сердито буркнул: — Сама пошла бы к нему да сказала! В ваших делах сам черт не разберется! Она поняла, что господин У действовать силой не будет, раз прислал к ней старосту, чуть-чуть успокоилась и решила: впредь, с кем бы ни пришлось говорить, отвечать одно: «Залог внести не могу, а аренду буду платить тем, что родит земля». Надо встречать всех этих людей приветливее и радушнее, говорить самые жалостливые и просительные слова. Тогда, может быть, они смягчатся и замолвят за нее словечко, а от этого ей хуже не будет. Прежде всего она пригласит их зайти в дом, угостит чаем, покажет им свои корчаги, чтобы они сами увидели, как у нее мало зерна. Потом поведет их на огород. Чеснок взойдет только через месяц, а капуста и репа созреют к зиме. Сейчас, правда, уже есть батат... Если господин У захочет, она с удовольствием отнесет ему две корзины; если нет — пусть пеняет на себя, ее совесть будет чиста. Она во что бы то ни стало добьется правды. Пусть сам начальник уезда явится к ней — она и его не побоится. Дни шли, но в ущелье никто больше не приходил. На душе у нее стало спокойнее. Каждый день поливала она огород, уже появились нежные голубоватые ростки чеснока. Лук вытянулся, ярко-зеленый, глянцевитый, его можно было нести на базар. Капуста и репа (она все время оберегала их от прожорливых гусениц) росли день ото дня. Как только все это созреет, она обязательно угостит господина У, а потом, когда около хижины станут краснеть мандарины и желтеть апельсины, она отнесет ему несколько корзин. Пусть только господин проявит к ней милосердие, откажется от арендной платы и залога и не присылает своих людей, — а уж она в долгу не останется. Она оценит хорошее отношение, в знак признательности пошлет вкусные вещи, отблагодарит за добро. Она знала, что богатые не едят тыкву и батат, но от мандаринов, апельсинов и овощей вряд ли откажутся. Посылают же они своих слуг на рынок за фруктами и овощами! Она решила накануне Нового года — числа двадцать четвертого двенадцатого месяца, когда обычно готовятся всякие праздничные лакомства, — подарить господину У парочку жирных кур. Она тщательно осмотрела цыплят, когда кормила их гаоляном. Белянку нести не годится: белый цвет — цвет траура, а чернушки некрасивы — у них кожа темная. Наконец она выбрала пеструшек, желтых в черную крапинку, хотя куры этой породы неслись лучше... Однажды среди ночи жена Ши Цина проснулась от бешеного лая собак и тут же услышала оглушительный треск. В комнате, наполненной дымом, было светло. На кухне за стеной полыхало пламя. Она соскочила с кровати и хотела бежать к реке за водой, но, увидев, что огонь уже охватил крышу, торопливо стала вытаскивать одного за другим сонных детей, постель и одежду. Выпущенные из клетки куры улетели прочь, хлопая крыльями. Она вытаскивала вещи до тех пор, пока не загорелись волосы. Огонь в хижине ревел, прыгал, смеялся, бушевал жестоко и неумолимо. Листья на мандариновых и апельсиновых деревьях почернели. Когда огонь утих, в темноте над кучей тлеющих головешек все еще вспыхивали красные языки, подымался дым. Жена Ши Цина думала о своей хижине, которую долгие годы обстраивала и ремонтировала, о вещах, которые ей достались с таким трудом, о сгоревшем поросенке... и вдруг безудержно разрыдалась, изливая в слезах все обиды и страдания, пережитые ею за эти полгода. Наплакавшись, жена Ши Цина, не отрывая печальных глаз от пепелища, над которым еще вспыхивали огоньки и вился дым, отослала детей спать под мандариновое дерево. Она вспомнила, что огонь, на котором она вчера вечером готовила ужин, погас, еще когда она мыла посуду. Перед сном она, как обычно, подмела все вокруг очага, хворост и солому отложила подальше. Отчего же загорелась хижина? Чем больше она думала, тем больше удивлялась. Не иначе кто-то поджег. Неужели люди пошли на такое злодейство, чтобы выгнать ее? Она прилегла около детей и забылась ненадолго в тяжелом сне. Рассвело. Она увидела на пепелище обуглившегося поросенка, обгоревшую корчагу из-под соленых овощей, вместо продуктов пепел, вместо домашней утвари угли — и снова, не выдержав, заплакала. Мотыга, серп и топор пришли в негодность, не стало ведер, которыми она поливала овощи на огороде, — чем же ей теперь работать? Спать можно и под деревьями, а вот землю голыми руками не вскопаешь, травы не накосишь, овощи не польешь. Как быть? Можно было бы продать поросенка и на вырученные деньги купить ведро и мотыгу. Но поросенок сгорел. Куры... цыплят не возьмут, а продать одну-единственную несушку — много ли на выручку купишь? Подождать, когда поспеют овощи, продать их и купить самое необходимое, — но ведь придется ждать самое меньшее два-три месяца. А чем до тех пор кормиться? Собранный батат она хранила в хижине — в погреб еще не успела спустить, и он весь сгорел. Потеряно чуть ли не на полгода продуктов. Она содрогнулась. Теперь ей куда тяжелее, чем в тот раз, когда забрали хозяина. Оставшись без мужа, она могла взяться за работу, чтобы прокормить детей, теперь же они обречены на голодную смерть! Ничего не поделаешь. Она велела старшим детям стеречь вещи, которые успела вытащить из огня, посадила на спину маленького и побрела в селение жаловаться людям на свое горе. Слезы струйками катились по ее желтому исхудавшему лицу, когда она говорила о своем несчастье. Многие сочувствовали ей и помогали: кто давал деньги, кто одежду, кто рис. Одна пожилая женщина, хорошо ее знавшая, помогла ей донести до ущелья собранные вещи и продукты. По дороге жена Ши Цина рассказала о своих подозрениях и о том, что присланные господином У люди ей не раз угрожали. Женщина огляделась кругом, с испуганным видом потянула жену Ши Цина за рукав и зашептала: — Послушайся моего совета, уходи отсюда! Место глухое, а ты одна, они тебя... Ай-яй, уходи, и все тут! Жена Ши Цина помрачнела, долго молчала, потом проговорила : — Уйти! Чем же я с детьми буду жить? — Послушай, ведь жизнь дороже! — уговаривала женщина. — У них деньги, у них и сила, они на любое злодейство пойдут! Гнев и горе душили жену Ши Цина: — Да на что мне жизнь? Буду драться с ними насмерть! Женщина всплеснула руками. — Не дело ты задумала! Яйцом хочешь камень разбить? Случись с тобой беда, что будет с детишками? — Женщина помолчала и опять потянула ее за рукав. — А не вернуться ли тебе в родную деревню? Там ты родилась, выросла, все же легче устроиться! Жена Ши Цина тоскливо ответила: — В деревне у нас ни клочка земли. Иначе зачем бы мы здесь торчали? — А родни нет? — Вот уж десять лет с лишним никого не видала. Кто знает, живы они, нет ли. А если и живы? Вернешься, как нищая, за подаянием, они и смотреть на тебя не станут! — Хоть обижать не будут, пакостей делать! — Вот вы, тетушка, скажите, разве я смогу прокормить детей? Оставлю их без присмотра, буду батрачить, а пять ртов мне все равно не прокормить! Та только тяжело вздохнула. «Не уйду я с этой земли!» — твердо решила жена Ши Цина, когда женщина ушла. Она с теплым чувством смотрела на огород, где зеленели ее овощи, и душу ее постепенно обволакивала нежность. «Еще немного, и он спасет нас всех». Но тут ей снова пришла в голову страшная мысль: «А если они не отступятся и задумают погубить меня и детей?.. Ну что ж, умрем на этой земле... Сколько радости она принесла за эти годы!.. Пусть она, кормилица, и примет нас!» На душе стало спокойно, но тоскливо. Каждый день жена Ши Цина обгоревшим кувшином таскала на огород воду и поливала овощи. Ночью она спала с детьми под мандариновым деревом. О хижине теперь можно было только мечтать! Цыплят негде было держать, и их одного за другим перетаскали ласки и дикие кошки. Остались у нее только две собаки. Скоро ребятишки простудились, стали кашлять, а у самого маленького начался сильный жар, и он не брал грудь. Женщина была в отчаянии, не знала, как пережить эти тяжелые дни. Она часто обращалась с молитвами к бодисатве, умоляла его сотворить чудо, чтобы овощи, которые она посадила, созрели за одну ночь и на следующий день, продав их, она выручила бы много денег. Тогда она купила бы топор, пилу, серп, нарубила бы бамбук, нарезала бы тростник и соорудила на первое время хотя бы шалаш... Однажды ночью ее опять разбудил отчаянный лай собак. Она мигом вскочила, схватила лежавший поблизости камень и приготовилась к обороне. Время шло, но никто не появлялся, собаки лаяли где-то возле огорода. «Может быть, кто-нибудь ворует овощи. Но ведь они еще не созрели! Должно быть, с горы спустились хищные звери!» Она судорожно сжимала камень, подбадривала себя, охраняя пятерых крепко спавших ребятишек. Но на огород идти она не отважилась. Постепенно собаки утихли, в ущелье снова воцарилась тишина. На черном небе тускло мерцали бесчисленные мертвенно-бледные звезды. Жена Ши Цина не спала, она боялась, как бы детей не утащили в темноте дикие звери. Эх, если бы был рядом Ши Цин! Знай она, куда его увели, она вместе с детьми пошла бы к нему хоть на край света, вместо того чтобы сидеть в этом ужасном месте. На рассвете она побежала на огород. По следам можно было узнать, люди приходили или звери. Еще издалека она увидела, что все растения вырваны из земли и разбросаны по всему огороду. Отчаянию ее не было предела, словно она увидела своих детей мертвыми. Рухнула единственная надежда спасти семью от голода. Негодование душило ее. Конечно же, этих злодеев подослал господин У, и она, недолго думая, помчалась прямо к его дому, выкрикивая на ходу проклятья. В конце ущелья путь ей преградил неизвестно когда и кем поставленный частокол с калиткой. С одной стороны он примыкал к речке, с другой — к скале. Калитка была наглухо закрыта. Она с силой налегла на нее, но дверь не открывалась. Попытка перелезть через высокий частокол не увенчалась успехом. Тогда она схватила камень и стала им колотить в дверь. Вскоре прибежал какой-то парень и заорал: — Ты что делаешь?! Зачем ломаешь калитку? Она перестала стучать и потребовала: — Открой сейчас же, я хочу видеть господина У! Парень подбоченился и, надменно глядя в сторону, грубо спросил: — А зачем он тебе? Это привело ее в ярость. — Еще спрашиваешь? Хорошенькие дела он натворил! Повыдергал все мои овощи, поджег дом! Пусть мне за все ответит! — И она снова принялась колотить камнем в калитку, громко крича: — Открой, открой! — Взбесилась, что ли, стерва! — рявкнул парень. — Еще раз стукнешь — пристрелю! — И он схватил пистолет, висевший на поясе. — А ну, скажи, — заорал он, — видела ты своими глазами, как он выдергивал твои овощи и поджигал твой дом? Она испугалась. Перестала стучать. Но, увидев, что стрелять он не собирается, набралась храбрости и опять закричала: — Кто же тут еще может распоряжаться, кроме него! Один он такой вредный, такой бессовестный! — Ну ты, полегче! — понизив голос, пригрозил парень. — Услышит — в тюрьму упечет! — Пусть хоть голову отрубит — не боюсь, а тюрьмы и подавно! — Она опять принялась колотить камнем в калитку. — Открой лучше, не то дверь вышибу! Парень опять направил на нее пистолет: — Убью! Она выпятила грудь и исступленно крикнула: — На, стреляй, стреляй! Тот опустил пистолет и презрительно усмехнулся: — Стану я руки пачкать, как же! И ушел, не оборачиваясь. Она продолжала ругаться и колотить в дверь: — Собака, шлюхино отродье! Открой, говорю! Она долго стучала, до боли в руках, но дверь не поддавалась. Тогда она села перевести дух. Долго сидела. Наконец она поняла, что калитку ей не открыть. К тому же ей вспомнились слова парня о том, что она сама ничего не видела; сколько с господином У ни ругайся, хоть до суда дойди, все равно ничего не докажешь. В порыве ярости она готова была сразиться с ним насмерть. Но сейчас ей показалось это невозможным. Она окончательно пришла в себя, с жалостью подумала о детях. Что бы там ни было, их нельзя бросать, их надо вырастить, поставить на ноги. Материнская любовь горячей волной захлестнула все ее существо. Она медленно пошла домой. И опять перед ней предстало ужасное зрелище. Не было хижины, чтобы укрыться от ветра и дождя, нечего было ждать и от огорода, а главное — ее мучила неизвестность: что еще ей готовят эти злодеи. Оставалось одно: уйти отсюда. Куда? Она не знала. Чувствовала только, что лучше покинуть это место, тогда, может быть, ей удастся спасти детей от голодной смерти. Она собрала вещи, посмотрела на мандариновые деревья, на мушмулу, на персиковые и сливовые деревья на берегу речки, и ей неожиданно в голову пришла жестокая мысль: «Срублю эти деревья, чтобы не достались черепашьим ублюдкам!» Но тут она вспомнила, что топор сгорел и рубить нечем. Ей осталось только послать проклятье: — Пусть жрет, чтоб его понос прохватил! Чтоб лихорадка трясла! Жена Ши Цина повела детей на могилу свекрови, проститься. Едва сдерживая слезы, она прошептала: — Мама, я не могу больше здесь жить и ухаживать за тобой, придется мне вместе с твоими внуками идти по миру. Ты на том свете порадей за них, защити от болезней и страданий на долгом пути!.. За спиной она несла узел с постелью, на руках — младенца. Две старшие девочки тащили на палке котел, два младших мальчика шли налегке. Они шли вдоль речки прямо к селению. Позади бежали собаки. Жители селенья — те, кто подобрее — уже помогли ей однажды, а на этот раз не смогли ей ничего дать, только немножко покормили детей. На ночь жена Ши Цина с детьми устроилась под открытым небом на пустыре около автобусной станции. Она знала, что здесь ей ничего больше не удастся выпросить, и решила на следующий день идти в город. Утром они побрели по шоссе и на повороте опять увидели в ущелье то место, где жили. Ущелье было затянуто легким белым туманом. Утренние золотистые лучи солнца осветили сосновый лес на вершине горы. Фруктовые деревья на берегу и огород все еще утопали в тенистой мгле. — Мама, смотри, вон наш дом! — радостно закричали дети. Мать посмотрела в ущелье, но, чтобы не заплакать, быстро опустила голову. Дети продолжали ее расспрашивать: — Мама, а когда мы вернемся? Сдерживая слезы, она уверенно ответила: — Мы вернемся, когда мандарины и апельсины станут красными! — Мам, а куда мы идем? Она долго молчала, пока не придумала, что сказать: — Мы идем искать папу! Дети восторженно смеялись, с радостью говорили об отце. Мать не вытерпела: глаза ее наполнились слезами. Через некоторое время слезы высохли, на душе стало спокойней, радостный ребячий смех вселил в нее бодрость и энергию. Стиснув зубы, она подумала: «Будь что будет, но детей я выращу!»СКВОЗЬ СУМРАК
Горные вершины по ту сторону реки отбрасывают огромные тени на прибрежный песок, кое-где застилают ими мутную желтую воду, окрашивая ее в мрачный серый цвет. Река течет медленно, лодок совсем не видно, лишь несколько чаек, сверкая белыми крыльями, проносятся над водой и взмывают ввысь. По прибрежной дороге устало бредут двое, то спускаясь на песчаные отмели, то взбираясь на кручи. Высокого зовут Су Юэлинь. Ему восемнадцать лет, одет он в старую форму из черной диагонали, несколько пуговиц на груди расстегнуто, фуражка, защищавшая днем от солнца, сдвинута на затылок. Красное от долгой ходьбы лицо покрылось испариной, глаза широко раскрыты. Каждый раз, взобравшись на кручу, он замедляет шаг и окидывает взглядом реку. За рекой в лучах заходящего солнца четко вырисовывается горная гряда, бирюзовые леса, иссиня-черные скалы и вьющиеся пепельно-белые тропинки; на склонах далеких гор — распаханная земля, в густой зелени притаилось несколько бурых хижин, от которых в ясное голубоватое небо тянутся струйки белесого дыма — пришла пора ужинать. Су Юэлинь вздохнул. С утра у него во рту не было ни крошки. Внезапно за крутым поворотом горной дороги открылась восхитительная картина: на широком водном просторе, озаренном вечерним солнцем, бесчисленными золотыми чешуйками поблескивала мелкая рябь. Но красота природы не радовала Су Юэлиня, и он упавшим голосом пробурчал: — Черт знает что! Ни одной лодки! Ли Босин, так зовут второго, идет вслед за Су Юэлинем на расстоянии нескольких шагов. Он мал ростом, но сложения крепкого, лет ему не больше девятнадцати, хотя из-за землисто-серого цвета лица выглядит он на двадцать с лишним. Он идет медленно, плотно сжав губы. На нем такая же форма из черной диагонали, застегнутая на все пуговицы, только изрядно поношенная и вылинявшая. Фуражка сидит прямехонько. В руке у него вместо трости зеленая ветка. Он не вздыхает, не выглядит удрученным, лицо его пышет гневом, будто он собирается с кем-то драться. Слова Су Юэлиня он пропустил мимо ушей и стал внимательно разглядывать реку. Су Юэлинь как будто еще больше сник, тело его обмякло. Он опустился на камень, снял фуражку, бросил ее на землю прямо у ног и, не скрывая горечи, проговорил: — Когда государя Чу[5] прижали к реке Уцзян, за ним хоть приехал рыбак на лодке! Ли Босин продолжал стоять, непрерывно глядя на реку. Дикие утки небольшими стайками сели на воду. Потом, взмахивая рябыми крыльями, неуклюже пролетели над рекой и скоро рассеялись среди волн, превратившись во множество черных точек, вкрапленных в красноватое золото реки, озаренной последними лучами солнца. Глядя на уток, Су Юэлинь снова вздохнул. — Смотри, сколько их! Хорошо бы хоть одну прихлопнуть! Но что сделаешь голыми руками! Жалкие мы люди. У Робинзона на необитаемом острове хоть нож и ружье были. Что же теперь с нами будет, а? Ли Босин обернулся и с досадой сказал: — Не пропадем и с пустыми руками! Плавать умеешь? — Умею, а что толку? Река тут вон какая широкая, разве ее переплывешь? — нахмурившись, покачал головой Су Юэлинь. — Я все же думаю поискать место для переправы, — заявил Ли Босин и пояснил: — Где река шире, там она, значит, и мельче — можно перебраться. — Ну и перебирайся! — уперся Су Юэлинь. — Столько прошли, а весь день ничего не ели! Мне плыть не под силу! — Не под силу? Тогда нечего было храбриться, — сказал Ли Босин. — И это в первый же день. Ненадолго тебя хватило! — Плыви сам! — раздраженно, не скрывая насмешки, бросил Су Юэлинь. — А я пошире открою глаза да полюбуюсь на такого героя. Ли Босин молча начал спускаться к воде, расстегивая на ходу одежду. Су Юэлинь знал непреклонную решимость и упорство Ли Босина — что скажет, то и сделает. Если бы не он, Су Юэлинь учился бы в большом городе и никогда не рискнул бы забраться так глубоко в горы — может быть, в это самое время играл бы на спортивной площадке в баскетбол. И вот теперь, когда он увидел, что Ли Босин действительно собирается переплыть реку, чувство собственной беспомощности вызвало в нем такую тревогу, что даже похолодело сердце. Ли Босин вошел в воду и поплыл. Фонтаны брызг, взлетая в воздух, серебрились в косых лучах заходящего солнца. «Скотина! — со злостью подумал Су Юэлинь. — Сам подбил меня с ним идти, а теперь, при первой опасности, бежит один, спасая собственную шкуру. Бессовестная тварь! Разве бросают друзей?» Су Юэлинь посмотрел на темно-синий утес, вздымавшийся позади него прямо к небу каменной стеной. Громадные выступы на нем, казалось, вот-вот обрушатся, местами зияли впадины, похожие на отверстия глубоких пещер. Повсюду из расщелин тянулась поросль, напоминавшая шкуру исполинского чудовища. Весь в сиреневых бликах и вечерних тенях, утес казался зловещим. Су Юэлинь невольно почувствовал страх, вскочил на ноги и направился к воде, торопливо расстегивая пуговицы и с ужасом думая: «Нет, я не могу здесь оставаться один!» Но после непродолжительного отдыха он вдруг почувствовал слабость в ногах и легкое головокружение. Между утесом и песчаным берегом широкой полосой пролегли валуны. Идти по ним было трудно. Су Юэлинь оступился, упал и расшиб себе в кровь ладонь и голень. Он долго барахтался на земле, а когда поднялся, в глазах у него блестели слезы. Су понял, что через реку ему не перебраться, однако разделся и вошел в воду. Почти с самого полудня они шли вдоль берега реки и все время искали лодку, пока наконец не потеряли всякую надежду ее найти. Может быть, Ли Босин прав; чтобы остаться в живых и подальше уйти от опасности, следуетдействовать решительно. Сегодня утром они так и поступили. Их спутник по имени Сюэ Фужэнь спустился с горы в поселок. Они условились, что будут ждать его в лесу, но если за час он не вернется, покинут это место и быстро переправятся через реку. К несчастью, именно так все и случилось. Сюэ Фужэнь не вернулся. Они почувствовали себя в сетях страшной опасности, которая, казалось, плотным кольцом сжимает со всех сторон лес. Ли Босин решил немедленно выполнить наказ Сюэ Фужэня: быстро перевалить через горы и выйти к реке. Су Юэлинь со слезами умолял подождать товарища и не соглашался уходить из леса. Он надеялся, что Сюэ Фужэнь вот-вот вернется. Но Ли Босин не позволил ему остаться, потащил за собой. Это было слишком жестоко. Ли Босин еще упрекнул его тогда: — Если можешь его спасти, оставайся! Он понял, что иного выхода нет, и уныло поплелся за другом. Сначала он поминутно оглядывался, горя желанием увидеть знакомую фигуру, взбирающуюся на гору. Но потом потерял всякую надежду на благополучный исход. Ему стало казаться, будто по эту сторону реки их на каждом шагу подстерегает беда. Еще тревожнее становилось на душе, стоило ему вспомнить о страшной участи, постигшей его товарища, который ушел в поселок. Как знать, может быть, и их сейчас преследуют по пятам. Он ускорил шаг и даже принялся упрашивать Ли Босина идти побыстрее. Но за добрых полчаса они не встретили никого, кроме дровосека, в мгновение ока скрывшегося за склоном, и Су Юэлинь понемногу стал успокаиваться, однако всю дорогу его терзало чувство раскаяния и горького разочарования. Порой он сердился на Ли Босина, несколько раз препирался с ним. Су Юэлинь медленно снял куртку и в одних брюках подошел к реке, но, взглянув на руку, из которой сочилась кровь, не решился войти в воду. Он отыскал глазами Ли Босина. Тот уже переплыл половину реки; еще немного — и он выберется на противоположный берег, где будет избавлен от всяких опасностей. Чем больше Су Юэлинь думал об этом, тем несчастнее чувствовал себя и тем сильнее негодовал на Ли Босина. Он считал, что со своим товарищем они поступили бессердечно, бросив его на произвол судьбы. Но Ли Босин думал иначе, ведь товарищ сам велел им так поступить, к тому же их к этому принуждала тревожная обстановка. Они и сейчас еще не в безопасном месте, но все же враг их не преследует по пятам, кругом тихо, спокойно. А он, Ли Босин, с такой легкостью бросает товарища. Какая жестокость! Они оба борются за общую идею, а потому должны помогать друг другу, идти рядом плечом к плечу. Целых три года они вместе учились в школе, дружили, уже это обязывает в трудный момент протянуть руку помощи. Су Юэлиню на память пришла древняя поговорка о неверных товарищах: «Коль радость — так вместе, коль горе — так врозь», и он сразу же почувствовал глубокое разочарование в своем друге. Незавидное положение заставило его призадуматься, и по щекам опять покатились слезы. Он мысленно перенесся на далекую родину, вспомнил мать и сестренок, которых, быть может, никогда не увидит, и на душе стало еще тяжелей. Здесь хоть можно поплакать — место безлюдное. Настоящий герой, считал Су Юэлинь, не должен выставлять напоказ свое горе, лучше уйти в глухие горы или дикие степи и там излить свою скорбь. Но не успел он наплакаться вволю, как увидел, что Ли Босин плывет обратно. Су Юэлинь быстро вытер предательские слезы и зло уставился на подплывавшего Ли Босина. Выбравшись на берег и стряхнув с волос капельки воды, тот дружелюбно крикнул Су Юэлиню: — Быстрей одевайся! Здесь не переплыть: есть место, где течение слишком сильное. Надо придумать что-то другое! Э... да у тебя кровь на руке? Су Юэлинь молча отвел глаза; заботливость друга еще сильнее ожесточила его. Изумленный и озабоченный, Ли Босин, смахнув с себя капельки воды, внимательно поглядел на товарища, затем улыбнулся и негромко спросил: — Сердишься? Неужели ты и вправду подумал, что я могу бросить друга? Смешно! Я просто хотел проверить, можно ли здесь перебраться. Су Юэлинь скривил губы, а затем многозначительно хмыкнул, давая этим понять, что он давно раскусил товарища. — Думаешь, я лгу? — поспешил оправдаться Ли Босин. — Ведь мы не один год дружим, мог ли я тебя бросить в беде? — Теперь, когда тебя вывели на чистую воду, тебе только и остается, что прикинуться простачком, — возмущенно сказал Су Юэлинь. — Но меня не проведешь, я не ребенок. — Сам не знаешь, что говоришь, — с горечью ответил Ли Босин. — Не понимаю, почему ты так плохо обо мне думаешь! Су Юэлинь опустил голову, как бы давая понять, что разговор окончен. Ли Босин поглядел на него и вздохнул. — Сейчас, когда нам и без того тяжело, ссориться ни к чему. Если я тебя чем-то обидел, прости! — Простить? — вне себя от злости вскричал Су Юэлинь. — Не надо было обманывать! — По-твоему, я собирался тебя обмануть? Знаешь, это уж слишком несправедливо! — У Ли Босина в сердце закипал гнев, ему было тяжело оттого, что друг неправильно его понял. — Несправедливо! — передразнил его Су Юэлинь и, отвернувшись, добавил: — Будь здесь течение не такое сильное, небось давно переплыл бы на другой берег и не надо было бы придумывать глупые оправдания! — Ты не прав! — крикнул Ли Босин. — Взгляни, вон мои вещи! — И он показал на свою одежду, лежавшую в сторонке на песке. — Если бы я хотел уйти один, неужели я не захватил бы с собою штаны? Удивительно! И зачем бы я стал так торопиться? Гнались за нами, что ли? Су Юэлинь покраснел, еще ниже опустил голову и не произнес больше ни слова. Ли Босин быстро оделся, обулся, подошел к другу и, как бы советуясь с ним, сказал: — Я думаю, сегодня нам через реку не перебраться, лучше уйти в горы, может быть, там набредем на какую-то деревушку, раздобудем еды. Су Юэлинь не шелохнулся, не проронил ни звука. Ли Босин потянул его за руку: — Видишь, поздно уже, пошли скорее! Су Юэлинь покачал головой. — Ступай один! Я останусь здесь! — Разве моя одежда не доказательство? Почему ты все еще сердишься? — с горечью спросил Ли Босин. — Я сержусь на самого себя! — холодно возразил Су Юэлинь. — Ну, полно тебе. Зачем зря расстраиваться? Пошли, скоро стемнеет! Он решительно взял Су Юэлиня за руку и увлек его за собой. Двое продолжали свой путь вдоль реки, но она их больше не интересовала; они всматривались в горы. Скоро на склоне показалась узкая крутая дорожка, петлями уходившая в сторону леса. При мысли, что придется лезть на такую высоту, обоим стало не по себе. Но день угасал, надо было немедля подыскивать ночлег. Ли Босин решил не мешкая уходить в горы. Су Юэлинь колебался: — Можешь ли ты поручиться, что мы найдем там жилье? — Я думаю, что по этой дороге мы выйдем к деревне! — твердо заявил Ли Босин и стал взбираться по склону. — Каждая дорога ведет обычно к жилью, но откуда ты знаешь, что оно близко? А если до него двадцать или тридцать ли? — Су Юэлиню явно не хотелось взбираться на гору, но оставаться здесь было боязно. — Жилье близко, — убежденно ответил Ли Босин. — Во-первых, здесь дорога узкая: было бы далеко, дорога была бы шире. Су Юэлинь хмыкнул: — Горная дорога — это не большак на равнине, кто может сказать наверняка? — Передохни пока здесь, а я поднимусь выше и посмотрю! — предложил Ли Босин, чтобы успокоить друга. — Темнеет уже, кому охота тут рассиживаться! — тоскливо ответил Су Юэлинь. По обеим сторонам дороги тянулись низкорослые колючие кустарники, попадались и деревья, над головами путников проплывали густые зеленые ветви. Река то скрывалась за отвесными скалами, то появлялась снова, освещенная последними лучами заходящего солнца; из золотисто-желтых волны становились фиолетово-красными. Казалось, река понемногу суживается, не стало слышно и шума воды. Зато все чаще слышался шум сосен, приносимый вечерним ветерком с вершины хребта. Совсем низко летали стаи птиц. Взбираться по склону было не так-то легко. Ли Босин, шел, напрягая все силы, то и дело вытирая пот со лба. Су Юэлинь плелся сзади и все время отставал. Заметив это, Ли Босин прислонился к скале и ждал, пока тот не поравняется с ним. Су Юэлинь остановился, перевел дух и проворчал: — Не может быть, чтобы жилье было близко! Видя, что друг совсем приуныл, Ли Босин решил его приободрить. — Кто стремится чего-то достичь, не должен падать духом; должен действовать решительно и смело, только так можно добиться успеха! — Все это верно! — согласился Су Юэлинь, но тут же по привычке возразил: — Только я полагаю, что лучше действовать наверняка. Иначе поражение неизбежно. — Ну и пусть неизбежно, — спокойно проговорил Ли Босин. — Мы молоды, нам ли бояться поражений? — А это мы еще посмотрим, кто боится! — ледяным голосом произнес Су Юэлинь и замолк. — Есть хорошая пословица: поражение — мать победы, — сказал Ли Босин и начал опять взбираться в гору. Солнце зашло, небо потускнело. Лес, который еще недавно был ясно виден, стал постепенно терять очертания, расплываясь в темноте. Откуда-то снизу медленно потянулся туман. Скоро на темно-голубом небе проступили первые звезды. Дорожка привела путников в сосновую рощу. Мрак все сгущался. Здесь, в этом безлюдном месте, стояла мертвая тишина. Стараясь ободрить друга, Ли Босин тихонько запел. Су Юэлинь, не скрывая раздражения, прервал его: — Прошу тебя, не пой! — Почему? — Не надо тревожить зверей. — Каких зверей? Тигров и леопардов? Я думаю, здесь их нет. Сказав так, Ли Босин тем не менее перестал петь. Он, разумеется, ничего не боялся, просто решил уступить другу. Дорога в лесу затерялась в темноте. Вдруг Ли Босин остановился и негромко сказал: — Подожди, дай я послушаю! — Что-нибудь слышишь? — испуганно спросил Су Юэлинь. — Нет! Хотел послушать, не лает ли где собака! Где собака, там непременно жилье! — Какое может быть жилье в этом дьявольском месте! — вздохнул Су Юэлинь, но на сей раз упрекать друга не стал. — Давай посидим, луна взойдет, тогда пойдем дальше! — предложил Ли Босин. В лесу тихо-тихо, ни малейшего дуновения, лишь изредка белка уронит вылущенную сосновую шишку или взмахнет крыльями птица. Там, где редеет лес, можно увидеть в звездном мерцании глубокое небо, нависшее над черной вершиной. Вот за горой стало светлеть, звезды побледнели, медленно выплыла ущербная луна. Деревья сразу засеребрились и отбросили на влажную землю узоры из света и тени. Стала видна дорога. Ли Босин поднялся и снова зашагал вперед. Пришлось Су Юэлиню последовать за ним, через силу передвигая усталые ноги. За перевалом они стали спускаться в долину. Послышалось журчанье горного родника. У подножья горы в лунном свете стлался легкий туман. Все чаще и чаще доносился аромат апельсинов и мандаринов. — Теперь уже недалеко до жилья, — обрадовался Ли Босин. — Откуда ты знаешь? — недоверчиво спросил Су Юэлинь. — Запах слышишь? — Ли Босин глубоко втянул в себя воздух. — Держу пари, это наверняка из садов. — Разве в горах нет диких деревьев? — холодно спросил Су Юэлинь. Ли Босин засмеялся: — Почему ты всегда настраиваешь себя на худшее? — Потому что не хочу быть безрассудным оптимистом! — обозлился Су Юэлинь. Сдерживая улыбку, Ли Босин продолжал: — Не стану спорить о безрассудности, но человек обязательно должен быть оптимистом! И мне не хочется, чтобы ты предавался беспричинному пессимизму! — Беспричинному? — не выдержав, закричал Су Юэлинь. — Скитания, голод, глубокая ночь, да еще голову приклонить негде. Или все это плод моего воображения? Некоторое время Ли Босин шел молча, чтобы дать другу успокоиться, потом негромко, но уверенным тоном заговорил: — Голод, скитания... Ну и что! Это всего лишь два обязательных предмета, которые мы, молодые, должны пройти в школе жизни. К тому же предметы самые легкие! Су Юэлинь усмехнулся: — Посмотрим, что ты скажешь завтра или послезавтра!.. Ли Босин хотел было ответить, но вдруг совсем рядом раздался грубый окрик: — Кто идет? Друзья оторопели. Окрик явно относился к ним. — Отвечайте, не то буду стрелять! Ли Босин громко ответил: — Мы мирные граждане! Прохожие! — Мирные граждане? Черт вас побрал бы!.. — В ответ посыпалась брань и смешки. — Руки вверх! — громко скомандовал другой голос. Едва Ли Босин и Су Юэлинь подняли руки, как к ним подскочили два парня с винтовками. Один направил дуло на Ли Босина, другой обыскал Су Юэлиня. Разглядев при свете луны, что оба парня в военной форме, Ли Босин растерялся, но тут же взял себя в руки. Он слышал, как у его друга стучат зубы от страха. Когда обыскивающий принялся шарить по карманам Ли Босина, парень с винтовкой наперевес направил ее в грудь Су Юэлиня. Обнаружив у Ли Босина деньги, тот, что обыскивал, повертел их в руках и засунул обратно. — Из какой части? — сердито спросил он. — Мы не солдаты, мы ученики, — быстро ответил Ли Босин. Обыскивающий не поверил и сурово переспросил: — Ученики? Что тут делать ученикам? — Идем на каникулы домой, но сбились с дороги! — поспешил ответить Ли Босин. — Связать их, и все тут! Нечего расспрашивать, — гневно предложил другой, опуская винтовку. — Ясно, кто они! Когда парни достали веревку, Ли Босин попросил: — Не связывайте нас, служивые, мы сами пойдем! Но его не послушали. Им скрутили за спиной руки и под конвоем повели в деревню. Огибая гору над глубоким ущельем, дорога, залитая лунным светом, временами полого уходила вниз. На склоне, освещенном луной, спокойно и мягко поблескивали листья на деревьях. Противоположная гора заслоняла от луны поросшее кустарником и погруженное во мрак ущелье. Журчание ручья, доносившееся снизу, казалось особенно звонким в ночной тишине. По склону, поросшему бурьяном, скользили четыре косые тени. Порой они как бы растворялись в тени деревьев, и лишь лунные блики изредка падали на одежду путников. Су Юэлиню в жизни не приходилось испытывать ничего подобного; сейчас его ведут как разбойника, кто знает, может быть, потом их будут истязать плетьми, сажать на «тигровую скамью», лить воду в нос, загонять под ногти иголки, вешать на спину раскаленные докрасна банки из-под керосина. От этой мысли кровь заледенела в жилах. Новую жизнь он представлял себе совсем иначе — думал, что будет писать на полосках бумаги лозунги, расклеивать их на полуразрушенных глинобитных стенах, произносить пламенные речи над морем голов в крестьянских повязках. Он мог бы наконец взять винтовку и стрелять до последнего патрона. Теперь же он был как ягненок, который, не успев отойти от овчарни, сразу попал в беду. Такого прискорбного конца он никак не ожидал. Ли Босин, напротив, считал, что современному молодому человеку не избежать подобных неприятностей, и потому страха не испытывал. У него была припасена справка из школы о том, что их отпустили на каникулы. Прочитав ее, каждый мог убедиться, что они возвращаются домой на побывку. Они будут смело смотреть людям в глаза и выдержат любые испытания. Чего бояться? Он пытался завести разговор с конвойным, поинтересовался, из какой они части, давно ли здесь стоят, можно ли в горах что-нибудь купить по сходной цене. Но парни на вопросы не отвечали, лишь изредка покрикивали: — Пошевеливайся! Не болтать! — Братцы, зачем так-то? — улыбаясь, говорил Ли Босин. — Мы вас не обидели, ничем вам не досадили! Неплохо бы нам вместе поужинать. Если здесь есть харчевня, у меня нашлось бы, на что угостить вас чаркой-другой вина! Один из парней с издевкой произнес: — Подожди чуток, будет тебе и вино. Боюсь только, не по нутру придется! Парни не поддавались, и Ли Босин, грустно вздохнув, замолчал. Су Юэлинь до глубины души возненавидел друга. Ему казалось, что все беды в этот вечер навлек один Ли Босин. Останься они у реки, пришлось бы, конечно, поголодать, зато они были бы на свободе. Странный человек, всегда действует наобум. Услышав, как парни осадили друга, Су Юэлинь несколько раз повторил про себя: «Так ему и надо! Поделом!» Но это мелкое злорадство не развеяло его горьких дум. Он злился и на себя: надо было остановить Ли Босина, не дать ему поступить безрассудно. Чего ради пошел он за ним на этот ненужный риск? Сам виноват! Нечего плестись за другими, словно тебя за нос тянут, своим умом надо жить. «Ничтожное я существо!» Вскоре дорога, свернув в сторону, вышла на равнину. Несмотря на туман, в лунном свете можно было разглядеть кукурузное поле: кинжаловидные стебли поднимались выше человеческого роста. Ручей по-прежнему жался к дороге, вода текла неторопливо, с тихим плеском. Гора по ту сторону ручья до самой вершины густо поросла елями, но лунный свет их как будто не коснулся, они казались такими же черными. Крепчал аромат цветущих апельсиновых и мандариновых деревьев. Вскоре запахло дымом очага. Через некоторое время почти у самого основания противоположной горы в неярких лучах луны показались стройные ряды мрачных хижин. Два больших дерева у самого входа в одну из хижин отбрасывали на ее крышу густую тень. — Кого-нибудь задержали? — крикнул часовой у дверей. — Двоих! — весело ответил один из конвоиров. Навстречу вышли несколько человек в обычной одежде, только с винтовками. Кто-то спросил: — Всех задержали? Или кто-нибудь убежал? — Все налицо, — бодро доложил конвойный. Другой конвоир, указывая на Ли Босина, добавил: — А за этим молодчиком в оба смотрите, он пытался нас подкупить! Ли Босина и Су Юэлиня втолкнули в темную тесную комнатушку. Сквозь решетчатое оконце на пол падала полоса лунного света. Спустя немного они обнаружили, что пол вдоль стен устлан рисовой соломой. Ли Босин потянул Су Юэлиня за руку, усадил рядом с собой и начал тихонько утешать: — Не бойся, у них нет улик против нас! Су Юэлинь молча отвернулся. — Когда станут допрашивать, — продолжал шептать Ли Босин, — покажем увольнительную из школы! Чего бояться? — Нужна им увольнительная! — огрызнулся Су Юэлинь. — Все равно они нам рта не заткнут, как бы с нами не обращались! — воскликнул Ли Босин. — Ты их недооцениваешь, — сердито произнес Су Юэлинь. Ли Босин хотел успокоить друга, но, увидев, что это бесполезно, решил прекратить разговор. Неожиданно в комнатушку откуда-то проник густой аромат варящегося в котле риса. Случись это где-нибудь в дороге, они непременно глотали бы слюнки, но теперь забыли даже о голоде: самая вкусная еда вряд ли пошла бы им сейчас в горло. Су Юэлинь продолжал в душе проклинать друга за безрассудство, а себя за малодушие; потом он подумал, что его в любую минуту могут подвергнуть пыткам, и перед глазами поплыли круги. Ли Босин, напротив, старался спокойно все обдумать, готовил самые убедительные ответы на всевозможные вопросы, чтобы отвечать на допросе уверенно, без запинки. «Плохо обстоит дело с Су Юэлинем, — размышлял он. — Выговор у него нездешний. Как скажешь, что он местный житель?» — Произношение у тебя нездешнее, — шепнул он Су Юэлиню. — Так что они наверняка спросят, почему ты на каникулы собрался в эти края. Это надо хорошенько обдумать... Не дав другу договорить, Су Юэлинь вскипел: — Черт бы их побрал. Что мне за дело до их вопросов, пусть расстреливают! Ли Босин опять принялся его успокаивать: — Не говори так! Надо быть готовым к любому вопросу. Можешь сказать, что твой отец учительствует в моей деревне, и ты идешь повидаться с ним; или, еще лучше, что он преподает в уездной средней школе. — До вашего уезда слишком далеко, — возразил Су Юэлинь. — Так что нас наверняка спросят, почему мы оказались здесь, на этом берегу реки? — Тише, за дверью кто-то есть... Но ведь можно сказать, что мы зашли сюда по пути! — шепотом произнес Ли Босин. — Дорога в твой уезд по ту сторону реки, — покачав головой, сказал Су Юэлинь. — Почему тогда мы не поехали на машине, а петляли вдоль реки, да еще забрались в эти горы? Не так они глупы, как ты думаешь! — А разве нельзя сказать, что мы зашли сюда навестить школьного товарища? — Тогда тебя спросят, кто твой товарищ, его имя, фамилию, где живет. Что, назовешь Сюэ Фужэня? Вот и нарвешься сразу! — Последние слова Су Юэлинь произнес в крайнем раздражении. Ли Босин потер рукой лоб и негромко ответил: — Ничего, попробуем сказать так... Едва он замолк, как дверь неожиданно открылась. У порога, освещенного луной, стояли двое с винтовками в обычной крестьянской одежде. Один из них строго произнес: — Выходи! Ли Босин вздрогнул, но тут же успокоился и второпях шепнул на ухо Су Юэлиню: — Отвечай, как договорились! Затем проворно поднялся и шагнул к выходу. Су Юэлинь с замирающим от страха сердцем машинально последовал за ним. Наставление Ли Босина ему не понравилось. «Проклятье, ведь это значит выдать себя с головой!» — думал он. Но ничего лучшего придумать не мог, и это больше всего его мучило. Раньше он что-то доказывал, спорил, сейчас же его лишили даже возможности вымолвить слово, он вынужден, как баран, смирнехонько тащиться на бойню. От досады на глазах у него выступили слезы. В помещении, куда их ввели, горела лучина и сильно пахло сосновой смолой. За старым, замызганным столом сидел крепкого телосложения лысый мужчина с лицом цвета старой меди, в серой офицерской гимнастерке, но без погон и петлиц. Ясным, пронизывающим взглядом он посмотрел на задержанных. — Кто вы? — спросил он. Ли Босин объяснил, что они учащиеся, и показал увольнительную из школы. От слов «учащиеся» и «увольнительная» лысый офицер заметно подобрел, но все еще пристально всматривался в Ли Босина и Су Юэлиня, словно пытаясь заглянуть им в души. Негромким голосом он спросил: — По выговору слышно, что вы нездешние, почему оказались в этом районе? Су Юэлинь обомлел. Уж если в речи Ли Босина этот человек уловил акцент, видимо, он хорошо знает эти места и провести его будет не так-то легко. Однако Ли Босин уверенно, без боязни ответил, что они пришли сюда повидать школьного товарища. Су Юэлиня бросило в жар: этого объяснения он боялся больше всего. — Как зовут вашего товарища? — сразу же спросил офицер, продолжая внимательно следить за выражением лица Ли Босина. Тот с невозмутимым видом, без тени волнения произнес вымышленное имя. — Где он живет? — В Тайхэчане. — Не задумываясь, Ли Босин назвал район, где жил Сюэ Фужэнь. — В районном центре или в деревне? — В деревне. — Как она называется? — Э... Жэньхэсян, — чуть замявшись, ответил Ли Босин. — Разве есть такая деревня? — Офицер округлил глаза, на лице его отразилось сомнение. — Может быть, я запамятовал, — поспешил отговориться Ли Босин. Офицер отрывисто бросил часовому: — Позови-ка сюда товарища Сюя! У Су Юэлиня бешено забилось сердце, казалось, оно сейчас выскочит из груди. Чтобы не выдать своего волнения, Ли Босин закусил нижнюю губу. Офицер продолжал внимательно наблюдать за ними, видимо заподозрив во лжи. С высоко поднятой головой в комнату быстро вошел юноша лет двадцати, в крестьянской куртке, с открытым мужественным лицом. Не успел он войти, как офицер тут же спросил: — Есть у вас деревня Жэньхэсян? Юноша, которого назвали Сюем, посмотрел на допрашиваемых и, забыв про вопрос, обнял одной рукой Ли Босина, другой Су Юэлиня и радостно воскликнул: — Ха-ха, это вы? Как вы нас нашли? Затем, быстро повернувшись к офицеру, сказал: — Освободи их, свои люди! Офицер встал, пожал им руки и извиняющимся тоном произнес: — Что же вы молчали? Наши ребята приняли вас за... — Кто вас заставил напялить на себя эту форму, к тому же мы думали, что вы в Тайхэчане... — смеясь, ответил Ли Босин. Юноша взял за руку Су Юэлиня и с восхищением посмотрел на него. — Молодец! Побелевшее было лицо Су Юэлиня залилось краской, в эту счастливую минуту он, видно, почувствовал стыд. Обернувшись затем к Ли Босину и офицеру, Сюй торжественно возгласил: — Надо обязательно отметить такую неожиданную встречу! — Верно, пусть оправятся от испуга! — весело поддержал офицер. Но Ли Босин возразил: — Нельзя нам праздновать, случилась большая беда! И он с горечью рассказал, что Сюэ Фужэнь ушел в Тайхэчан и не вернулся. Офицер и Сюй склонили головы, их лица и взоры выражали уже не радость, а гнев и скорбь. Свет лучины понемногу тускнел, из далекого ущелья доносилось журчание ручья. Растроганный до глубины души Су Юэлинь подумал: «Должна ли молодежь в эту эпоху испить величайшую радость и глубочайшую скорбь?.. Да, должна! Это и есть прекрасное вино жизни!» —и, взглянув на стоявших перед ним крепких, стройных людей, решил: «Они пьют это вино! Отныне и я смело подниму свою чашу!»Чжао Шули
Чжао Шули (1906—1970) — китайский писатель. Родился в уезде Циньшуй провинции Шаньси в бедной крестьянской семье. Учился в провинциальном педагогическом училище. Художник во многом традиционный и в то же время вполне современный, талантливый и оригинальный, он пришел в китайскую литературу начала 40-х годов человеком зрелым, уже поработавшим и народным учителем, и актером передвижного театра, и руководителем волостного народного управления, и журналистом, закаленным в горниле революционных боев коммунистического подполья, прошедшим через испытания гоминьдановских застенков. Первыми произведениями Чжао Шули были песни, направленные против милитаристов. Затем последовали рассказ «Женитьба Маленького Эрхэя» и повесть «Песенки Ли Юцая» (1943), написанные в традициях народного романа. Уже в них в творческой манере автора ощущается многое от народных сказителей — и живость повествования, и сочный язык, и неизбывный юмор. Но юмор, добродушная ирония неизменно сочетаются с ненавистью к силам зла, терзавшим китайскую деревню. В рассказах «Мэн Сянъин начинает новую жизнь» (1944), «История Фугуя» (1946), «Регистрация брака» (1950), в повести «Перемены в Лицзячжуане» (1946; русский перевод — 1949), в романе «Деревня Саньливань» (1955; в том же году переведен на русский язык), отмеченных реализмом, глубиной наблюдений и художественным мастерством, Чжао Шули пишет о серьезных преобразованиях в китайской деревне, о том, что пришло в нее с революцией, с провозвестниками нового — коммунистами. В центре внимания писателя — человек, перемены в его нравственном облике и психологии, в отношении к труду и обществу. В числе последних произведений писателя — рассказы «Закаляться, закаляться надо» (1958), «Руки, не привыкшие к перчаткам» (1960), «Взаимопроверка» и «Чжан Лайсин» (в русском переводе — «Крепкая кость»; 1962). В 1964 году Чжао Шули вместе с другими известными писателями, выступившими за углубление реализма в литературе, с требованием следовать правде жизни в творчестве, был обвинен в попытке «извратить действительность», дегероизировать китайскую литературу. С началом «культурной революции» популярнейший в Китае художник слова, депутат Всекитайского собрания народных представителей, старый, заслуженный коммунист подвергся необоснованным репрессиям и в мае 1967 года погиб в маоистском застенке. Рассказ «Регистрация брака» — одно из лучших произведений Чжао Шули. Нельзя, однако не отметить, что в решении заключительных эпизодов писатель придерживается некой заданной схемы, штампа. М. ШнейдерРЕГИСТРАЦИЯ БРАКА
1. «Любимая монета»
Дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам историю под названием «Регистрация брака». Но вначале вы должны узнать, что такое «лохань», «любимая монета». Появись эта история лет тридцать тому назад, этого не нужно было бы объяснять. Но история, которую я расскажу, новая, да и слушатели в большинстве своем молодые. Поэтому я сейчас объясню вам, что такое монета «лохань». Говорят, что «лохань», как монета особой чеканки, появилась при императоре маньчжурской династии, правившем под девизом Канси[6]. Размером она не отличается от других монет того времени, только на ней в иероглифе «си» недостает слева одной черты; сделана она тоже из меди, но меди особой, по цвету похожей на золото. Когда ее чеканили, то в медь добавили золотую статуэтку «лохань»[7], так что в монете содержится три десятых золота. Так ли это было или не так, нас не касается, но монета «лохань» стала всеобщей любимицей. Из пяти таких монет ювелир мог сделать кольцо, которое нельзя было отличить от золотого. А деревенские парни, любители пофорсить, держали эту монету во рту, как городские жители, выставляющие напоказ свои золотые зубы. В некоторых глухих местах этот обычай по сей день сохранился. Обнаружить среди прочих монет монету «лохань» не так-то просто. Когда монеты эти были в ходу, мальчишки обычно рылись в деньгах, которые приносили домой взрослые, и радовались, если удавалось найти «лохань». Но такая удача им выпадала не чаще чем раз или два в год. Сейчас этих монет совсем мало, они вышли из обращения, и те, у кого они сохранились, берегут их как зеницу ока. Вот и все о монете «лохань». А теперь слушайте, что я вам расскажу. В деревне Чжанцзячжуан жил плотник по фамилии Чжан. Была у него очень хорошая жена по прозвищу Порхающая Бабочка и дочь Айай. По лунному календарю в ночь на пятнадцатое число первой луны тысяча девятьсот пятидесятого года ей исполнилось двадцать лет, на самом же деле было девятнадцать[8]. Полюбил Айай парень по имени Сяо Вань, из той же деревни. Вот о них-то и пойдет речь в моем рассказе. Итак, жили они втроем: плотник Чжан, его жена и дочь. Жили особняком, дом стоял в маленьком дворике, муж с женой занимали северную комнату, дочь — западную. Пятнадцатого числа первой луны тысяча девятьсот пятидесятого года в деревне устроили новогоднее шествие с фонарями. И плотник Чжан, как обычно вот уже много лет подряд, нес бумажного дракона, ловко держа его за хвост. В тот вечер он, едва кончив есть, сразу же ушел, чтобы принять участие в праздничном шествии. Айай перемыла посуду, заперла калитку и вместе с матерью отправилась посмотреть на праздник. Чжан, как всегда, занялся бумажным драконом. Его жена глазела на народ, а дочь любовалась фейерверком, который готовил ее возлюбленный Сяо Вань. После фейерверка Айай вернулась домой. Побродив по городу, пришла домой и жена. Позднее всех вернулся с праздника Чжан, до самого конца он должен был носить своего дракона. Айай прошла в северную комнату, чтобы дождаться матери, но сон сморил ее, и она уснула. Там и нашла ее мать, вернувшись домой. — Айай, проснись! — принялась она будить девушку. Но та повернулась на другой бок. И тут из кармана у нее выпало что-то блестящее и со звоном покатилось на пол. — Когда это девчонка успела стащить мою «любимую монету»? — воскликнула мать, посветив на пол лампой. Ведь монета лежала в шкатулке, спрятанной в сундуке. Мать не стала будить Айай, решив положить монету на место. Каково же было ее удивление, когда, открыв сундук, она обнаружила, что монета ее преспокойно лежит в шкатулке. — Как же так! — воскликнула женщина. — Моя-то монета на месте! Она принялась рассматривать обе монеты под лампой. Они были почти одинаковые. Только ее монета, хранившаяся в деревянной шкатулке, была по-прежнему золотистой. Монета же Айай, видимо от сырости, немного поблекла. Мать посмотрела на Айай — та по-прежнему сладко спала. «Дурочка! — подумала мать. — И ты, наверное, обменяла колечко на монету?» И в самом деле — ни на одном из пальцев Айай кольца не было. Мать пошарила у нее в кармане, там что-то лежало, но это оказалось не колечко, а наперсток. — Ой! Что ж это такое? — вздохнув, произнесла мать. — Выходит, мы обе обменяли кольца на «любимые монеты»! Завтра же попрошу Пятую тетушку поскорее сосватать Айай. А то как бы беды не случилось. Она сунула наперсток обратно в карман Айай. И тут на память ей пришла история ее «любимой монеты». Но прежде чем продолжить рассказ, я должен кое-что объяснить. Во-первых, откуда пошло прозвище Порхающая Бабочка. Двадцать с лишним лет назад, тридцатого числа двенадцатого месяца по лунному календарю плотник Чжан женился. В день свадьбы вся деревня собралась посмотреть на молодых. Когда с головы невесты сняли красное покрывало, один из парней шепнул на ухо другому: — Гляди-ка, Порхающая Бабочка! — Точно! — ответил тот и улыбнулся. Спустя немного и в доме, и во дворе все повторяли шепотом: «Порхающая Бабочка! Порхающая Бабочка!» Оказывается, в театральной труппе тех мест была знаменитая актриса, исполнявшая роли героинь-воительниц, лет двадцати, невысокая, стройная. Играла она превосходно, и мимика ее, и движения полны были глубокого смысла. В музыкальной драме «Храм Золотой горы» она играла Белую богиню, и, когда легко и быстро двигалась по сцене, ее белые шелковые юбки, казалось, порхали. За это ее и прозвали Порхающей Бабочкой. Невеста Чжана была очень на нее похожа. Плотник и сам говорил: — С каждым днем мне все больше и больше кажется, что она похожа на бабочку. Второй день свадьбы пришелся как раз на первый день Нового года. По обычаям той деревни, невесту выводили из дома две замужние женщины, мальчик с красным ковриком бежал впереди, и все они отправлялись по соседям отбивать поклоны и поздравлять с Новым годом. На самом же деле никто поклонов не отбивал, просто поздравляли друг друга. И вот после завтрака, как только в дверях показался мальчик с красным ковриком, какой-то парень, еще издали завидев его, закричал на всю улицу: — Смотрите, сейчас появится Порхающая Бабочка. И тут же на улице собралась целая толпа, как во время праздничного шествия пятнадцатого числа первой луны. Затаив дыхание, все следили за каждым движением невесты. — Смотрите, смотрите! Она вошла в дом Пятой тетушки! — Выходит, выходит! Пошла во двор Лао Цю!.. В своей жене плотник Чжан видел истинное сокровище. Первые девять дней после свадьбы молодые все время сидели дома, только сходили поздравить дядю с Новым годом. Ни днем, ни ночью Чжан не отходил от своей Порхающей Бабочки. Развлекал ее, переодевшись в женское платье, изображал порхающую бабочку, украдкой брал у жены колечко, чтобы она гонялась за ним по комнате... Но молодой женщине было не до веселья, и она холодно говорила: — Перестань дурачиться! Несколько месяцев спустя кто-то пришел из родной деревни Порхающей Бабочки и принес слух, будто у нее там был возлюбленный по имени Баоань. С тех пор парни стали дразнить плотника Чжана. — Послушай, — говорили они ему, — прежде чем войти в дом, покашляй несколько раз, а то чего доброго нарвешься на Баоаня! — Порхающая Бабочка только наполовину твоя, а наполовину — Баоаня. Теперь наконец Чжан понял, почему жена так холодна с ним. Надо бы ее отругать, думал не раз плотник Чжан, но слова застревали в горле, стоило ему взглянуть на жену. Да и зачем ворошить прошлое. Может, со временем она станет добрее к нему. Когда слухи дошли до матери Чжана, она позвала сына к себе и отчитала за слабоволие. — Человек — ничтожная тварь. Ничего не поймет, пока его хорошенько не поколотят. И жалость тут ни к чему. После этого Чжан стал следить за Порхающей Бабочкой, искал, к чему бы придраться. Был он однажды у тестя и встретил там Баоаня. Смотрит: у того на пальце точь-в-точь такое колечко, как у его жены. Вернувшись домой, он первым делом глянул на руку жены и вместо двух колечек увидел одно. «Она и вправду наполовину принадлежит Баоаню!» —подумал Чжан и рассказал обо всем матери. — Поколоти ее! И не мешкай. Чем быстрее, тем лучше. Может, еще можно дело поправить. Только бей побольней, иначе толку не будет. Чжан и без того все эти дни кипел от злости, а тут еще мать подлила масла в огонь. Взял он у матери железную кочергу и собрался уходить, а мать говорит: — Брось кочергу, возьми палку потоньше. Лучше всего от ручной пилы. Она бьет больней и костей не ломает. Взял Чжан пилу, выдернул из нее палку длиной в пол-аршина, толщиной в палец. Бей сколько хочешь, крепкая, не сломается. Откуда это мать знает, какая палка больнее бьет? А знала она вот откуда: в молодости за ней, как и за женой плотника, грешок водился, вот муж ее и колотил, причем палку выбирал потоньше. Но не будем отвлекаться... Итак, плотник, сжимая в руке палку, весь черный от злости, отправился к себе. Жена, увидев его, как обычно, спросила: — Что принес? Муж не ответил, ткнул палкой в руку жены и сердито спросил: — Где второе кольцо? Говори... У жены волосы встали дыбом от страха. Когда же она увидела, какие злые у мужа глаза, то совсем обомлела. Вначале Чжан стал бить жену по ногам. А к побоям она, надо сказать, не привыкла. В родительском доме ее никто пальцем не тронул. Она вскрикнула и принялась тереть ногу. Тут Чжан схватил ее за волосы, прижал к кровати и стал безжалостно избивать. Вначале она не плакала, боялась, что люди услышат и будут смеяться, а потом уже не могла плакать и только тяжело дышала. Плотник же, обессилев, ушел. Она долго корчилась от боли, не могла отдышаться, потом наконец расплакалась, на лбу выступил холодный пот, волосы стали мокрыми, словно она их вымыла. Она то рыдала, то вновь принималась вздыхать, через равные промежутки времени, за которые можно было успеть пообедать. Жили они во дворе одни, поэтому никто ничего не слышал. Свекровь даже не вышла из своей комнаты, лишь за дверью кричала: — Чего ревешь? Совсем приличий не знаешь! Тело у жены плотника нестерпимо болело, рука была вся в крови. Стиснув зубы от боли, она попыталась подняться, но не смогла. О том, при каких обстоятельствах она подарила Баоаню колечко, Чжан больше не спрашивал. Сама она, разумеется, тоже не говорила об этом. А дело было так. Однажды в Праздник начала лета[9] она приехала к матери и там встретилась с Баоанем. Он попросил подарить ему что-нибудь на память, и она, сняв с пальца кольцо, отдала ему. Баоань, в свою очередь, отдал ей самую дорогую для него вещь — «любимую монету», которую держал обычно во рту. После побоев мужа «любимая монета» стала для Порхающей Бабочки истинным сокровищем. Плохо, когда сердце затаит обиду. Теперь муж был для Порхающей Бабочки хуже свирепого волка. При одной мысли, что надо заговорить с ним, женщину бросало в дрожь. Плотник больше не замечал улыбки на лице жены. Приближаясь к дому, он через калитку видел ее оживленной, разговорчивой, но стоило ему войти во двор, как она тотчас становилась словно деревянная. Однажды курица, собираясь снести яйцо, долго кудахтала и носилась по двору. Порхающая Бабочка стала загонять ее в курятник и в этот момент действительно была похожа на актрису, игравшую Белую богиню в музыкальной драме «Храм Золотой горы». Как раз в это время вернулся муж. Жена тотчас же ушла к себе в комнату. Плотник рассердился. — Все зовут тебя Порхающей Бабочкой, — сказал он жене, — почему же при мне ты опускаешь крылья? Разве я волк? — И он ударил ее по лицу. С этого дня Порхающая Бабочка старалась улыбаться мужу, чтобы не получать больше пощечин, но это ей не удавалось. Постепенно плотник утратил всякий интерес к жене, стал искать работу в других местах, подальше от дома, и пропадал где-то по полгода, а то и по году. Бывало, пройдет мимо своего двора и даже не заглянет. Говорили, что он завел себе нескольких возлюбленных. Теперь в доме оставались лишь свекровь и сноха, которые редко выходили со двора. Свекровь, как водится, была на стороне сына. За целый день слова не скажет Порхающей Бабочке, даже не взглянет на нее, отворачивается. Родной дом Порхающей Бабочки был совсем близко, но теперь она не решалась туда ходить, чтобы не навлечь новых подозрений, да и родители из-за всей этой истории не навещали дочь. Таким образом, в целом свете не было человека, который пожалел бы Порхающую Бабочку. Так она и жила. Единственной ее отрадой была «любимая монета». Как только свекровь укладывалась спать, она запиралась у себя в комнате, доставала из шкатулки «любимую монету» и подолгу смотрела на нее, иногда нашептывая: — «Любимая монета», ты отняла у меня жизнь, и ты ее мне вернула! Даже если меня забьют до смерти, я не откажусь от тебя. Вместе жили, вместе и умирать будем. Иногда она, словно ребенок, согревала «любимую монету» в руке, а потом прикладывала ее то к щеке, то к груди, то в рот клала... Когда же муж ночевал дома и «любимую монету» надо было прятать, она никак не могла уснуть. Лишь когда родилась Айай, она спрятала монету в шкатулку. Единственное колечко она тоже положила в шкатулку после того, как ее побил муж. Когда Айай исполнилось пятнадцать, мать открыла шкатулку, чтобы взять шелковых цветов для ее шапочки. Девочка увидала колечко и начала просить его у матери. Мать, опасаясь, как бы она не заметила монету и не начала ее выпрашивать, сразу отдала колечко и заперла шкатулку на замок. К тому времени, как дочь стала взрослой, муж с женой помирились, свекровь умерла, и в их жизнь теперь некому было вмешиваться. С Баоанем у Порхающей Бабочки все давно было кончено. Ее колечко теперь носила Айай, и Чжан как-то сказал дочери: — Раньше их было два. — Где же другое? — Спроси у матери. Айай хотела было спросить у матери, но заметила, что мать бросила на отца сердитый взгляд, и промолчала. Наверно, подумала она, мать потеряла колечко. А теперь вернемся к событиям ночи пятнадцатого числа первой луны тысяча девятьсот пятидесятого года. Порхающая Бабочка, держа в руках две «любимые монеты», вспомнила историю своей монеты, и ей стало и печально, и радостно. Но все это дела далекого прошлого. А вот как быть с «любимой монетой» дочери? Просто забрать? Но, может быть, из-за этой монеты дочери пришлось пережить много горя? И не пошла ли она по тому же пути, исполненному страданий, по которому в свое время шла мать? Может быть, отдать ей монету? Она раздумывала, как поступить, когда снаружи послышался шум — это вернулся Чжан. Женщина быстро бросила обе монеты в шкатулку и заперла ее. Скоро рассвет, вот-вот запоют петухи. Чжан увидел, что Айай спит не на своем месте, и рассердился: — Вставай! Вставай! — крикнул он громко. Айай, вздрогнув, вскочила. — В чем дело? Что случилось? — Неужели нельзя потише! Смотри, как ты напугал дочь! — с укором сказала мать и обратилась к Айай: — Не волнуйся, доченька, ничего не случилось. Просто отец велит тебе идти спать на твое место. — Ну и избаловала ты ее, — проворчал плотник. Айай совсем проснулась и, улыбнувшись, ушла в свою комнату. Когда за ней захлопнулась дверь, плотник закрыл дверь своей комнаты и, раздеваясь, стал тихо говорить Порхающей Бабочке: — За эти два года столько парней сваталось к Айай. И ни один из них тебе не понравился. Что-то долго ты выбираешь. А тот, кого сватает Пятая тетушка с восточного двора, тоже неподходящий? Надо бы выдать дочь поскорее, чтобы зря о ней не болтали. А то только и разговоров что про Яньянь из семьи Ма и про нашу Айай. У Яньянь, правда, есть жених, а у нашей Айай нет. — Говорят, Яньянь собирается замуж за Сяо Цзиня, а сельская управа будто бы не дает им свидетельства. Теперь уже уладили этодело? — Чего только не говорили про Яньянь и Сяо Цзиня, а сейчас у нее новый жених из деревни Сиванчжуан, его посватала Пятая тетушка, на послезавтра назначена регистрация. — Не знаю, что за люди сидят в этой управе, только придираются попусту, — сказала жена. — Если бы о нашей Айай шла худая слава, не сваталось бы к ней столько женихов. А то сам управляющий гражданскими делами посылает Пятую тетушку сватать ее за своего племянника! Чжан промолчал, потом сказал: — Я был так занят подготовкой к Празднику фонарей, что забыл у тебя спросить, каков достаток этой семьи. — Сама толком не знаю, — ответила Порхающая Бабочка. — Хоть мы и земляки, но они живут в южной стороне деревни, а моя мать в северной. Мы не имеем с ними никаких дел, даже в гости друг к другу не ходим. Пятая тетушка обещает завтра же все разузнать. Может быть, мне завтра навестить мать? А по пути зайти к ним. — Сходи, — согласился Чжан и, помолчав, снова заговорил: — Еще я хотел спросить... Было что-нибудь между нашей Айай и Сяо Ванем? Порхающая Бабочка умолчала о «любимой монете» и ответила: — Не надо вмешиваться в их дела. Дочь уже взрослая, найдем ей подходящую пару, выдадим замуж, и все.2. Удачный выбор
Айай после того, как у нее появилась «любимая монета», не расставалась с ней, как и ее мать в молодости, даже спала с ней, держа ее в руках или во рту. И вдруг монета исчезла. Она обшарила все карманы, с лампой в руках лазила по полу, но так и не нашла «любимой монеты» и легла спать без нее. На следующий день Айай первая поднялась с постели и сразу принялась мести пол. Но опять не нашла монеты. Как только проснулась мать, девушка пошла к ней мести пол, и мать поняла: дочка ищет «любимую монету», но ничего не сказала, лишь, смеясь, обратилась к мужу: — Посмотри, Чжан, как наша Айай почитает родителей. Как старательно метет пол! После завтрака зашла Пятая тетушка, чтобы вместе с Порхающей Бабочкой отправиться к ее матери. Чжан, как было заведено все двадцать лет их супружеской жизни, тоже пошел к теще с женой. А заведено у них было так неспроста. Когда двадцать лет назад плотник узнал, что Порхающая Бабочка подарила Баоаню колечко, он понял: она его любит. И с той поры каждый раз отправлялся вместе с женой к ее матери, как и подобает любящему мужу. Прошло много времени, его мать умерла, Айай выросла, отношения с женой наладились, а эта привычка осталась. Однажды Порхающая Бабочка спросила: — Ты все еще боишься отпускать меня одну? — Нет, просто привык ходить с тобой вместе, — ответил ей Чжан. — А ты, Айай, не пойдешь к бабушке? — спросила мать. — Нет, не пойду, я ведь была там на третий день Нового года. — Не хочешь, не надо, — сказал отец. — Только не бегай никуда, стереги дом. Когда отец с матерью и Пятая тетушка ушли, Айай снова принялась искать «любимую монету». Будь у нее ключ от сундука, она непременно порылась бы в шкатулке и там обнаружила бы две «любимые монеты». Но ей и в голову не могло прийти, что ее монета в шкатулке, и она искала ее везде, где только можно было. Искала до полудня, но так и не нашла. А вечером пришел Сяо Вань. Айай схватила его за руку и выпалила: — Я потеряла «любимую монету». — Ну и что? — Так обидно, что я даже аппетит потеряла. — Стоит ли расстраиваться? Пользы от нее никакой нет. Я слышал, что твои родители вместе с Пятой тетушкой из восточного двора отправились тебе жениха искать. Это правда? — Не знаю. До него же эта старая карга любит соваться в чужие дела! — Выходит, у нас с тобой все кончено? — Ничего подобного. — А если тебя просватают? — Не просватают. — Почему ты так уверена? — Потому что я не желаю, чтобы меня сватали. — Будто бы от тебя что-то зависит! — Посмотрим! В этот момент пришла Яньянь из семьи Ма, и они сразу замолчали. Айай встретила ее словами: — Садись, сестричка Яньянь. Яньянь, увидев, что они вдвоем, смеясь, сказала: — Извините, уж я лучше пойду. Айай тоже рассмеялась и, положив руки ей на плечи, усадила на стул. — Как ваши дела? — спросила Яньянь. — Вы что-нибудь придумали? — Только что мы как раз говорили об этом, — ответила Айай. — Думайте побыстрее. А то получится, как со мной. Глаза Яньянь наполнились слезами. Айай и Сяо Ваню стало не по себе. — Но ведь вы еще не зарегистрировались? — спросил Сяо Вань. — Завтра регистрация... — А что он за человек? — спросила Айай. — Я даже тени его не видела, — ответила Яньянь. — Разве поздно отказаться? — не унималась Айай. — Моя мать заявила: «Не пойдешь замуж, умру на твоих глазах». Что прикажете делать? — В прошлом году, — напомнила Айай, — вы с Сяо Цзинем ходили в сельскую управу за свидетельством. Почему вам его не выдали, на каком основании? — Какие там основания, — с возмущением сказала Яньянь. — Все это штучки управляющего гражданскими делами. Все мудрит, старая башка. Сказал, что у меня репутация плохая[10]. Мало того, что не выдал свидетельства, так еще заставил меня признаться в своих ошибках. — Думаешь, завтра он не заставит тебя снова признаваться в ошибках? — сказал Сяо Вань. — А мне зачем туда ходить? — возразила Яньянь. — Когда идешь замуж не по своей воле, а по воле родителей, любой может вместо меня получить свидетельство. Только тем, кто хочет зарегистрироваться по доброй воле, не выдают свидетельства да еще заставляют заниматься самокритикой, обвиняя их в том, что они идут наперекор желанию родителей. — Плохи наши дела, — сказал Сяо Вань, обращаясь к Айай. — Пятая тетушка сватает тебя за племянника управляющего гражданскими делами, а главное — этого хочет твоя мать. Она потолкует с тетушкой, а завтра скажет, что умрет на твоих глазах, если ты не согласишься. Ты и после этого не пойдешь регистрироваться? — Моя мать так никогда не поступит. Она знает, что я могу устроить скандал! В это время за дверью кто-то позвал: — Дядя Чжан! Дядя Чжан! Айай схватила за руку Яньянь: — Это Сяо Цзинь, он ищет тебя! Яньянь еще не успела и слова вымолвить, как в комнату вошел Сяо Цзинь. Девушке давно хотелось излить ему душу, только не было подходящего случая, и сейчас, увидев его, она быстро пересела на кровать, чтобы освободить ему скамейку. Она смотрела на него широко открытыми глазами, но не могла ничего сказать. А Сяо Цзинь, будто не замечая ее, обратился к Айай: — Где дядя Чжан? Все ждут его на площади. Он обещал научить нас носить бумажного дракона. — Отец ушел к бабушке! А ты садись! — Некогда мне... — бросил Сяо Цзинь, искоса глянув на Яньянь, и быстро вышел из комнаты. Уже со двора он крикнул: — Пошли гулять, Сяо Вань. Что время зря тратить? Попроси отца поставить несколько даней риса — и девок будет сколько захочешь! Слова эти очень обидели Яньянь, она уткнулась головой в подушку и горько заплакала. Ее никак нельзя было успокоить. Потом, придя наконец немного в себя, она сказала: — Придумайте что-то, не мешкайте. А то видите, как у нас получилось! Думаете, легко мне такое переживать? — Что же нам делать? — спросила Айай. — Старики мыслят по-старому. Нам никто не захочет помочь. Хоть бы кто-нибудь поговорил с моей матерью! Но где такого человека найдешь? — Хорошего никто не скажет, — произнес Сяо Вань, — зато плохого наговорят сколько хочешь. Моему отцу без конца твердят одно и то же — скорей жени парня, чего откладываешь! Яньянь вдруг выпрямилась и торжественным тоном произнесла: — Я буду у вас свидетельницей! Поговорю с вашими родителями. Все равно, Айай, про нас с тобой говорят в деревне, что обе мы стыд потеряли... Меня уже сгубили! Так спасем хотя бы тебя! — Яньянь, дай я поклонюсь тебе, — сказал Сяо Вань, встав со своего места. — Может, из этого ничего и не выйдет, но попробуй поговорить с моим отцом, прошу тебя. Откажет так откажет. Неопределенность хуже всего. А теперь мне пора, а то управляющий гражданскими делами, чего доброго, встретит нас и заставит заниматься самокритикой. После ухода Сяо Ваня девушки занялись выработкой плана — как поговорить с этим и с тем и как поступить, если Пятая тетушка все же сосватает Айай за племянника управляющего гражданскими делами. В самый разгар их беседы вернулась Порхающая Бабочка. Не успела Яньянь рот раскрыть, как в комнату вошла Пятая тетушка. — Что жених, что семья — никаких недостатков, — затараторила она с ходу. — Его мать — родная сестра управляющего гражданскими делами нашего села. Вы даже представить себе не можете, какой у нее чудесный характер. В этой семье твою дочь никогда не обидят. Отдавай ее замуж, не пожалеешь! — Пусть этот разговор пока останется между нами! — ответила Порхающая Бабочка. — Я еще посоветуюсь с мужем. Пятая тетушка поняла, что Порхающая Бабочка колеблется, поболтала еще немного и ушла. Айай от радости готова была смеяться, и на щеках у нее обозначились ямочки. Почему же Порхающая Бабочка не могла решиться на этот брак? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вам рассказать, что случилось, когда она ходила к своей матери. После завтрака, как вы знаете, они втроем добрались до деревни Сиванчжуан и прежде всего зашли к матери Порхающей Бабочки. Пятая тетушка хотела вместе с матерью Айай навестить семью племянника управляющего гражданскими делами. Но Порхающая Бабочка возразила: — Идти вместе нехорошо. Иди сперва ты, а я потом подойду, будто бы за тобой. А то, чего доброго, скажут, что я навязываю им свою дочь. Жених и его родители жили на южном конце деревни Сиванчжуан. Пятую тетушку пригласили сесть, поговорили о том о сем, после чего отец жениха спросил: — Какая же из трех невест самая подходящая? — По-моему, все хороши, но у двух уже есть женихи, свободной осталась только дочь плотника Чжана. — Почему же так быстро нашлись женихи для тех двух? — Восемнадцать — девятнадцать лет, самый подходящий возраст для замужества, — уклончиво ответила тетушка. — Говорила я тебе, быстрее надо решать, а ты все тянул да тянул. Вот хороших и разобрали! — сердито сказала жена. — Молодых невест сколько хочешь! — поспешила вмешаться Пятая тетушка. — Хотите, сосватаю вам четырнадцатилетнюю, хотя для вашего ребеночка и она старовата! — Оставьте ваши шутки, — отпарировала жена. — Только девчонку мы и без вас можем найти. — А взрослых невест нету больше! Не понимаю, чем плоха вам Айай? Из всех трех она самая красивая. Да вы ее видели. Вылитая мать в молодости. — Красивая-то она красивая, да только слава о ней худая идет! — Подумаешь, слава! А если бы не это, не засиделась бы она до девятнадцати лет! О тех двух тоже всякое болтают. — Зачем же нам, за наши же деньги, неприятности на себя навлекать? — Не слушайте вы сплетен! — сказала Пятая тетушка, явно расстроившись. — Будь она действительно испорченной, не стал бы ваш почтенный брат просить меня сосватать ее за вашего сына! Стоит ли обращать внимание на всякие мелочи! Как только попадет она в ваш дом, все разговоры прекратятся и у девушки дурь пройдет. — Чего там пройдет? — вмешался в разговор все время молчавший муж. — Какая мать, такая и дочь. Порхающая Бабочка смолоду была бесстыдницей. — Дурь выбить можно, — возразила Пятая тетушка. — Человек что тварь. Поколотить хорошенько — дурь вся и выйдет. — Уж кто каким уродился, таким и умрет. Битьем никого не исправишь, — стоял на своем муж. — Битьем можно исправить! Можно! — перешла на крик Пятая тетушка. — Выбил же тогда плотник Чжан дурь из своей Порхающей Бабочки. В это время как раз вошла во двор Порхающая Бабочка. Она слышала последние слова Пятой тетушки, постояла немного и, никем не замеченная, медленно пошла обратно. Шла и думала: «Разве битье тоже переходит по наследству из поколения в поколение? Да ну их к черту! Не отдам я свою дочь на мытарства!» Когда она вернулась, мать и муж спросили в один голос: — Ну как? — Нет, с ними каши не сваришь! — Почему? — Не будем об этом больше говорить. Не подходят они нам, и все. Мать спросила, чем Порхающая Бабочка так рассержена. Дочери не хотелось говорить правду, и она ответила: — Плохо ночью спала... — ушла в комнату и легла на кровать. Сон не шел к ней. Слова Пятой тетушки разбередили старую рану. А теперь она страдает за дочь. «Почему у нас с дочерью одинаковая судьба?.. — думала она. — Не знаю, какой леший попутал меня обменять колечко на «любимую монету». Муж тогда избил меня до полусмерти и до сих пор ходит за мной следом, как конвоир, стоит мне выйти из дому. А теперь дочери грозит то же самое! Что же ты натворила, доченька! Теперь мы с тобой обе в одном тупике. Я из него полжизни не могла выбраться, неужели и тебе, моя девочка, придется так мучиться?» Она перебирала в памяти события прошлого. Каждая женщина, независимо от возраста, которая хранила «любимую монету», непременно терпела побои от свекрови или от мужа и если не кончала с собой, то ходила вдовой при живом муже... «Дочери предстоит то же самое. Пропадет девочка ни за что ни про что. Забыла про стыд. А может, отдать ее замуж? Все равно будет бита, за кого бы ни вышла», — мучительно размышляла Порхающая Бабочка. Она закрыла глаза и живо вспомнила, как бил ее муж, с остервенением бил, свирепо выпучив глаза, а потом схватил за волосы и прижал к кровати; он бил ее, как осла, без передышки, обрушивая на нее десятки ударов... «Ой, мама! Как страшно! С тех пор прошло двадцать лет, но до сих пор охватывает дрожь, как только вспомнишь об этом. Нет! Не сможет моя Айай пережить такое!» За обедом Порхающая Бабочка ела через силу, и то лишь для того, чтобы не огорчить свою старуху мать. Не дождавшись Порхающей Бабочки, Пятая тетушка сама отправилась за ними, снова стала звать на южный конец деревни к ее будущим родственникам. — Поздно уже, — сказала Порхающая Бабочка, — боюсь, что дотемна не доберемся до дому. На обратном пути Пятая тетушка все время нахваливала матери Айай жениха, уверяя, что он хорош на все сто двадцать процентов. Порхающая Бабочка не слушала ее и не шла, а летела, как двадцать лет назад. Пятая тетушка с трудом за ней поспевала. Едва только вошли в деревню, молодежь тут же увела плотника Чжана на площадку, где он должен был научить их управляться с бумажным драконом во время шествия. Порхающая Бабочка отправилась домой. Вы знаете, что Пятая тетушка бросилась следом за ней, но та вежливо ее выпроводила. Яньянь решила, что сейчас самый подходящий момент начать разговор с матерью Айай. Она сделала подруге знак глазами, чтобы та вышла, и обратилась к Порхающей Бабочке: — Можно, я сосватаю Айай? Порхающая Бабочка приняла эти слова за ребячество и рассмеялась: — А ты можешь сватать? — Почему бы и нет? — тоже смеясь, в свою очередь, спросила Яньянь. — Выходит, у тебя тоже длинный язык, как у Пятой тетушки из восточного двора? — Не знаю, какой у нее язык, а вас уговорить ей почему-то не удалось. — Я просто не захотела, — ответила Порхающая Бабочка, — жених неподходящий. — Значит, дело не в том, какой у свахи язык, а в том, какой у нее на примете жених. Так вот есть у меня один на примете, ручаюсь, что подходящий. — Кто же он, говори! — Сяо Вань! — Так я и знала, что ты его назовешь... Нет, не годится. Эх, девушки! Пора бы вам взяться за ум. Слишком много болтают про вас. Яньянь возразила: — Я тоже скажу, как Пятая тетушка: что жених, что семья — никаких недостатков. Только я правду говорю, а эта старая дура мелет что попало. Подумайте над моим предложением, прошу вас! — Ты говоришь о хорошем и не говоришь о плохом. Скажи лучше, как уберечься от сплетен? — Так ведь сплетничают одни старики, дурьи головы! Чего только не болтают о Сяо Ване! А вы отдайте за него Айай, посмотрим, что они тогда скажут. «Пожалуй, надо подумать, — решила Порхающая Бабочка. — Поженятся они, заживут в согласии. По крайней мере, Айай никто бить не будет». Она погладила Яньянь по голове и сказала: — Да ты настоящая сваха! Яньянь, видя, что дело идет на лад, быстро спросила: — Так вы согласны? — Не торопись, милая! Надо еще у отца спросить. Вернется — поговорю с ним! Яньянь попрощалась и ушла. Во дворе ее поджидала Айай, все время стоявшая у окна. Она схватила подружку за руку и, сделав ей знак молчать, увлекла за собой. — Ты, наверное, все слышала? — спросила Яньянь, когда они вышли на улицу. — Слышала. Спасибо тебе! — Пока еще рано благодарить. Сделано только полдела. Ты иди полюбуйся фонарями и жди меня возле кооператива, там сейчас народу полно. А я схожу к родителям Сяо Ваня. По деревенскому обычаю, если мать невесты дала согласие на женитьбу, то с родителями жениха уже легче договориться. Мать Сяо Ваня быстро согласилась, и Яньянь побежала к кооперативу, где ее ждала Айай. Она взяла подружку под руку, увела в сторону и рассказала все, как было. — Если твоей матери удастся уговорить отца, завтра можно идти регистрироваться! — сказала Яньянь. Радостная вернулась Айай домой. Однако Яньянь, оставшись одна, загрустила. Чужое дело уладила, а свое не может. Она долго плакала в укромном местечке. А потом дома, уже лежа в постели, думала: «Завтра я должна либо пожертвовать собой, либо причинить боль матери. Другого выхода нет...» Всю ночь она не сомкнула глаз. Но вернемся к Порхающей Бабочке. После ухода Яньянь она предалась размышлениям. «Семья у Сяо Ваня приличная. Люди они покладистые. Живут мирно. Сам Сяо Вань парень красивый, смирный. И по возрасту подходящий». Мать не могла не похвалить Айай в душе за хороший выбор. А все сплетники, решила она, просто старые дураки. Она открыла шкатулку и достала монету, чтобы вернуть ее дочери. Как раз в этот момент в комнату влетела запыхавшаяся Айай. — Что у тебя в руке, мама? — «Любимая монета»! — ответила Порхающая Бабочка. — Откуда она у тебя? — Нашла. — Мама! Это моя! — А у тебя она откуда? — Я... Я тоже нашла! — Айай засмеялась. Порхающая Бабочка с улыбкой посмотрела на дочь. — Ну, если твоя, бери. Айай схватила монету и сунула ее в карман. Вскоре вернулся отец. Айай ушла в свою комнату, а отец с матерью долго разговаривали в ту ночь.3. Регистрация не состоялась
Айай знала, что ночью мать с отцом будут разговаривать о ее замужестве, и глаз не могла сомкнуть. Прильнув к окошку, она старалась подслушать их разговор, но окно их комнаты было довольно далеко, и ей удалось услышать всего две фразы. Вы спросите, какие? А вот какие. — Скажи мне, — спросила мать, — что плохого ты видишь в этом браке? — Ничего плохого я в нем не вижу, — ответил отец. — Только сплетни прекратить не удастся! Потом они стали говорить совсем тихо, и Айай уже ничего не слышала. Утром, едва поднявшись с постели, Айай хотела сбегать к Яньянь. Но поскольку невестки в доме не было, почти все хозяйственные дела выполняла Айай: мела пол, вытирала пыль, разжигала очаг, готовила еду, мыла посуду и котел для варки пищи. И так изо дня в день. Айай боялась, что подружка уйдет в район, и, едва дождавшись, когда закончится завтрак, сразу же собрала посуду и палочки для еды, бросила их немытыми в котел, котел накрыла крышкой и побежала к Яньянь. Пусть подружка как-нибудь разузнает, договорились ли отец с матерью. Но когда она пришла к Яньянь, то поняла, что разговор придется отложить до лучших времен. Яньянь лежала в постели. Мать умоляла ее подняться. Тут же находилась Пятая тетушка. — Что с ней? — всполошилась Айай. — Яньянь хочет моей смерти, вот и капризничает! — ответила мать. — Зачем вы так говорите, — не поднимая с подушки головы, отрезала Яньянь. — Я ведь сделала все, как вы хотели. — Значит, ты не сердишься на меня? Почему же тогда не встаешь? Вставай, деточка, живо! Тетушка расскажет тебе, как надо вести себя в районе. А потом пойдешь за свидетельством. Торопись, поздно уже! — Я скорее умру, чем пойду в управу, — упиралась Яньянь. — А то управляющий гражданскими делами опять заставит меня заниматься самокритикой! — Ладно, ладно, милая! — говорила мать. — Не хочешь — не ходи. Я вместо тебя пойду. А ты вставай и послушай, какие порядки в районе. Яньянь, вконец разозлившись, села в постели. — И так ясно, что порядки там старые, феодальные, все на обмане построено. Ладно, говорите, что там за порядки. Говорите же! — бушевала Яньянь. — Деточка! — заискивающим тоном стала говорить тетушка. — Не надо упрямиться! И не будь такой хмурой. Радость ведь тебя ждет. Ей надо было во что бы то ни стало уговорить девушку. — Да рассказывайте же вы поскорее о ваших фальшивых порядках! — перебила ее Яньянь. — И какая там еще радость? Это для вас радость, а не для меня. — Ну, ладно, ладно! Не злись. Когда придем в управу, я отдам твое свидетельство помощнику управляющего канцелярией Вану. Он спросит, сколько тебе лет, ты ответишь. Потом он спросит: «По собственному желанию идешь замуж». Отвечай: «По собственному». — Это как же «по собственному? — вскричала Яньянь. — Глупенькая, так надо. Если же он спросит, почему ты согласилась, отвечай: «Потому что он хороший работник». — Вранье!.. Да я и в глаза его, черта, не видела, — возмутилась Яньянь. — Откуда же мне знать, какой он работник? — Вот ведь какая упрямая, — вмешалась тут мать Яньянь. — Не успокоится, пока со свету меня не сживет. — С чего это вы взяли, что я вас сживаю со света? Я и вправду его не знаю! Но вы, мама, не расстраивайтесь, я буду говорить все, как вы велите. Что хотите делайте со мной, Пятая тетушка. Так какие же там еще чертовы порядки? Выкладывайте все сразу, пусть будет по-вашему. — Я уже обо всем тебе рассказала, — смиренно ответила тетушка. Тем временем за Айай пришел Сяо Вань. Он стал в стороне и ждал, чем кончится спор. Яньянь наконец сдалась и пообещала делать все так, как ей велела Пятая тетушка. Вместе с тетушкой мать Яньянь отправилась за свидетельством. Едва они ушли, как Айай бросилась к подруге: — Милая Яньянь, у тебя беда, а я не знаю, чем тебе помочь... — Какая там беда! Кончилась моя жизнь, и все тут... Ну что, согласился отец? — Тебе сегодня не до меня, в следующий раз поговорим. — Нет. Я хочу знать. Любое дело надо доводить до конца. Нельзя, чтобы все были несчастными, как я. Будет у тебя все хорошо, это послужит уроком моей матери. Я пойду сейчас к вам домой, ты подожди меня здесь. Если твой отец дал согласие, мы вместе пойдем в район. Яньянь ушла, оставив Айай с Сяо Ванем. — Отец, кажется, не против, — сказала Айай. — Твои родители, я слышала, тоже не возражают. Теперь еще надо добиться свидетельства от управляющего гражданскими делами. — Да, он во все дела сует свой нос, так что ничего хорошего от него ждать не приходится, — сказал Сяо Вань. — Заладил, что у тебя плохая репутация, и все тут. А выйди ты за его племянника — и репутация была бы в порядке. — Что же нам делать, если он не выдаст свидетельства? Оба замолчали, не зная, как поступить. Вернулась Яньянь. — Отец твой согласен, — сказала она, — значит, мы можем вместе отправиться в район. Когда Айай заговорила о том, что им вряд ли выдадут свидетельство, Яньянь вначале не стала возражать, но, подумав, сказала: — Вы идите. И как только он выпишет свидетельство мне, требуйте, чтобы он и вам выписал. А откажет, попробуйте сказать так: «Значит, свидетельства вы выдаете третьим лицам, а кто сам придет, тому не выдаете!» Посмотрим, что он ответит. — Верно, — согласился Сяо Вань. — Откажет, пойдем регистрироваться в район без свидетельства. А потребуют свидетельство, скажем, что управляющий гражданскими делами нашей деревни настоящий феодал. Третьим лицам свидетельства выдает, а мы сами пришли — отказал. — Ну, а как быть с Яньянь? — спросила Айай. — Неужели ты промолчишь? — Вот было бы хорошо, если бы вы обо мне рассказали! Тогда матери не в чем будет меня упрекать. Не я ведь сказала, а вы. — А где нам взять свидетелей? — спросил Сяо Вань. — Я буду вашей свидетельницей, — выпалила Яньянь. — Да, но свидетелям положено присутствовать при выдаче свидетельства. Яньянь подумала и решительно заявила: — Ладно, пойду вместе с вами в управу. — Но ведь ты не хотела идти! — заметила Айай. — Так это я для себя не хотела, а ради вас пойду. Только мы подождем у ворот, пока мама не выйдет, а потом сразу войдем. — А если управляющий скажет, что свидетельница не может быть с плохой репутацией, тогда как? — спросила Айай. — Не волнуйся, я знаю, что ответить. Так, все обсудив, они отправились в сельскую управу и в воротах столкнулись с матерью Яньянь и Пятой тетушкой. — Можешь не ходить, — сказала Пятая тетушка Яньянь. — Твое свидетельство уже выписано. — А я хочу знать, что там написано. Чтобы правильно ответить, если спросят в районе, — возразила Яньянь. Решив, что Яньянь одумалась, мать рассмеялась: — Давно бы так! А то заставила меня идти. Спрашивай и быстрее возвращайся. Тебе еще надо поесть, прежде чем отправиться в район. — Мать заспешила домой. А молодые люди вошли в сельскую управу. Управляющий гражданскими делами только что дописал свидетельство и еще не успел закрыть тушечницу. Появление сразу нескольких посетителей его рассердило. Не обращая внимания на Айай и Сяо Ваня, он приказал Яньянь: — Отправляйся домой! Свидетельство у твоей матери! — Я знаю, но им тоже нужно свидетельство. — Вам? — Управляющий покосился на Айай и Сяо Ваня. — Да, нам. — У вас все решено? — Решено, — ответил Сяо Вань. — Мы оба согласны. — Вы оба? Но этого мало! — не без ехидства произнес управляющий. — Кого же вам еще надо? — спросила Айай. — Мой отец с матерью тоже согласны! — И мои родители тоже! — сказал Сяо Вань. — А где ваш свидетель? — Я свидетель, — ответила Яньянь. — Ты? — вскричал управляющий. — А почему бы и нет? — С твоей репутацией? — А что моя репутация? Вы сами только что выдали мне свидетельство. Управляющий вышел из себя. — Убирайтесь отсюда вон, негодяи! Айай поняла, что планы их рухнули, и в отчаянии крикнула: — Ну, а та, что за твоего племянника выйдет, сразу станет порядочной? Вопрос был таким неожиданным, что у управляющего дух перехватило. У него и в самом деле не было об Айай определенного мнения. Увидев, как она обменивается рукопожатиями с Сяо Ванем, он подумал: «До чего же испорченная, в точности как ее мать Порхающая Бабочка в молодости». В другой же раз, сватая за Айай своего племянника, он сказал его матери: «До чего же хорошая, в точности как Порхающая Бабочка в молодости!» При чем в обоих случаях он считал себя правым, ибо под словом «хорошая» подразумевал красоту, а не поведение. А красота и поведение — две вещи разные. С каким лицом человек уродился, с таким и останется. А вот поведение можно изменить — поколотить жену хорошенько, и она станет такой, как тебе надо. Словом, у управляющего были такие же взгляды, как у Пятой тетушки. Но не мог же он признаться в этом Айай, потому что она наверняка сказала бы: «Где уж вам с вашими взглядами быть управляющим гражданскими делами! Пусть лучше Пятая тетушка займет ваше место!» Но мы отвлеклись, а рассказ еще впереди! Итак, вопрос Айай застал управляющего врасплох, и он долго не мог прийти в себя. Потом наконец хлопнул в сердцах крышкой от тушечницы и произнес: — Что бы вы там не говорили, а свидетельства я вам не выдам. — Не выдадите? А мы все равно пойдем регистрироваться, — отпарировала Айай. — И если в районе спросят, почему нет свидетельства, я попрошу их тщательно разобраться в ваших поступках. — Иди, иди, жалуйся на меня! Так они и ушли с пустыми руками. После обеда Яньянь, Айай, Сяо Вань и Пятая тетушка отправились в район. Молодые люди терпеть не могли тетушку и все время старались ее обогнать, чтобы не идти рядом, так что она вконец измучилась, поспевая за ними. У районной управы собрался народ — мужчины и женщины, старые и молодые. Были среди них два парня: один лет двадцати, другой лет пятнадцати. Тот, что помоложе, видно, и был женихом Яньянь, потому что Пятая тетушка без конца твердила: «Ему уже полных пятнадцать лет!» Все молчали — никто друг друга не знал. Наконец появилась Пятая тетушка — едва доплелась и, оглядевшись, спросила: — Где же парнишка из деревни Сиванчжуан? Значит, не этот парнишка жених Яньянь. Тут как раз из помещения выбежал мальчишка и крикнул: — Почтенная тетушка, я уже давно здесь! Голос у него был еще тоньше, чем у Яньянь. Он был ниже ее на целую голову, с коротко подстриженными черными волосами, румяными щеками и по-кошачьи выпученными глазами. На маленькой пухлой руке обозначилось несколько ямочек. «Славный мальчишка, — подумала Яньянь, — только у него еще молоко на губах не обсохло. И что это ему жениться приспичило?» — Ну, пошли! — сказала Пятая тетушка. Они отметились в экспедиции и все вчетвером вошли в канцелярию. В начале первого лунного месяца родственники ходят друг к другу с поздравлениями и тут же договариваются о свадьбах. Поэтому в комнате у помощника управляющего гражданскими делами Вана с утра до ночи толпились люди, пришедшие за брачными свидетельствами. Помощник выбился из сил и даже не успевал стереть пот со лба. Комната была совсем маленькая, поэтому все стояли у дверей, а к столу подходили по одному. Дожидаясь своей очереди, можно было досконально изучить процедуру оформления брака, так долго приходилось стоять. Все было очень просто — в точности так, как говорила Пятая тетушка: помощник Ван прочтет свидетельство и спросит: «Как зовут?» — «Так-то». — «Сколько лет?» — «Столько-то». —«По собственному желанию?» — «По собственному». —«Почему выходишь за него замуж?», или: «Почему берешь ее в жены?» — «Потому что он (или она) хороший работник (или работница)... Одинаковые вопросы — одинаковые ответы. Все отвечали как по-писаному. Но что поделаешь, если таков порядок и без этого не выдают брачного свидетельства? На красной бумаге жених, невеста и свидетели ставили отпечаток пальца. Только двум парам было отказано в выдаче свидетельства; в одном случае причиной была чересчур большая разница в возрасте жениха и невесты, в другом — частые ссоры желающих вступить в брак. Подошла наконец очередь и наших молодых друзей. Яньянь подтолкнула к столу Айай: — Иди ты первая! Айай приблизилась к столу, но тут случилось непредвиденное. С ней рядом оказался у стола парнишка из деревни Сиванчжуан, и когда помощник управляющего попросил свидетельство, тот с готовностью протянул его. Пятая тетушка ахнула, ринулась вперед и схватила парнишку за руку: — Он все напутал, он ошибся, — кричала тетушка. — Нет, не ошибся, — заявил парнишка. — У каждого должно быть по свидетельству. А все случилось из-за Пятой тетушки — она забыла показать невесту жениху, когда стояли у ворот управы. Жених же про себя решил, что та, которая поменьше ростом, и есть его невеста. Не успел помощник управляющего разглядеть свидетельство, как вдруг увидел Сяо Ваня, который тоже подошел к столу. — Послушай, — обратился Сяо Вань к парнишке, — ведь сказано тебе, что ты ошибся, что же ты лезешь! Вон твоя невеста! — И Сяо Вань указал пальцем на Яньянь. Все находившиеся в комнате расхохотались. Помощник возвратил свидетельство парнишке и сказал: — Какой же ты жених, если не знаешь, которая твоя невеста? Воспользовавшись суматохой, Сяо Вань сказал: — Можно ли зарегистрироваться, если нет свидетельства? — А где оно? — спросил помощник Ван. — Управляющий гражданскими делами сельской управы не выдал нам свидетельства, — ответила Айай. — А вот Яньянь он выдал, хотя сама она его не стала получать, а поручила это своей матери. Нам же он отказал по той причине, что прочит меня в жены своему племяннику. — Вы из какой деревни? — Из Чжанцзячжуана. — Как тебя зовут? — Чжан Айай. Ван пристально взглянул на девушку. — Ты и есть Айай? — Да! Потом Ван перевел взгляд на Сяо Ваня и спросил: — А ты Сяо Вань? — Да! — Кто ваш свидетель? — Я! — откликнулась Яньянь. — Ты кто? — Я — Ма Яньянь. — А, значит, вы обе здесь! Как же ты можешь быть свидетельницей? — А почему я не могу? — Из сельской управы поступили сведения, что о вас идет дурная слава. Тут все трое спросили в один голос: — А где же доказательства? — Вы дружите давно друг с другом, — сказал помощник Ван. — Так что же в том плохого! — воскликнул Сяо Вань. — Неужто лучше, если жених не может признать невесту, а невеста — жениха, потому что ни разу не видели друг друга? Все дружно рассмеялись. Помощник Ван сказал: — Сигналами из управы мы не можем пренебречь, надо все тщательно проверить. Так что вам придется подождать. — Помощник Ван, — сказала тут Яньянь, — чего тут проверять? Пусть женятся. Жених женат ни разу не был, невеста не была ни разу замужем. Словом, все у них в порядке, и сюда они пришли по доброй воле. — Все равно я должен все проверить, поскольку был сигнал, — строго заявил помощник управляющего Ван и обратился к парнишке из деревни Сиванчжуан: — А ты давай сюда свое свидетельство. Пришлось и тетушке отдать свидетельство, которое было выдано Яньянь в сельской управе. После этого помощник Ван спросил мальчишку из Сиванчжуана: — Как тебя зовут? — Ван Дань. — Давно тебе сравнялось десять лет? — Пять лет... нет, десять лет назад! Ван Дань сказал вначале правду, но тут же спохватился, вспомнив, чему учила его сваха. — Так пять лет или десять лет назад? — переспросил помощник Ван. Ван Дань молчал. — Ты женишься по доброй воле? — По доброй воле. — Почему берешь ее в жены? — Она хорошая работница. Ван прочитал свидетельство Яньянь и обратился к ней: — Скажи, Яньянь, не знаешь ли ты точно, сколько Ван Даню лет? — Не знаю... — Как же это ты не знаешь? — не выдержала тетушка. — Не знаю. Ведь вы мне не сказали! «Вот дура, — негодовала про себя тетушка, не подозревая, что Яньянь нарочно так отвечает. — Ведь сказал же Ван Дань, что ему двадцать, могла бы то же самое повторить». А тут как на зло Ван Дань решил показать, что он уже взрослый и умный, и заявил: — Она и вправду не знает. Откуда ей знать? Мы живем в разных деревнях и ни разу не видели друг друга. — Я сразу понял, что ты никогда ее не видел, — сказал помощник Ван. — Иначе не перепутал бы с другой. Откуда же ты знаешь, что она хорошая работница? В общем, все ты врешь, мальчуган! И регистрировать я вас не стану. Во-первых, непонятно, сколько лет жениху, женитесь ли вы оба по доброй воле, а во-вторых, как можно регистрировать брак, если жених не знает, которая его невеста. Отправляйтесь-ка вы все домой! Теперь уже впятером они вышли из районного управления. Ван Дань пошел в свою деревню, а Пятая тетушка с тремя молодыми людьми в свою. Всю дорогу Пятая тетушка пилила Яньянь, а Яньянь хитрила, обвиняя тетушку в том, что та-де не научила ее правильно отвечать, Айай с Сяо Ванем ругали вовсю помощника Вана за тупость. Но Яньянь его защищала, утверждая, что он ничего, толковый. Часть пути все четверо прошли вместе, потом молодые ушли вперед, а Пятая тетушка плелась сзади. Яньянь полна была решимости и дальше помогать Айай и Сяо Ваню, а те, в свою очередь, обещали помирить Яньянь с Сяо Цзинем. Словом, молодые люди заключили, как говорится, «пакт о взаимопомощи».4. Кто же заслуживает критики?
Прежде всего жена должна быть красивой, а нравственность ее можно исправить. Так думал не только управляющий гражданскими делами в Чжанцзячжуане, так думали все жители этой деревни. Потому и удалось управляющему «испортить репутацию» взрослым девушкам, которые осмелились сами завести дружбу с парнями и за это прослыли «бесстыдницами». Но, как ни странно, у обеих девушек отбою от женихов не было, только они всем отказывали, чем вызывали еще большую злобу и пересуды. После того как в деревне стало известно, что произошло в районной управе, старики решили, что просто неприлично продолжать разговоры на эту тему, и пересуды сами собой прекратились. Желающие заполучить девушек в жены никаких иллюзий больше на этот счет не питали. Молодежь вслух повторяла то, что говорили взрослые, а в душе давно была на стороне Айай и Яньянь. Кое-кто из парней попытался было поухаживать за Айай, но сердце ее безраздельно принадлежало Сяо Ваню. Уверенные в своей правоте, Айай и Сяо Вань говорили: — Что плохого, если мы поженимся? И никто из сплетников и завистников ничего не мог возразить. Ярых противников брака по любви было трое: мать Яньянь, которая то умирала, то оживала, то впадала в отчаянье, управляющий гражданскими делами в деревне и, наконец, помощник управляющего Ван из района, болтун и формалист, который без конца твердил Айай и Сяо Ваню: «Проверим, там видно будет!» Из-за этих троих все дело и застопорилось. Из четверых родителей наших двух пар только мать Яньянь ни в какую не соглашалась на брак дочери с Сяо Цзинем, остальные придерживались нейтралитета. Но отправиться в уезд с жалобой на несправедливое решение низших инстанций они молодым людям не разрешали. И тем ничего не оставалось, как поносить всячески управляющего гражданскими делами сельской управы и злосчастного помощника Вана из района. Прошло два месяца. Молодые люди по-прежнему ругали своих обидчиков, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. И вот как-то вечером, в пору, когда сеяли просо, Сяо Вань зашел в кооператив. — Как дела с вашей женитьбой, Сяо Вань? — спросил его председатель с улыбкой. — В районе никак не разберутся с этим делом. Все проверяют. — Когда же закончат? — Лет через десять, а может быть, двадцать, — ответил Сяо Вань. — Ты терпеливый! — рассмеялся председатель. — А про новый закон о браке слыхал? Согласно этому закону вы можете пожениться хоть завтра! Сяо Вань подумал, что председатель шутит, и сказал: — Председателю кооператива так не пристало шутить! — А я не шучу, — уже без улыбки ответил тот. — Вот, посмотри, — сказал он и протянул Сяо Ваню газету. Уже из самого заголовка Сяо Вань понял, что председатель не шутит, и стал внимательно читать статью. Но председатель взял у него газету и стал сам читать вслух. Когда он кончил, все, кто был в комнате, заговорили наперебой: — Молодец Сяо Вань, твоя взяла. — Можешь хоть завтра идти регистрироваться. Прямо из кооператива Сяо Вань побежал к Айай. Согласно «пакту о взаимопомощи» Айай отправилась за Яньянь, а Сяо Вань за Сяо Цзинем. Все вчетвером они пошли к Айай и стали там совещаться. Яньянь не хотела расстраивать мать, намереваясь заранее ее подготовить, и решено было, что первыми зарегистрируются Айай с Сяо Ванем. — После того как вы поженитесь, легче будет уговорить мою мать, — сказала Яньянь. — Правда, по новому закону согласие ее не обязательно, но лучше все же пусть согласится. Все решили, что она права. Чуть не до полночи Сяо Вань с Айай обсуждали, что будут делать, если завтра помощник управляющего снова заартачится. Но опасения их были напрасны. Помощник Ван без всяких разговоров выдал им брачное свидетельство. А еще через день районная управа послала в сельскую управу извещение о том, что женитьба Сяо Ваня с Айай является первой в районе образцовой женитьбой, и просила сообщить о дне свадьбы. Активистов из района обязали присутствовать на брачной церемонии. После этого никто больше не осуждал Сяо Ваня и Айай, не считая заядлых консерваторов. Многие юноши и девушки охотно приняли участие в подготовке свадьбы. На свадьбу прибыли два районных активиста: секретарь районного управления и... сам помощник управляющего Ван. Активисты сельской управы явились на свадьбу в полном составе. Управляющий гражданскими делами заартачился было, но в районе ему сказали: «Другие активисты могут не присутствовать, а ты обязан». И он пришел. Во дворе у Сяо Ваня яблоку негде было упасть, столько набилось народа. Новобрачные встали на отведенное им место, и свадьба началась. Какой-то парнишка-смельчак, успевший невесть когда научиться новым порядкам, стал просить невесту, чтобы она рассказала о своей любви начиная с «любимой монеты». Айай сказала: — Что тут рассказывать? Я ему подарила колечко, а он мне — «любимую монету». Вот и вся история! После этого кто-то из парней сказал: — Что-то немного она нам рассказала! — Мало, мало!.. — закричали все. — Пусть поподробнее расскажет. — Нет, — возразила Айай. — Здесь не собрание по разоблачению помещика. — Мы пришли сюда с добрыми намерениями, — раздался чей-то голос, — а ты нас в дурном уличаешь. — Спасибо вам всем — и тем, кто помог, и тем, кто просто пришел, — сказала Айай. — Только не дергайте нас сегодня... О «любимой монете» мне больше нечего рассказать. Если хотите, расскажу о чем-нибудь другом. — Говори! Говори! Нам все интересно! — Расскажу о своей «плохой репутации». Знаете, кто мне ее испортил? Тот, кто чинил препятствия нашей женитьбе. Поженись мы год назад, давно ходили бы в порядочных. Красиво говорить у нас любят: «Выходить замуж и жениться нужно по своей воле». А кто в нашей деревне вышел замуж или женился по своей воле? Все женились по воле родителей. Айай говорила чистую правду, это понимал каждый, но как признаться в таком грехе при кадровых работниках района? — Говоря по правде, — продолжала Айай, — мы с Яньянь первые выходим замуж по доброй воле. Именно в этом и обвинял нас управляющий гражданскими делами, заставляя признаваться в своих ошибках. Потом встал Сяо Вань и с улыбкой обратился к управляющему гражданскими делами: — А выйди она за вашего племянника, ручаюсь, ей не пришлось бы признаваться в ошибках. Все рассмеялись, а секретарь районного управления спросил: — Скажи, Сяо Вань, какого ты мнения о помощнике управляющего Ване? — Помощник Ван человек хороший, только не отличает хорошее от плохого. Ему достаточно было услышать «по собственному желанию», чтобы тотчас же выдать брачное свидетельство. И уж совсем смешно спрашивать человека, почему он женится, если он вступает в брак по своей воле. Но все как по-писаному отвечали: «Потому что она хорошая работница». Сами подумайте: кто из молодых в деревне плохо работает? А нам, которые действительно хотели вступить в брак по собственной воле, помощник Ван сказал: «Поступил сигнал из сельской управы о том, что вы давно дружите друг с другом, поэтому нужна проверка». Опять смешно: если мы давно дружим, чего же еще проверять? Не это ли доказательство, что мы поступаем по своей воле? А то раньше получалось так: жених и невеста в глаза друг друга не видали, а говорят, что поступают по своей воле. Признаться, мы были злы на помощника Вана, ругали его. А потом перестали ругать, как только он нам выдал свидетельство. Вы уж не обижайтесь на нас, товарищ Ван, я правду сказал. — Правильно вы его ругали, — сказал секретарь районного управления. — И никто на вас обижаться не будет! А всякие слухи о вас распускали те, в ком еще сильны феодальные пережитки. Их надо постепенно изживать. Управляющийгражданскими делами хотел сосватать Айай за своего племянника, потому и не выдавал вам свидетельства. А это уже вмешательство в чужие дела. И если теперь, после опубликования Закона Центрального народного правительства, кто-нибудь позволит себе нечто подобное, он будет привлечен к уголовной ответственности. Помощник Ван тянул с выдачей свидетельства только потому, что не хотел серьезно отнестись к делу. А это самый настоящий бюрократизм. Вот мы и попросим его выступить в районе с самокритикой. Мы, коммунисты, обязаны следить за неукоснительным соблюдением Закона о браке Центрального народного правительства. И сюда мы пришли выслушать ваше мнение. — Он обвел взглядом всех присутствующих и продолжал: — Товарищи коммунисты, скажите, правильно нас критикуют? Правильно. Сколько мы за эти годы в районе и в селе заключили фальшивых браков? Сколько народу нас обвиняет в неправильных действиях? Мы должны исправить свои ошибки, чтобы не получить партийного взыскания и чтобы народ нас больше не ругал. Все дружно поздравили молодоженов. — Эти двое будут жить мирно. У них не повторится история Порхающей Бабочки, которую нещадно избивал муж! Даже старики и старухи одобрили этот брак. В тот вечер мать Яньянь велела дочери на следующий же день пойти с Сяо Цзинем в район и зарегистрироваться.Ли Чжунь
Ли Чжунь — известный китайский писатель. Родился 17 мая 1928 года в уезде Лоян (ныне — Мэнцзинь) провинции Хэнань. Детство провел в деревне, дед привил ему любовь к китайской классической литературе. Учился в средней школе, но не окончил ее. С пятнадцати лет начал трудовую жизнь — был подмастерьем, служил на почте, в банке, преподавал родной язык на общеобразовательных курсах для кадровых работников. Заработанные деньги тратил главным образом на книги, много читал, увлекся художественной литературой, историей. Творчеством начал заниматься с 1952 года, когда написал более десяти рассказов, составивших сборник «Продажа коня». В 1954 году вступил в Союз китайских писателей. Всего им написано свыше пятидесяти рассказов, десять киносценариев и шесть пьес, а также два сборника очерков. Важнейшие его произведения — рассказы «Не по тому пути» (есть также пьеса и киносценарий того же названия), «Тополя», «История Ли Шуаншуан», «Пахота облаков», повесть «Таяние снегов», пьеса «Местный специалист» и др. Основные сборники: «Ночью по Верблюжьему хребту» (1958), «Колея телеги», «Не по тому пути», «Когда цветут белым цветом камыши» (1959), «Два мерина» (1960), сборник киносценариев «В деревню» (1963). Официальная китайская критика неизменно высоко оценивала произведения Ли Чжуня, проникновенно отобразившего в своем творчестве жизнь китайского крестьянства. Отмечалось, что ему присуще пристальное внимание к психологии персонажей, раскрываемой через их поступки и действия. Тем не менее в годы «культурной революции» писатель подвергся гонениям и репрессиям. Его очередной сборник рассказов «История Ли Шуаншуан» увидел свет только в 1977 году. Широкую известность Ли Чжуню на родине и за рубежом принес его рассказ «Не по тому пути» (1953). Действие в нем развивается вокруг жизненного конфликта между новой деревенской действительностью, когда КНР еще шла по пути демократических и социалистических преобразований, и отсталым крестьянским сознанием. Правдив и убедителен конец рассказа: социалистическое мировоззрение, все больше и больше проникавшее в ту пору в жизнь китайской деревни, одно за другим разрушало старые представления о жизни. М. ШнейдерНЕ ПО ТОМУ ПУТИ
1
Последние дни только и было разговоров о том, что Чжан Шуань продает землю. Недаром говорит пословица: «Станешь лениться, будешь с сумой волочиться». Чжан Шуань мог жить безбедно: в семье у него всего четыре рта, а земли — десять с лишним му. Бросил бы он свои дурацкие затеи со скотом и обрабатывал как следует землю — хлеба и всего прочего у него было бы вдоволь. Но он уже пристрастился, как говорится, менять плеть на веревку. Нынешней весной обменял рыжего быка на осла, но ничего хорошего из этого не получилось, не прошло и десяти дней, как он продал осла и потерял на этом целых двести тысяч юаней. Собрался купить теленка — не хватило денег. Не раз деревенские активисты ему твердили: «Оставь, Чжан Шуань, свои затеи! Не доведут они тебя до добра, нищим останешься!» Но Чжан Шуань их не слушал. Недавно он одолжил миллион юаней у свояка, отправился в Чжоуцзякоу[11] и оттуда пригнал двух старых коров. А тут, как назло, перед самой уборкой урожая начались заморозки, цены на скот упали, продать их можно было только себе в убыток, а чтобы прокормить их, Чжан Шуаню пришлось занимать у соседей сено и другой корм. Лишь когда наступила пахота, ему удалось сбыть этих коров с рук, и то с большим трудом. Но оказалось, что он возместил лишь стоимость осла, а свояку так и остался должен несколько сот тысяч юаней. Влезть в долг немудрено. А как из него выбраться? Долг что пластырь: приклеится — не отдерешь. К тому же Чжан Шуань небогат. Сколько ни думал он, как выйти из положения, так ничего и не смог придумать. Свояк же каждый день приходил требовать долг, и всякий раз они ссорились. Чжан Шуаню все это надоело, и он твердо решил: «Продам «флажок»! Земля хорошая — охотники найдутся!» Участок земли, который собрался продать Чжан Шуань, по форме действительно напоминал флажок. Он прилегал к оросительному каналу и считался одним из наиболее плодородных в деревне. Все завидовали Чжан Шуаню, особенно во время сбора урожая. Но Чжан Шуань скрепя сердце решил продать именно этот участок в надежде, что его купят скорее, что за два му он получит более миллиона юаней, расплатится с долгами, а оставшиеся деньги пустит в оборот. К земле он не был привычен, работал без огонька, считал, что одним хлебопашеством не проживешь. Как только стало известно, что Чжан Шуань продает землю, вся деревня принялась об этом судить да рядить. Одни считали, что «флажок» купит этот, другие — что тот, но точно никто ничего не знал. После освобождения[12], правда, кой у кого завелись деньжата, но захотят ли именно эти люди покупать землю? Жили в деревне два середняка, которым такая покупка была бы по карману, но они прикидывались бедняками и вряд ли отважились бы на такой шаг. В конце концов все пришли к выводу, что землю купит Сун Лаодин. За последние два года он прочно встал на ноги. Его второй сын, Дунлинь, работал в городе плотником и каждый месяц присылал отцу по нескольку сот тысяч юаней. Лаодин давно поговаривал о том, что собирается прикупить немного земли. Но не все в это верили — ведь Дуншань, старший сын Лаодина, был коммунистом.2
Верно говорит пословица: «Глаз — что весы». Слухи про Лаодина подтвердились. В нынешнем году Сун Лаодин получил от своего сына Дунлиня восемь заказных писем подряд, и в каждое были вложены деньги. Эти-то деньги и не давали покоя старику. За всю его жизнь у него не было даже пары носков. Но он и теперь их не покупал, а только копил да копил деньги. Весной старший сын попросил денег на покупку бобовых жмыхов, но Лаодин отказал. А когда в бригаде взаимопомощи решили выкопать в низине колодец и Дуншань снова обратился к отцу за деньгами, Лаодин сказал: — Они мне самому нужны. Придет время — узнаешь зачем. Дуншань был парень такой: нет — и не надо. Он вовсе не думал вымогать у отца деньги, хотя понимал, что тот хочет прикупить земли. Стоило Сун Лаодину услышать, что Чжан Шуань собирается продавать землю, и он разволновался, как в день своей свадьбы, когда к воротам приблизился расписной паланкин с невестой. Почувствовал такую же тревогу и радость. Целыми днями слонялся он по деревне, прислушиваясь к разговорам, а однажды во время завтрака позвал Дуншаня к себе и стал выспрашивать: — Ну, что новенького? Продает Чжан Шуань землю? — Никто ничего не продает, — отрезал Дуншань. Отец замолчал, а Дуншань, покончив с едой, ушел. Вернулся он домой поздно ночью. Отец все еще сидел и попыхивал трубкой. Мать рядом дремала. — Тебя искал какой-то человек из района. Ты видел его? — спросил Лаодин у сына. — Видел, — ответил Дуншань. Он хотел еще что-то добавить, но передумал. А Лаодин с нетерпением дожидался сына. Он все же решил посоветоваться с ним относительно покупки земли. Дуншань — парень с норовом, но молод еще, и постепенно его можно урезонить. На какое-то время в комнате воцарилось молчание. Потом Лаодин снова заговорил. — Видел нынче Ван Лаосаня, — заметил он как бы невзначай. — Он говорит, что Чжан Шуань твердо решил продать свой «флажок». Я уже вдоль и поперек его исходил — чистый чернозем. При хорошем дождичке и навоза не потребуется. Лаодин жадно затянулся и продолжал: — Этот участок достался Чжан Шуаню во время земельной реформы. Мог бы достаться и нам. Но активистам не пристало спорить из-за какого-то клочка земли. — Он взглянул на Дуншаня и добавил: — Каждый му земли — великое дело для нашего брата крестьянина! Дуншань знал наперед, что скажет отец, и уже собирался ответить, но Лаодин, вздохнув, продолжал: — На что мне деньги? Они останутся вам с братом. Не вечно же мне жить! — Говорю тебе, что Чжан Шуань ничего не собирается продавать. Ван Лаосань врет, а ты слушаешь, — засмеялся Дуншань. — Не собирается! — усмехнулся Лаодин. — Этак, пожалуй, ему никогда не расплатиться с долгами! — Какие там у него долги! — возразил Дуншань. — Я непременно поговорю с ним на днях. Продать землю — это не выход из положения, — что, у Чжан Шуаня пятьдесят или хотя бы тридцать му земли? Десяти и то нет. Допустим, он их продаст, а дальше что будет делать? Чжан Шуань был таким же бедняком, как и мы. И сейчас, когда он попал в беду, ему надо помочь. А ты хочешь у него купить землю! Старик слышал толки односельчан о том, что раз Дуншань коммунист, он-де не имеет права покупать землю и давать деньги в долг. Потому, видимо, он и боится. Едва дослушав сына, Лаодин с досадой возразил: — Почему же не купить! Не купим мы — купят другие! Вспомни историю о том, как Чжоу Юй ударил Хуан Гая[13]. Все произошло по доброй воле и с обоюдного согласия. Так и с землей — один продает, другой покупает. Мы же не занимаемся вымогательством, не злоупотребляем твоим положением члена партии. Отчего же нам не купить землю? Ничего подобного Дуншань не ожидал от старика и воскликнул: — Ты что говоришь, отец! Конечно, продажа земли — личное дело каждого. Но Чжан Шуаню лучше не продавать землю. Ведь ему надо всего-навсего несколько сот тысяч юаней. Мы не можем безучастно смотреть, как разоряются люди. Я обещал одолжить ему пятьсот тысяч юаней... — Когда это вы столковались? — перебил сына Лаодин, в упор глядя на него налившимися кровью глазами. — Сегодня, — ответил Дуншань. Лаодин вскочил с места. Лицо его побагровело, жилы на шее вздулись. — Эти деньги заработал Дунлинь, а не ты! — в бешенстве закричал он. — Он, видите ли, обещал одолжить! Может, ты и меня с матерью в долг отдашь?! Старик схватил куртку и выбежал из дому. От шума проснулась мать. — У твоей сестры скоро свадьба! — с укором произнесла она. — Надо сделать кое-какие покупки. Я так просила денег у отца, так просила... Не дал. Все на землю копит. Чего же ты к нему пристаешь?3
Ничего необычного не было в том, что отец с сыном повздорили, но Сюлань, жена Дуншаня, заволновалась и выскочила во двор, чтобы уговорить свекра вернуться домой. — Не пойду, здесь посижу немного! — буркнул он и уже более мирным тоном добавил: — Не поднимай шума на всю деревню. Сюлань поспешила вернуться в дом. Дуншань лежал на кровати и вздыхал. — Злишься? — спросила она мужа с улыбкой, присев на край постели. — Чего мне злиться? — с деланным спокойствием ответил он. — Ты ведь знаешь, о чем мечтает отец, — с упреком в голосе продолжала Сюлань. — Он все давно рассчитал. Решил купить землю для младшего сына, пусть покупает. Тебя это не касается. — И ты туда же?! — вскричал Дуншань и резким движением сел на кровати. — Дело не в том, кто купит землю — мы или кто-то другой. Просто нельзя допустить, чтобы Чжан Шуань это сделал, — вот что главное! Как он будет жить без земли? Раз попал человек в беду, надо ему помочь. Так поступают коммунисты. — И уже более спокойно Дуншань продолжал: — Я знаю, что не до конца выполнил свой долг. Шел я мимо поля Чжан Шуаня, как раз перед самой уборкой, смотрю, не очень-то у него уродило. Все ведь знали, что Чжан Шуань не привык обрабатывать землю, но не помогли. Кто-то ехал мимо и говорит: «Погляди, какой хлеб! Тут, пожалуй, не соберешь и того, что посеял!» Меня будто по лицу хлестнули, когда я это услышал. А ты хочешь, чтобы я только о себе да о семье своей заботился! Член Союза молодежи называется! Эх, ты! — Что ты мне об этом говоришь? — воскликнула Сюлань. — Ты отцу скажи! Так все и объясни по порядку, вот как сейчас. — Ему не объяснишь. Я стал говорить, а он взял да убежал, — рассмеялся Дуншань. — Ты с отцом никогда двух слов не скажешь, — напустив на себя сердитый вид, заявила Сюлань. — Где такое видано? Хоть бы часок посидели вместе, поговорили. А то ты так: не успел проглотить кусок — и на улицу. Не успел глаза продрать — бежишь в волостное управление. Вот и получается: ты — коммунист — сам по себе, а твой отец — крестьянин — тоже сам по себе. Как же ты можешь требовать, чтобы он делал по-твоему? Неудивительно, что вы разругались. — Ты, кажется, поучаешь меня, — снова засмеялся Дуншань, который про себя не мог не согласиться с женой. Сюлань хотела ответить мужу, но в это время во дворе послышались шаркающие шаги Лаодина, и Дуншань сделал жене знак молчать. Он слышал, как отец вошел в дом, как заговорила с ним мать, но разобрать слов не мог. Потом до Дуншаня донесся голос старика: — Решил дать взаймы — пусть дает, если у него есть деньги! Скажите какой богач нашелся! — Слышишь? Это в твой огород камешек, — толкнув мужа в бок, прыснула Сюлань.4
Над горизонтом всплыло багровое солнце. В этот утренний час в деревне было безлюдно, лишь с поля едва слышно доносилось мычание коров. Лаодин не пошел в поле. Всю ночь он ворочался с боку на бок и думал о покупке земли. А как только рассвело, отправился к Ван Лаосаню. До освобождения Ван Лаосань служил приказчиком у помещика. Он постоянно болтался по деревне и слыл «деловым человеком». Последнее время односельчане его как-то не замечали. Но он умел подлаживаться к людям: старикам и старухам гадал по древним гадательным книгам, а перед активистами лез из кожи вон, чтобы показать себя передовым человеком. Раньше, попадись ему навстречу Сун Лаодин, он и не взглянул бы в его сторону, теперь же, когда крестьяне пошли за его сыном Дуншанем, Ван Лаосань, встречаясь со стариком, всячески стремился подчеркнуть свое особое к нему расположение. Когда же Сун Лаодин, решив купить землю, обратился к нему за советом, Ван Лаосань челноком засновал по деревне. Едва только Сун Лаодин переступил порог его дома, Ван Лаосань выбежал ему навстречу. — А! Старший брат! — залебезил он перед гостем. — Еще вчера я собирался к тебе зайти. Дело-то с Чжан Шуанем на мази! — А говорят, он не собирается продавать, — пробормотал Лаодин. — Не продаст сегодня, продаст завтра. Уж я постараюсь. Чжан Шуань хотел еще занять денег, но я сказал ему: «Брось дурить! Раз задумал продавать — продавай! Нельзя быть таким нерешительным! Ну хорошо, еще влезешь в долг — ведь все равно отдавать придется!» — И Ван Лаосань зашептал на ухо Лаодину: — Слово даю, земля будет твоей. Стоит она недорого, и на будущий год, после первого же урожая, ты возместишь половину своих расходов. Лаодину противно было смотреть на воровато бегающие глаза Ван Лаосаня, и он ответил: — Не могу же я в самом деле заставить Чжан Шуаня продать землю. — Послушай, брат! — воскликнул Ван Лаосань, похлопывая Лаодина по плечу. — Нечасто выпадают такие случаи, так что ты не зевай! Сейчас у тебя почти двенадцать му, прикупишь еще с десяток — сможешь нанять работника! Хватит! Потрудился ты на своем веку, теперь и отдохнуть можно, — он угодливо хихикнул. Лаодин слушал Ван Лаосаня молча, опустив глаза. В голове у него гудело. «Неужели я стану нанимать работников? — думал он. — Ведь я сам восемнадцать лет пробатрачил!» Выйдя на улицу, Лаодин вспомнил, как в свое время тот же Ван Лаосань старался изо всех сил угодить помещику, скупая для него землю. Вспомнил он также о том, как сам гнул спину на помещика. Во время уборки хозяйские надсмотрщики не спускали глаз с батраков, а работать надо было от зари до зари. Ван Лаосань стоял тут же, обмахиваясь веером... Сун Лаодин плюнул со злости: — И родился же такой на свет! Как только его земля носит! Лаодин шел медленно вдоль деревни и в конце концов пришел в поле. Прямо перед ним рядами высились скирды соломы. Он огляделся и подумал: «Мне бы прикупить эти несколько му земли, а на будущий год посмотрим, у кого скирды будут больше». И он представил себе скирды, которые непрестанно растут, множество людей, работающих в поле... На поле Чжан Шуаня наоборот — скирды становятся все меньше и меньше... Тут Лаодин вспомнил, что у Чжан. Шуаня полон дом детей. Вот они бегут к отцу, эти худые, изможденные дети... Он резко повернулся и пошел домой. Сюлань со свекровью пекли на кухне лепешки и оживленно беседовали. Лаодин услышал, как сноха сказала: — У нашего отца замашки старые... — Да разве он не о вас заботится! — возмутилась старуха. — Ведь он одной ногой уже в могиле. Как же ему не беспокоиться о вас? — А нам не надо, чтобы о нас беспокоились, — засмеялась Сюлань. — Сейчас мы в бригаде взаимопомощи, а на следующий год вступим в кооператив, если его организуют, и будем обрабатывать землю машинами. Тогда нам не придется думать о куске хлеба. У Лаодина при этих словах даже усы торчком встали от гнева. Он думал, только сын у него неслух, а оказалось, и сноха не лучше. Когда за обедом Сюлань принесла еду, Лаодин сделал вид, что не замечает ее. — Ешь, отец, а то все остынет! — сказала ему Сюлань. Лаодин притворился, будто не слышит, а немного погодя сказал жене: — Не буду я обедать! Пойду на рынок, там поем мяса! Он схватил со стола несколько лепешек и, задыхаясь от гнева, крикнул: — Разве не для вас я все это наживал? Весь век тянул лямку, а теперь я же и не хорош! Глаза его метали молнии, а Сюлань едва сдерживала смех, отвернувшись к стене. Лаодин в самом деле отправился на рынок и закусил там, но не мясом, а бобовым сыром с пампушками.5
У Лаодина и Дуншаня была одна общая черта характера: чем больше они сердились друг на друга, тем с большей злостью работали, но за целый день могли не обмолвиться ни единым словом. Дуншань обещал людям дать весной телегу попользоваться, Лаодин же наотрез отказался, и отец с сыном поссорились. Они не разговаривали друг с другом целых десять дней, хотя Лаодин грозился выдержать характер, по крайней мере, полмесяца. Как-то под вечер, когда Дуншань с партийного собрания вернулся домой, Лаодин задавал корм быкам. Старик сделал вид, что не замечает сына, и продолжал заниматься своим делом. — Отец! — неожиданно обратился к нему Дуншань. — А не засеять ли нам поле горохом после уборки хлеба? Лаодин растерялся — он никак не ожидал, что сын с ним заговорит, — и взглянул на него. Дуншань улыбался. Улыбка была смущенной, и старик понял, что сын ищет примирения. — Пожалуй, ты неплохо придумал! — чуть помедлив, ответил Лаодин. — На этой земле и надо сеять бобовые. Лаодин уселся посреди двора на камне, на котором женщины обычно стирали белье. Ему почему-то показалось, что сын уже согласен на покупку земли, и он нерешительно произнес: — Ты еще молод и не понимаешь, как важно для нас прикупить этот небольшой участок. Ведь земля для крестьянина — это все. А я пока не могу выделить тебе и брату даже по восемь му. Вот и ноет у меня сердце... Ну чего ты боишься? Никто обо мне дурного не скажет. Не все же есть черные лепешки. Пора и о белых подумать! Да что там говорить! Если каждый год засевать пшеницей еще несколько му, хлеба будет по горло. — А у нас и сейчас хлеба хватает, — заметил Дуншань и опустился на корточки. — Хватает-то хватает! Но пусть лучше его будет побольше. Чувствуя, что отца не переубедить, Дуншань заговорил об урожае. — Как ты думаешь, — спросил он, — сколько мы соберем зерна на восточном поле? — Да не меньше тысячи триста — тысячи четыреста цзиней[14], — прикинув, ответил Лаодин. Дуншань знал: если сказать отцу, что у других хлеба лучше, тот лопнет от зависти. Тем не менее он не удержался: — У Линь Вана в этом году соберут с каждого му по целому даню[15]. А у крестьян из бригады взаимопомощи на всех девятнадцати му пшеница во какая ядреная! Колос в колос! Да и выше нашей на целую четверть. От таких речей Лаодину всякий раз становилось не по себе. Так было и сейчас. Он крякнул и сказал: — Не пожалеешь удобрений — земля тебе сторицей воздаст. Поле не прислужник в храме, которому таскают подношения, и все без пользы. — Это верно, только мы ничем не удобряли землю, — быстро проговорил Дуншань. — Весной надо бы истратить каких-нибудь сто — двести тысяч юаней на удобрения — и зерна собрали бы цзиней на пятьсот больше. Так они и беседовали. Лаодин пытался завести речь о покупке земли, а Дуншань переводил разговор на весенние работы. Наконец все же старику удалось коснуться интересующей его темы. — Одними удобрениями не обойдешься. Надо еще знать, что за земля. Когда-то участок Линь Вана, о котором ты говоришь, был нашим. Там сплошной чернозем, вот и родит хорошо. Я-то знаю! — Зачем же тогда мы его продали? — невольно вырвалось у Дуншаня с обидой, но он тут же спохватился, что отец неправильно истолкует его слова. — Не обижайся на отца, — сказал Лаодин, взглянув на сына, и со вздохом продолжал: — Как вспомню об этом, так в дрожь бросает. В сорок третьем году мы не собрали ни одного урожая, а тут, как на грех, мать целый месяц болела. В это же время меня рассчитал помещик, и мне оставалось лишь толкать тачку с углем. Все, что я зарабатывал, шло на лекарства для матери. Ты был тогда совсем еще маленький... Отчего, думаешь, умерла твоя сестренка? Мать не вставала с постели, и мне приходилось с малышкой на руках каждый день бегать в поисках молока. Хотел я взять бабушку к нам, да самим было нечего есть. Так я и ходил за больной, а чуть свет отправлялся развозить уголь. Вот и случилось несчастье, девчушка умерла... При этих словах глаза у Лаодина покраснели. Он помолчал немного, а затем, стиснув зубы, продолжал: — Пока твоя мать болела, мы по уши увязли в долгах. Сначала задолжали помещику пять шэнов[16] хлеба, а после сбора урожая долг вырос до целого доу[17]. И пришлось тогда продать наши четыре му земли Хэ Лаода, но вырученных денег хватило лишь на лекарства. — Лаодин опустил голову. — В тот год я отдал тебя в ученье к жестянщику. А было тебе всего тринадцать годков! Лаодин украдкой взглянул на сына. — Неужели нам тогда никто не помог? — спросил Дуншань. — Помог! Волостное управление драло с бедняка три шкуры. А у богатеев было одно на уме — вконец разорить нашего брата! Сейчас совсем другое время... — Лаодин осекся. Дуншань понял, как тяжело на душе у отца, и проговорил со вздохом: — Чжан Шуаню теперь так же трудно, как было тогда нам. Но случись с нами такая беда сейчас, нам не пришлось бы продавать землю. Партия учит: если ты работаешь добросовестно и усердно, правительство и народ всегда придут тебе на помощь в трудную минуту. Коммунисты хотят, чтобы со временем все жили хорошо. И мы не должны оставаться равнодушными, когда кому-нибудь из односельчан приходится туго. Лаодин не проронил ни слова. Кровь бросилась ему в голову, в висках застучало. Дуншань видел, как взволнован старик. — Отец! — сказал он мягко. — Раньше помещики только и думали, как бы разорить бедняка. Но теперь — ты сам говоришь — время не то и все помогают друг другу. Всю свою жизнь ты был бедняком, и не мне объяснять тебе, что значит для крестьянина продажа земли. Пойми, идти по пути помещиков мы не можем! Лаодин по-прежнему хранил молчание.6
Вдоль поля тянутся ряды деревьев. Их густая листва образовала сплошной зеленый шатер. На тонких ветвях висят еще не спелые плоды хурмы. В голубой вышине ни облачка. Сун Лаодин, разувшись, сидит на пригорке в тени деревьев и смотрит на поле. Там, словно наперегонки, буйно тянутся вверх осенние хлеба. Раскрывшиеся колосья гаоляна напоминают маленькие зонтики и переполнены круглыми, как жемчужины, зернами. — Обработаешь землю как следует, и впрямь один му двух стоит, — громко произнес Лаодин и снова вспомнил о том, что занимало его уже много дней. Нет, он не успокоится, пока не прикупит несколько му земли. По крайней мере, он сможет дать Дунлиню, когда тот выделится, му этак десять — двадцать. Рано или поздно внуки вспомнят о нем и скажут: «Вот сколько у нас земли благодаря нашему деду!» Пусть знают, что дед их был настоящим хозяином. Ему снова пришли на ум слова Ван Лаосаня: «И на будущий год, после первого же урожая, ты возместишь половину своих расходов!» Земля никогда не бывает лишней. Участок Чжан Шуаня — один из лучших в деревне. Никак нельзя упускать такого случая. Лаодин поднялся и быстрыми шагами направился к полю Чжан Шуаня. Судя по всему, Чжан Шуань собирался засеять свой участок пшеницей. Однако земля еще не была вспахана по второму разу. Вздыхая, смотрел Лаодин на сорняки, обильно покрывавшие поле. Потом набрал горсть земли. Черная и маслянистая, она так и манила к себе. — Я должен во что бы то ни стало купить этот участок, — произнес он вслух и оглянулся, как бы опасаясь быть услышанным. Он зашагал вдоль поля: надо самому измерить, действительно ли во «флажке» два му и четыре фэня. Лаодин стал усердно отсчитывать шаги от угла участка и вдруг заметил в самом центре его небольшой желтый холмик, сплошь поросший колючками. Сердце у Лаодина забилось сильнее, это была могила отца Чжан Шуаня. Он старался не смотреть на холмик, но не мог оторвать от него взгляда. Перед глазами всплыл образ старого Чжана, умершего за год до освобождения. Всю жизнь Чжан тянул лямку, а когда умер, у семьи не оказалось и клочка земли, чтобы предать погребению его прах. Два года покоились его останки в разрушенной шахте, и только после земельной реформы сын его, Чжан Шуань, захоронил прах отца на своей земле. Все это Лаодин знал. Вспомнил он также, как перед смертью старый Чжан сказал сыну: «Если у тебя когда-нибудь будет своя земля, схорони меня в ней. Не будет своей земли — не надо вообще хоронить. Не хочу, чтобы мои старые кости лежали в помещичьей земле». А какие страдания выпали на долю самого Лаодина за долгие годы жизни до освобождения. В носу у старика защекотало, на глаза навернулись слезы, и он, так и не обмерив «флажок», быстро зашагал прочь. Неподалеку от деревни он встретил старого Чан Шаня, который вез в тележке два мешка пшеницы. — Что, на базар продавать? — спросил Лаодин. — Нет, это я Чжан Шуаню везу, взаймы, — с улыбкой ответил Чан Шань. — Говорят, он собирается плести циновки. Пусть продаст это зерно в кооператив, а на вырученные деньги купит тростника. — Видно, ты много пшеницы собрал в этом году! — невольно вырвалось у Лаодина. — Много не много, а на пропитание хватит. Чего хлеб копить! Я ведь не собираюсь покупать землю!7
После ужина Лаодин вышел во двор и сел под высоким деревом. Тускло светила луна. Пели цикады. Лаодина все раздражало: и пенье цикад, и звон посуды, голоса и смех Сюлань и его жены, доносившиеся из кухни. — Безобразие! Нигде покоя нет! — ворчал Лаодин. Но вскоре мысли его снова вернулись к земле, и он забыл обо всем на свете. Кто-то вошел во двор, позвал Дуншаня. — Он в волостном управлении, — откликнулся Лаодин. Узнав по голосу Чжан Шуаня, поднялся ему навстречу: — Заходи, Чжан Шуань, посидим немного. — Нет, нет! — пробормотал Чжан Шуань и быстро пошел со двора. «Этот дурень словно волка увидел!» — подумал Лаодин и медленно вошел в дом. — Ну так что, продает этот Чжан Шуань свою землю или не продает? Может, ты собираешься ему дать взаймы? — спросила жена. — Не продает! — буркнул Лаодин. — А взаймы мне ему давать незачем. Бригада взаимопомощи ему даст, хватит с него! В это время со двора донеслись голоса. Лаодин прислушался: разговаривали Дуншань с Чжан Шуанем. — Пойдем, посидим у меня! — сказал Дуншань. Они вошли в дом, и вскоре за перегородкой послышался шепот. Лаодин нахмурился, бросил взгляд на жену и тихонько направился к двери, предусмотрительно сняв за порогом туфли, чтобы не скрипели. Выйдя во двор, старик встал под окном у сына и услышал, как тот сказал: — Так оно и бывает. Когда человек испугается трудностей — он ничего уже не может решить. А у меня тогда и вправду не было выхода. Но, как говорится, «хочешь избавиться от нарыва, не бойся и вскрой его». И я решил продать землю. А потом думаю: мне терять нечего, сгоняю-ка я еще разок в Чжоуцзякоу, куплю что-нибудь подходящее и, может, вылезу из долгов. — Тебя все на легкую наживу тянет! — ответил Дуншань. — Разве можно не трудиться? Сейчас не старое время. Ты вот поплети несколько месяцев циновки да как следует обработай и засей свою землю, тогда тебе незачем будет заниматься перепродажей скота! И не сторонись людей, прислушивайся к ним. — Спасибо тебе на добром слове, Дуншань, запали мне твои речи в душу. Да и жена твоя уговаривала меня не продавать землю. Страшно, когда не с кем посоветоваться. А друзья помогут найти выход из любой беды. Это ведь благодаря тебе старый Чан Шань занял мне пять доу пшеницы и сказал: «Бери, Чжан Шуань! С кем беды не случается». — Ты не узнавал, может кредитное общество ссудить тебе двести тысяч юаней? — Управляющий не возражает. Но говорит, ссуду дают только на три месяца. Мне надо сейчас еще тысяч двести — триста. Может, выручишь? Лаодин тяжело вздохнул. — Моего отца не переспоришь! Ему ведь уже перевалило за шестьдесят. Не хочу его расстраивать. Жизнь у него была тяжелая, сам знаешь. И сейчас, когда ему удалось скопить немного денег, неудивительно, что он трясется над ними. Но будь уверен! Коммунисты не допустят, чтобы ты разорился, чтобы вместе с детьми оказался на улице. Я соберу членов бригады взаимопомощи, поговорю с народом, и мы сообща поможем тебе. «Плохо, значит, я знаю своего сына. Мне бы в голову не пришло, что он не хочет меня расстраивать», — подумал Лаодин. — Ты не бойся, выкрутишься, — продолжал между тем Дуншань. — Дядюшка Чан Шань дал тебе немного пшеницы, кредитное общество поможет и наша бригада взаимопомощи тоже. Ты будешь делать циновки, попрошу кого-нибудь поговорить с твоим свояком, чтобы пока оставил тебя в покое. А ты тем временем заработаешь кое-что и постепенно выплатишь ему долг. Вот и дело с концом! — Я знаю, Дуншань, — раздался взволнованный голос Чжан Шуаня. — Ты не любишь пустой болтовни. Но поверь мне: в деревне все, от мала до велика, знают, что ты за человек. Ты коммунист, и все говорят о тебе только хорошее. — И, понизив голос, добавил: — Всем известно, что отец твой человек темный, и никто не станет из-за него на тебя обижаться. Последние слова он произнес совсем тихо, но Лаодин их отчетливо слышал. — За последние два года мой отец изменился к лучшему, — возразил Дуншань. — Помнишь, как я поругался с ним в позапрошлом году, когда вступал в бригаду взаимопомощи? Я своего добился, и это главное. Мелкие раздоры между мной и отцом — чепуха, тем более что трудится он изо всех сил. Вот я и подумал, что ссориться с ним, как это бывало раньше, не годится... Знаешь, — продолжал Дуншань, — я долго уговаривал отца не покупать твою землю, и вчера он наконец согласился со мной. «Нельзя нам покупать землю у Чжан Шуаня, — сказал он. — Давно еще мы вместе с его отцом несколько лет кряду таскали уголь — ведь оба бедняками были». Но деньги дать в долг он боится. — Дуншань рассмеялся. — Я-то знаю дядюшку Лаодина, — быстро проговорил Чжан Шуань. — Он человек справедливый. Ему самому когда-то пришлось поставить крестик под договором о продаже земли, и он хорошо знает, что это значит для крестьянина. Мой отец часто говорил: «Только после смерти увидим мы с дядюшкой Лаодином землю». Кто тогда знал, что с приходом коммунистической партии все так изменится? Если бы отец мой дожил до наших дней... Лаодин не мог больше слушать, смахнул рукой набежавшие слезы, вернулся в дом и упал на постель.8
Ясное августовское утро свежо и прозрачно, как вода в осенней реке. Ветер доносит до крестьян, убирающих урожай, аромат созревших хлебов, отчего сердца их переполняются радостью. Лаодин поднялся ни свет ни заря и отправился в поле, чтобы поговорить с сыном о делах. Старик решил вырыть в низине колодец, а после осенних работ поставить водяное колесо. Когда он шел вдоль гаолянового поля, навстречу ему попался Чжан Шуань. Лаодин хотел было заговорить с ним, но тот поспешно нырнул в гаолян. — Эй, Чжан Шуань! Погоди! Я хочу тебе что-то сказать! — громко крикнул Лаодин. Чжан Шуаню ничего не оставалось, как подойти к старику. — Заходи вечерком. Я дам тебе взаймы тысяч триста, — одним духом выпалил Лаодин. — Мне? — вытаращил глаза Чжан Шуань. — Да, тебе. Я ведь не собираюсь покупать твою землю. Только запомни: если не будешь трудиться как следует — опозоришь доброе имя отца! Старик повернулся и пошел на восток, навстречу восходящему солнцу. 1953Цзюнь Цин
Цзюнь Цин (Сунь Цзюньцин) — известный китайский писатель. Родился в марте 1922 года в деревне Силоуцзы уезда Хайян провинции Шаньдун в семье крестьянина-бедняка. Учился в начальной школе, с тринадцати лет батрачил на помещика. Во время антияпонской войны Сопротивления начал участвовать в революционном движении, в местном демократическом правительстве ведал вопросами народного просвещения. Упорно занимался самообразованием. Первые рассказы написал, будучи военным корреспондентом на революционных базах родной провинции — «Метельная ночь» (1941), «На горе Машишань» (1942). Они посвящены борьбе китайского народа против японских захватчиков и гоминьдановских предателей. В 40-е годы Цзюнь Цин — корреспондент и редактор местных газет, военный корреспондент агентства Синьхуа, командир небольшого отряда в тылу противника. Начиная с 1948 года он в составе частей Народно-освободительной армии участвовал в освобождении всего континентального Китая от гоминьдановских полчищ. В начале 50-х годов он снова в родном Шаньдуне, где занимается проведением демократических преобразований на селе, затем в Шанхае возглавляет оперативную группу по борьбе с контрреволюцией. Непосредственное участие в боевых действиях, в осуществлении аграрной реформы дало писателю богатейший материал для создания нового цикла рассказов: «Рассвет над рекой», «Дядюшка Буйвол», «Анкета коммуниста», «Старый связной» и других, составивших сборник по названию первого рассказа (1955; в русском переводе — 1957), о самоотверженной борьбе китайских тружеников за новый Китай. После поездки в Чехословакию, Польшу и другие страны писатель опубликовал серию очерков, вошедших впоследствии в книгу «Письма о путешествии в Европу» (1956). С 1957 года Цзюнь Цин — секретарь Шанхайского отделения Союза китайских писателей, делегат III съезда Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства (1960 г.), на котором избирается членом правления писательского союза страны. Он активно сотрудничает в литературно-художественных журналах «Жэньминь вэньсюэ», «Цзефанцзюнь вэньи», «Шанхай вэньи», в которых печатаются его рассказы «Горный сокол», «Ма Да» и другие, вышедшие затем в виде сборника под названием «Буревестник». Вскоре выходят также сборники рассказов «Последний доклад», «Записки о Цзяодуне» и сборник очерков «Осенние краски» (1959). В годы «культурной революции» Цзюнь Цин, как и большинство китайских писателей, был репрессирован и полностью отстранен от творческой деятельности. Только в 1978 году, после реабилитации, он смог опубликовать сборник рассказов «Вал гнева» и закончить роман «Рокот моря». М. ШнейдерРАССВЕТ НАД РЕКОЙ
Несколько лет тому назад меня удостоили звания Героя якобы за то, что я изменил весь ход боев в тылу врага на Чанвэйской равнине провинции Шаньдун, проявил чудеса храбрости и упорства, за какие-то особые организаторские способности и таланты. Но я-то сам хорошо знаю, что один человек, будь он хоть семи пядей во лбу, не в силах ничего изменить без поддержки народных масс. В подтверждение этого я мог бы привести не одно доказательство на примере тех же боев на Чанвэйской равнине, но обращусь лишь к событиям одной ночи, когда, получив приказ возглавить борьбу на восточном берегу реки Вэйхэ в провинции Шаньдун, я пробирался туда от Юнъаня через районы, занятые противником. Я не погиб от пули врага и не утонул в реке, лишь благодаря Маленькому Чэню, поэтому всякий раз, как речь заходит о славных боевых делах, я первым делом вспоминаю об этом человеке. Вы спросите: «Кто такой Маленький Чэнь?» Чэнь — это его фамилия. А имени я, увы, не знаю. Но это совершенно не важно. Мы храним в памяти множество безыменных героев. Мы не забудем их никогда! Итак, позвольте начать мой рассказ.1
Стояла осень тысяча девятьсот сорок седьмого года. Гоминьдановские полчища, наступавшие на освобожденный район провинции Шаньдун, уже проникли в самое сердце полуострова. Чанвэйская равнина стала глубоким тылом противника. Головорезы из «возвращенцев» — так назывались отряды помещичьего ополчения — повсеместно грабили и убивали крестьян. Из районных и уездных учреждений спешно создавались отряды самообороны, под ружье становился каждый способный носить оружие и тут же шел в бой. Я работал в то время в Сихайском военном районе. И вот как-то вечером, примерно в начале одиннадцатого, начальник политотдела Чжан прислал за мной человека. Чжана я застал в его комнате. Он стоял у распахнутого настежь окна, устремив взгляд в непроглядно темное небо. Выбившиеся из-под фуражки седые волосы при свете лампы блестели, будто серебряные. Мрачный вид Чжана говорил о том, что случилось несчастье. — Слышали, что произошло за рекой на востоке? — заговорил он наконец, молча кивнув мне. — Нет, не слышал, — ответил я. — Первый отряд самообороны разгромлен, — произнес он чуть слышно. — Ма Ханьдун и Лю Цзюнь — оба погибли! Это известие было для меня словно гром среди ясного неба. Потрясенный до глубины души, я долго молчал. Первый отряд был одним из лучших наших отрядов, а с Ма Ханьдуном и Лю Цзюнем меня связывала многолетняя дружба. Еще во время антияпонской войны мы бок о бок сражались в партизанском отряде на территории пограничного района Хайян-Лайян провинции Шаньдун. Позднее, уже в районе Чанъи-Вэйсянь, они действовали южнее города Чанъи. Ма Ханьдун со своим отрядом был грозой для гоминьдановской агентуры, полностью парализовал ее действия. Когда противник, захвативший освобожденный район на востоке провинции Шаньдун, снова вошел в Чанъи и превратил все правобережье за рекой Вэйхэ в свой плацдарм, сплошь прочерченный линиями коммуникаций, командование перебросило первый отряд на этот чрезвычайно ответственный и трудный участок. Теперь отряд действовал вдоль шоссе Чифу — Вэйсянь, постоянно держа под контролем эту наиболее важную коммуникацию противника. Бойцы уничтожали вражеские автомашины, перерезали линии связи, совершали налеты на отряды помещичьего ополчения. И вдруг такая неожиданность — отряд разгромлен! Это никак не укладывалось у меня в голове. — Предательство! — услышал я гневный голос Чжана. — В отряде оказался предатель. Лагерь был окружен противником, бой длился целые сутки... И вот отряд разгромлен... Начальник умолк и курил сигарету за сигаретой, жадно затягиваясь и по-прежнему силясь проникнуть взглядом в ночную мглу за окном. — Товарищ Яо, — вдруг произнес он, повысив голос и резко повернувшись ко мне. — Вам надлежит принять командование первым отрядом. Вашим помощником назначен товарищ Ян. В путь отправляйтесь сегодня же ночью. Немедленно приступайте к формированию отряда, наведите должный порядок и продолжайте действовать. Ваши соображения? Он внимательно, изучающе смотрел на меня, и в глазах его светилась безграничная вера в мои силы, светилась надежда. Какие соображения мог я высказать? Обстановка была предельно ясна: правобережье нужно было во что бы то ни стало отвоевать — вновь сформировать отряд и продолжать борьбу. В такой тяжелый момент партия возложила на меня трудную и почетную задачу, оказав мне тем самым огромное доверие! И это доверие я должен был оправдать, должен был отомстить за своих боевых друзей и освободить жителей правобережья, стонущих под игом врага. На этом пути меня не страшили никакие трудности. Обменявшись рукопожатием с начальником политотдела, я отправился к Яну. Не задерживаясь ни на минуту, мы вышли по направлению к реке. В то время наши части и учреждения располагались в районе местечка Юнъань, западнее города Чанъи. Чтобы переправиться на восточный берег реки Вэйхэ, нужно было пересечь район в сорок с лишним ли, где на каждом шагу встречались опорные пункты гоминьдановских войск и отряды помещичьего ополчения. Проскочить этот участок представлялось возможным только ночью. Поэтому мы прибавили шагу и решили принять все меры к тому, чтобы переправиться через Вэйхэ еще до рассвета. Однако ни я, ни Ян дороги не знали, а ночь выдалась темная — хоть глаз выколи. На небе — ни звездочки: судя по всему, собирался дождь. Ночью да еще в непогоду легко сбиться даже со знакомой дороги. А нам надо успеть до рассвета переправиться на восточный берег. И я решил взять проводника. Командир отряда разведки и связи нашего штаба Ли сказал, что бойцов отделения связи часто посылают с заданиями на восточный берег и они уже изучили туда дорогу. Но сейчас в отделении никого нет, один сяогуй[18]. И Ли его вызвал. Небольшого роста, круглолицый, с большими глазами, ему было не больше семнадцати. На подбородке тонкий длинный шрам, видимо оставшийся от пулевого ранения. Сразу было видно, что воин он бывалый. Увидев нас, он вскинул автомат на грудь и отдал честь. Затем отошел в сторонку и, как мне показалось, не без робости стал исподтишка оглядывать нас с Яном. — Маленький Чэнь! — командир ласково потрепалего по плечу. — Это товарищ Яо — командир отряда, а это товарищ Ян, его помощник. Сегодня ночью они должны во что бы то ни стало попасть на восточный берег. Ты будешь их сопровождать. — Есть! — звонким голосом откликнулся Маленький Чэнь. «Тщедушный, совсем еще ребенок, — подумал я, — справится ли он со своей задачей, ведь обстановка сложная». — Все будет в порядке товарищ Яо! — рассмеялся Ли, словно угадав мои мысли. — Вы не смотрите, что он совсем юный. Он ветеран отделения связистов. Дорогу знает отлично. Его семья живет на западном берегу реки, отец и мать у него коммунисты. Они вас и переправят.2
По узкой тропинке между полями мы двинулись на восток. Вокруг стояла непроглядная тьма, будто земля и небо слились воедино. Ни звездочки не было видно. Все объял глубокий сон. Вдруг где-то на северо-западе чуть слышно прогремел гром, словно с трудом прорвался сквозь толщу туч. Вслед за раскатом грома вдали, тоже в северо-западной стороне, среди облаков, похожих на хлопья ваты, мелькнула молния. Было так душно, что несмотря на позднюю ночь, на ивах, то здесь, то там росших в степи, застрекотали цикады; от земли потянуло сыростью — все предвещало ливень. Это внушало серьезное беспокойство. Ведь начальник политотдела предупреждал: противник подтянул к равнине дивизию из района Дацзэшань и собирается развернуть карательные действия. До этого надо успеть сформировать отряд, иначе удержать партизанский край будет очень трудно, да и над местным населением гоминьдановцы учинят зверскую расправу, не говоря уже о том, что нам не удастся вынудить противника вести бои на два фронта — с партизанскими и армейскими частями. На сформирование отряда остается всего три дня. Таким образом, во что бы то ни стало необходимо переправиться через реку сегодня, ни на день позже! Поднялся ветер. Он дул с дальних морских отмелей на северо-западе, нежно трепал одежду ночных путников, играл сухими листьями на дороге. Затем с легким вздохом пронесся над степью, а еще через мгновение стал крепчать. Как бешеный налетел на поля, пригнув к земле гаолян по обеим сторонам дороги, с треском обламывая сухие ветки. Где-то вдали пронзительно засвистел, погнал еще ниже тучи. Гром теперь грохотал все сильнее и сильнее — казалось, он вырвался наконец из плотного кольца туч. Гроза пошла гулять по степи. Хлынул ливень. Шквалом обрушился с моря и затопил землю и небо. Все большую силу набирал гром. В бешеной пляске метались молнии. Они выхватывали из мрака колосья, приникавшие под порывами ветра к земле, окрашивали в золотой цвет потоки дождя, хлеставшего словно плетью выбившихся из сил людей, упрямо идущих вперед. На миг все снова погрузилось во тьму — земля и небо опять слились воедино, люди растворились во мраке. Лишь гром грохотал да ливень шумел... Нам явно не везло. Мы больше всего боялись грозы, и она разразилась. Вымокли до нитки, одежда прилипла к телу, разгоряченные, потные лица охлаждали струи дождя. В такую ночь приходится пробираться на ощупь — любой ориентир ни к чему, а не знаешь района, лучше не двигаться дальше. И действительно, мы с Яном сбились бы непременно с пути. Я говорил, что надо идти на юг, он — на север. Только проводник наш молчал и уверенно шел вперед. — Эй! Осторожно! — вдруг закричал он. — Здесь окоп впереди! Сворачивайте вправо! Слева опорный пункт! «Счастье, что нам попался такой проводник, — подумал я. — Без него мы бы пропали, это уж точно — пропали!» Стоило мне, при очередной вспышке молнии, взглянуть на этого тщедушного паренька, упрямо шагавшего сквозь ветер и дождь, как сердце мое переполнилось умилением и жалостью. Совсем еще ребенок! Дождь по-прежнему нещадно барабанил по нашим спинам, но я вдруг успокоился. Я уже не думал, что с погодой нам не повезло, — наоборот, гроза помогла нам избежать встречи с противником. И вдруг чуть севернее города Чанъи, на повороте, мы услышали, как хлюпают по воде башмаки. Тут как нарочно сверкнула молния, и мы увидели «возвращенцев» — человек тридцать, которые вели под конвоем активистов — их было, пожалуй, вдвое меньше, чем ополченцев. Все случилось так неожиданно, что мы не успели спрятаться и между нами теперь оставалось примерно шагов десять. Надо сказать, что не только мы, но и враги наши были ошеломлены. Однако в следующее мгновение прогремели выстрелы. Я лег на землю и тоже стал стрелять в темноту, целясь в ту сторону, где были бандиты. Над головой у меня свистели пули. Затем раздались шаги и грязная брань. Кто-то пробежал мимо нас, кто-то споткнулся о мои ноги и, перелетев через меня, шлепнулся на землю. Свой или враг — я не мог разобрать и с нетерпением ждал вспышки молнии. Но ее как назло не было. Вдруг кто-то с силой пнул меня в бок и заорал: — Ты... мать твою, что здесь торчишь? Активисты-то все разбежались! Я выстрелил, и тут же у самого моего уха прожужжала ответная пуля. Теперь я больше не сомневался, что нахожусь среди бандитов, и открыл по ним ураганный огонь из автомата...3
Схватка закончилась так же быстро, как началась. Будто шквал налетел и тотчас стих. Вокруг все снова стало спокойно. Но в суматохе мы трое растеряли друг друга. Напрасно искал я своих товарищей — вокруг не было ни души. Только дождь по-прежнему лил и лил. Я бродил в темноте, хлопал в ладоши. Это был один из условных сигналов. Я уже стал выбиваться из сил, когда наконец отыскал все же одного, а вскоре другого. И опять мы втроем зашагали вперед. Ветер стих. Дождь прекратился. Но небо по-прежнему было в тучах. Как обычно после дождя, устроили свой концерт лягушки, в оросительных каналах на крестьянских полях весело зажурчала вода. Теперь мы шли по низине, густо поросшей высокой травой. Она шуршала, цепляясь за нашу одежду. Временами у нас из-под ног взлетала, испуганно чирикнув, какая-нибудь пичуга. Поблескивали на земле светлячки... Проводник остановился и в недоумении огляделся по сторонам. — Что же это за место? — тихо произнес он. — Вот тебе и на! — не удержался Ян. — Как же мы попали в это болото? Ты что, с пути сбился? Ну-ка скажи, куда мы идем? — По-моему, мы все время шли на восток, — ответил Маленький Чэнь. — Но раньше здесь не было никакого болота! — Совсем не на восток, — все больше горячился Ян. — А на юг! — Теперь я сам не знаю, куда мы идем, — сокрушенно пробормотал юноша, переминаясь с ноги на ногу. — Совсем запутался после всей этой суматохи. Нам действительно не повезло — мы заблудились. Я и так был взволнован, а тут еще Ян подливал масла в огонь. — Что ты наделал? Ну что ты наделал? — не переставал он корить Маленького Чэня. Но проводник здесь был ни при чем: в такой сумятице, да еще в кромешной тьме, немудрено было сбиться с пути. Зачем же срывать на нем злость? И я стал урезонивать Яна: — Да не шуми ты. Давай лучше определим направление ветра. Но ветер как нарочно утих, даже травинка в поле не шелохнется. Хоть бы дерево на пути попалось, чтобы сориентироваться самую малость, но и дерева поблизости не было. Напрасно надеялись мы, что после дождя посветлеет немного или где-нибудь вспыхнет последняя молния. Ночь окутала все вокруг покрывалом тьмы. На сердце у меня кошки скребли. Хоть бы пробилась сквозь тучи Большая Медведица! Мы шли, шли, но никак не могли выбраться из этой проклятой низины, где монотонно шуршала трава. Однако спешить и горячиться в нашем положении было опасно. — Хватит! — скомандовал я. — Надо остановиться. Не исключено, что мы все больше и больше отклоняемся от нужного направления. — Как же быть? — переполошился Ян. — Надо дождаться рассвета, определить, где мы находимся. И тогда уже принимать решение. Может быть, найдется какой-нибудь выход. Так что не стоит понапрасну расстраиваться. — Это я успокаивал Яна, но в то же время и самого себя. Да и как было не тревожиться, если мы находились в самом логове врага. Как только станет светло, нас обнаружат. Можно бы, конечно, переждать день на болоте, но кто знает, что случится за это время там, за рекой. Возможно, противник уже начал карательную операцию, а мы торчим здесь и бездействуем. Но что делать? Спешить тоже нельзя. Придется ждать наступления утра здесь, на болоте. Где-то внизу журчала вода, слышны были какие-то шорохи: это, видимо, ползали в траве змеи. Беспрестанно квакали лягушки. Ян швырнул в них комком земли... Маленький Чэнь сидел рядом со мной и о чем-то думал. Вдруг он зашмыгал носом и расплакался. Я понимал, как тяжело у него на душе, хотел его успокоить, но тут Ян раздраженно спросил: — Чего ревешь? Парень ничего не ответил. — Все дело испортил, а теперь еще ревешь. Маленький Чэнь еще сильнее заплакал. Я дернул за рукав Яна, дав понять, чтобы оставил парня в покое. Ведь если бы не война, мальчик жил бы, горя не зная, с матерью и отцом. Ян — хороший товарищ и все это знал не хуже меня. Но такой уж у него был характер. Если что не по его — непременно вспылит, а потом сразу отойдет. Вот и сейчас он понял, что наговорил лишнего, лег на траву и принялся утешать парня. — Ладно, ладно. Не надо плакать. Лучше поспи. Ты ведь устал. Чэнь не отзывался. Он смотрел в небо, по-прежнему темное, беззвездное. Ян вскоре захрапел. Я же глаз не сомкнул, в голову лезли разные мысли, воспоминания. Я не раз бывал в оккупированных районах, и довольно часто мне приходилось прятаться от врага. Но никогда еще не бывало у меня так тяжело на душе, как сегодня. Ведь впереди столько опасностей! Я вспомнил о гибели Ма Ханьдуна и Лю Цзюня, о разгроме отряда, о зверствах гоминьдановцев, о том, что противник подтянул из района Дацзэшань карательную дивизию... В конце концов усталость взяла свое, и я задремал...4
Разбудил меня Маленький Чэнь. С трудом раскрыв глаза, я увидел, что степь все еще погружена во тьму. Где-то недалеко пропел петух. Значит, скоро рассвет. Сквозь черную мглу, затянувшую небо, в одном месте робко пробивались бледные утренние лучи. — Товарищ командир! — радостно сказал парень, показав на светлеющий край неба. — Видите? Там восток. Значит, мы двигались правильно! — Да, да, — закивал я в ответ. — Там восток, но где мы все же находимся? В ответ Маленький Чэнь пожал плечами: было еще темно, и он пока не мог сориентироваться. Лягушки умолкли. В степи, где всю ночь бушевала буря, наступила тишина, казавшаяся необычной. Ее нарушали шелест травы, журчание ручья в низине, мычанье коров и петушиное пенье, доносившееся из далеких деревень. И еще слышен был какой-то неясный гул, казалось, он идет не то с неба, не то из-под земли. — Что это? — спросил я. — Не море? — Нет. Море чересчур далеко, — сказал Чэнь, прислушался и радостно крикнул: — Товарищ командир! Это река! Мы на берегу реки! — Правда? — обрадовался я. — Не может этого быть! — вмешался Ян. — Не болтай чепухи! — Точно, говорю я вам, это река, — твердил Чэнь. — Я вырос у реки и ее шум могу отличить от любого другого. Это вода в реке прибывает, как всегда во время весеннего паводка. Вы сами послушайте! Становилось между тем все светлее. Ночь убрала постепенно свой черный покров. Вскоре уже можно было различить отдельные травинки. Вдали, хоть и неясно еще, виднелись гаоляновые поля, деревни, деревья. Оказалось, что мы находимся в огромной лощине. К западу и к северу от нее раскинулись деревушки, на юге темнел густой фруктовый сад, а на востоке сверкала, переливаясь серебром, широкая лента реки. Именно с реки и доносился этот грозный гул, словно воздушный поток, который вихрем проносится иногда над равниной в ясную погоду. — Товарищ командир! Смотрите — ведь это Вэйхэ! Конечно же, Вэйхэ! — радовался Маленький Чэнь. Потом, повернувшись, он вдруг схватил меня за руку: — Пошли к нам домой! Видите тот сад? Там мы и живем. Я всегда иду по этой дороге, когда сопровождаю товарищей командиров. Иногда мы проводим ночь в саду моего отца. Вон там — наша переправа, которую мы держим в секрете, в зарослях ивняка у нас припрятана лодка. Хорошо, что мы не сбились с пути! — Говоря это, Чэнь изо всех сил тряс меня за руку. В слабом предутреннем свете я рассмотрел его лицо, совсем еще детское, пылающее от возбуждения. Я понимал, как он радуется, да и сам не мог справиться с охватившим меня волнением. — Молодец, — воскликнул повеселевший Ян, энергично хлопнув юношу по плечу. — Право же, ты способный парень! — Пошли быстрей! Надо переправиться на тот берег, пока совсем не рассвело, — сказал маленький Чэнь. Выбежав из лощины, мы сломя голову помчались по окутанной легкой дымкой степи. Будто совсем не устали, будто не было ночных треволнений. Вот наконец и река. Мы перевели дух. — Ой-ой! Что же это такое! — испуганно воскликнул Чэнь. Оказалось, что лодку, надежно спрятанную в зарослях ивняка, унесло. Воды прибыло так много, что то место, где она была привязана, находилось теперь посредине реки. Бурлящие потоки на том берегу уже дошли до второй дамбы, а здесь подбирались к фруктовым садам деревушки Шиваньдянь. Река теперь была больше ли шириной. Волны, похожие на снежные глыбы, громоздились одна на другую, образуя водовороты. С протяжным гулом они бешено бились о дамбу, взмывали высоко вверх, а затем водопадом снова обрушивались вниз... Увидев это, я даже ногами затопал с досады. — Плавать умеешь? — спросил меня Ян. Я отрицательно покачал головой. Где уж там плавать по таким волнам — при одном взгляде на них душа в пятки уходит. — Я тоже не умею, — нахмурился Ян. — А ты, Чэнь? — Я-то переплыву, да что толку? Все лодки в округе сжег неприятель. С большим трудом нам удалось припрятать одну, да и ту унесло. Не знаю, как и быть. В полной растерянности мы смотрели на реку. — Товарищ командир! — обратился ко мне юноша. — А не пойти ли нам к моему отцу — может быть, он что-нибудь придумает. Ведь он не раз переправлял на тот берег наших работников. — Все это очень хорошо, — ответил я. — Но не можем же мы все время торчать здесь, у всех на виду. Надо хоть где-нибудь спрятаться! Мы покинули берег и побежали к отцу Маленького Чэня.5
В саду было тихо. Умытая дождем листва на деревьях стала ярко-зеленой. Яблоки и боярышник поблескивали своими красными щечками. Временами налетал легкий утренний ветерок, и тогда с деревьев падали на песок жемчужные капельки. Мы забрались в самую гущу сада и, пройдя немного, оказались у небольшого дома, сплошь увитого густым зеленым виноградом и листьями тыквы-горлянки. Неожиданно к нам бросился с глухим рычанием злющий рыжий пес, но увидел Чэня и тут же радостно завилял хвостом, ласкаясь к хозяину. — Тигренок, Тигренок! — Юноша погладил собаку. В этот момент распахнулась дверь и на пороге появился седобородый старик. Прищурившись, он принялся разглядывать нас, увидел Маленького Чэня и раскрыл от изумления рот. — Папа! — чуть слышно позвал Чэнь. Старик с тревогой оглянулся по сторонам и сказал повелительным тоном: — Быстро идите в дом! Нас поразил беспорядок, царивший в доме. Казалось, будто туда ворвался бешеный бык и все перевернул вверх дном: на очаге разбитые горшки, кувшин для воды валяется у стены; шкафчик и ларь для пищи перевернуты; на полу осколки битой посуды, зерно, сено, тряпки... Маленький Чэнь побледнел, опрометью бросился в соседнюю комнату и тут же вернулся. — Где мама? — спросил он с тревогой. Старик ничего не ответил, лишь помрачнел, сел у порога и опустил голову. Он долго молчал, потом произнес: — Ее и малыша Цзя увели бандиты из помещичьего ополчения. Ошеломленный, убитый горем юноша в изнеможении опустился на стул. — И давно это случилось? — спросил Ян. — Пять дней назад, — с тяжелым вздохом ответил старик и рассказал, как все произошло. В отряде оказался предатель по имени Чэнь Син. Он и донес, что Маленький Чэнь приводит к отцу коммунистов, чтобы потом переправить их через реку. Несколько дней назад Чэнь Лаоу, главарь «возвращенцев» из деревни Чэньцзячжуан, арестовал все семейство старого Чэня. Их пытали, добиваясь признания, потом самого Чэня отпустили, а жену и младшего сына оставили в качестве заложников. Чэню приказали дождаться старшего сына, и как только он приведет домой красных, выдать их «возвращенцам». В противном случае, пригрозили бандиты, они расправятся с женой Чэня и его младшим сынишкой. Сердце едва не выскочило у меня из груди. Ян испуганно на меня уставился. А Маленький Чэнь до крови прикусил нижнюю губу и молчал. — Как же ты решил поступить, отец? — спросил он, подняв голову. — Я решил вызвать тебя, — холодно бросил старик. — Вызвать меня? — переспросил юноша. — Эх-хе-хе. — Старик еще ниже опустил голову. — Целых пять дней держат твою мать и маленького братишку подвешенными к стропилам. Где только я не искал тебя — все зря... — Зачем же ты меня искал? — Зачем искал? Эх, ты! Еще спрашиваешь! Неужели тебе нет никакого дела до твоей семьи? И кто, если не вы, отомстит за двадцать сельских активистов, зверски убитых в нашей деревне, за их вдов и сирот? Вспомни, почему я согласился отпустить тебя в армию? — все больше и больше распалялся старик. Он тряс бородой, метал в нас молнии. Только теперь я понял смысл его слов. Маленький Чэнь тоже заулыбался, схватил отца за руки и радостно вскричал: — Вот я и дома, отец! — Да, я искал тебя целых два дня, — продолжал старик, гладя сына по голове, — но так и не нашел. Больше ждать я не мог, и вот третьего дня на рассвете отправился на тот берег в надежде разыскать командира отряда Ма. По слухам, отряд его стоял в деревне Юйчжуан. Но кто знал, что такое случится! Не успел я добраться туда, вдруг слышу — стрельба. Оказалось, что тысяча с лишним солдат противника окружила деревню. Туда же подтянули четвертую бригаду из гарнизона Чанъи. Бой длился до ночи. Ма и его помощник Лю погибли. Говорят, они дрались до последнего: расстреляли все патроны, а потом подорвали себя на гранатах. Когда я вернулся в деревню, то видел их мертвыми на улице. Да! Хороший был командир! Раньше он часто переправлялся сюда со своими бойцами. Теперь нет больше ни его, ни его отряда. Нет больше свободного края. Старик умолк, и две скупые слезы скатились по его щекам. Я тоже едва сдерживал слезы. — Успокойтесь, почтенный! — обратился к старику Ян. — Отряд за рекой еще покажет себя. Никому не покорить свободный край! Мы как раз и идем туда, чтобы принять на себя командование первым отрядом. — Это правда? — подняв голову, спросил старик. — Вы пробираетесь на восточный берег? — Да, отец, — кивнул в ответ юноша. — Я их проводник. Но, знаешь, лодку, спрятанную в зарослях, унесло водой... Старик вдруг с неожиданной для его возраста легкостью вскочил на ноги и внимательно оглядел нас с ног до головы. — Как хорошо, что вы пришли! Надо спешить. После гибели командира Ма головорезы из ополчения совсем взбесились. Вчера мы нашли в южном саду двух товарищей из разгромленного отряда, они прятались там. Настоящие молодцы! Сражались до последнего, а потом разбили свои винтовки и бросились в реку. Теперь пришли вы, так что будет, по крайней мере, на кого опереться. Ну-ка, быстро к реке! Ах да, лодку ведь унесло. — Унесло, — подтвердил я, — лодки нет, а воды в реке прибыло. Но нам во что бы то ни стало надо сегодня же переправиться на тот берег... — Верно, непременно сегодня, — поддакнул старик. — А как же это сделать? — спросил Ян. Старик ничего не ответил, вышел во двор и посмотрел на небо. — Вы умеете плавать? — Умеем немного, но не в такую бурю, — в один голос ответили мы с Яном. Старик пошел в дом и возвратился с бутылкой в руках. Запрокинул голову, булькая, отпил немного и протянул бутылку мне: — На, выпей, вода-то в реке холодная. Мы по очереди глотнули свирепой гаоляновой водки. — А теперь пошли! — сказал старый Чэнь. Я выразительно взглянул на Маленького Чэня, а тот весело подмигнул мне в ответ и шепнул: — Идите, идите. Он переправит вас вплавь. Старик плавает, как водяной! Чувствовалось, что парень гордится отцом. У меня отлегло от сердца. Но в тот же миг я вдруг вспомнил о жене старика и о его сынишке, которые томятся в гоминьдановском застенке. Как быть с ними? — Ты чего стоишь? — спросил старик. — Я думаю... Резко повернувшись, от чего борода его взметнулась вверх, старый Чэнь взмахнул рукой и сердито бросил: — Пошли! Пошли скорей!6
Светало. На восточном краю неба сквозь разрывы в толще облаков пробивались тонкие багровые лучи солнца. Все отчетливее становились очертания дальних деревень. Ветер вздымал на реке волны, и белые гребешки делали ее похожей на заснеженное поле. — Вот это ветерок! — едва переводя дух, проговорил старый Чэнь. — Сейчас я по одному переправлю вас на тот берег. Но прежде договоримся: зря в воде не вертеться. Ну, кто первый? — Вы вдвоем идите с Маленьким Чэнем. — Я подтолкнул Яна. — Я буду вас прикрывать. — Нет, ты сначала, — возразил Ян, поглядывая на небо. — Да нет же! Иди, — настаивал я. В этот момент где-то в западной стороне прозвучал выстрел. Ян хотел возразить, но старик схватил его — и в один миг оба они очутились в воде. — Прыгай и ты, — подтолкнул я Маленького Чэня. Тот увернулся и бегом стал взбираться на дамбу. Я — за ним. К западу от нас раскинулась деревня Чэньцзячжуан. От нее вдоль дороги, окутанной утренним туманом, шли к реке человек семь-восемь. Шли не спеша: пока, видно, не обнаружили нас. — Прячься быстрей! — скомандовал я. Еще с того времени, как месяц назад наши части сдерживали натиск противника, рвавшегося через Вэйхэ, на дамбе уцелел окоп. Вокруг образовалась насыпь, и мы с Маленьким Чэнем укрылись в нем. Следом за нами прыгнул Тигренок. Я обернулся — старый Чэнь, обхватив одной рукой Яна, другой усиленно греб, пробиваясь сквозь огромные, как горы, волны. Вдруг я заметил, что гоминьдановцы свернули с дороги и направляются к фруктовому саду. Маленький Чэнь с трудом сдерживал ярость и волнение. Ясно — гоминьдановцы собираются схватить старого Чэня. Я представил себе дальнейший ход событий. Не обнаружив старика дома, они станут искать его на берегу. Тогда нам придется принять неравный бой, а это очень опасно — ведь мы прижаты к реке. И все же бой надо принять, чтобы прикрыть таким образом Яна. А как только он доберется до восточного берега, можно считать, что победа за нами! Мы с Маленьким Чэнем пожертвуем жизнью во имя освобожденного района, во имя нашего отряда, во имя народа! Маленький Чэнь то напряженно смотрел в сторону леса, то с тревогой устремлял взгляд на реку. Я понимал, как тяжело у него на душе, и хотел успокоить немного, но он сам стал меня успокаивать. — Видите, товарищ командир! Отец уже выплыл на середину. Он как рыба! Сейчас вернется за вами! «Доброе у тебя сердце, парень», — подумал я про себя. Вдруг Тигренок вскочил, повернул морду в сторону леса и громко залаял. Я выглянул из окопа — восемь головорезов из ополчения с винтовками наперевес быстрым шагом шли напрямик к берегу той же дорогой, по которой пробирались и мы. Тигренок рычал от ярости. Он готов был броситься вперед. — Лежать! — Чэнь схватил его за шею и оттащил в угол окопа. Пес лег и заскулил. Стало совсем светло. Над крышами закурились дымки — там готовили завтрак. В небе парил коршун, рассекая черными крыльями белые облака. Он то застывал неподвижно, глядя на поля, омытые дождем, на широко разлившуюся могучую реку, то, словно чего-то испугавшись, исчезал за облаками, подобный черной молнии. Тревожно было на берегу в это ранее утро: во всем чувствовалось приближение бури. Враги подходили все ближе и ближе. Уже стали видны их лица, одежда. Одеты они были небрежно, вооружены кто винтовкой, кто пистолетом — настоящие головорезы. — Вот он! — встрепенулся Маленький Чэнь, ткнув в меня локтем. — Предатель! — Какой? — спросил я. — Тот, что идет впереди, коротышка. Он был старостой нашей деревни. А потом снюхался с главарем гоминьдановцев — Чэнь Лаоу. По его доносу и схватили мою мать и братишку... — Чэнь вскинул автомат, прицелился. Чэнь Сину было под пятьдесят. Маленький, словно карлик, трусливый, с вечно заискивающей улыбкой. Быстрым шагом он приближался к дамбе. Слышно было, как шлепают по раскисшей глине его башмаки. — Этот старый сукин сын, мать его, наверняка сбежал на тот берег к красным, — донесся голос Чэнь Сина. Затем он повернулся к шедшему сзади темнолицему толстяку. — Знаешь, брат Сянкуй, хорошо бы их всех закопать живьем в землю, а не строить всякие хитроумные планы, как дядюшка Лаоу, — за крупной, видите ли, рыбкой погнался. А рыбка клюнула, да и наживка тем временем тягу дала... — Ни черта ты не понимаешь! — презрительно бросил толстяк. — Тебе бы только чужое добро делить! — Ай-ай-ай, брат Сянкуй! И не стыдно тебе, старому человеку, такие слова говорить? Сказал же я, что верну тебе твою долю из тех вещей, что мы позабирали в домах этих... Чего тебе еще надо? — Брехня это все! — заорал толстяк. — Уже месяц прошел, а что ты вернул? Вот тебе десять дней сроку. Не отдашь — самого тебя в землю живьем закопаю! — Хватит вам ссориться! — вмешался тут третий, в соломенной шляпе. — Вчера вечером дядюшка Лаоу говорил, что из штаба районного ополчения пришел приказ взять под особое наблюдение берег реки. Получены сведения, что в ближайшие дни красные собираются переправить на ту сторону своих людей. Приказано любой ценой не допустить этого, иначе нам несдобровать... — Будет сделано! Будет сделано, — угодливо произнес Чэнь Син. — Я ночью буду здесь караулить. Как бы только они не пошли другой дорогой... Ну, и скользко же здесь! — Чэнь Син едва не упал и стал карабкаться по склону дамбы, петляя из стороны в сторону и хватаясь за стебли полыни. — Огонь! — скомандовал я. Маленький Чэнь выскочил из окопа и почти в упор выстрелил Чэнь Сину в грудь. Глаза у предателя полезли из орбит, лицо покрылось смертельной бледностью, и, раскинув руки, он ничком упал прямо в яму, наполненную водой, отчего во все стороны полетели брызги... В тот же миг я тоже открыл стрельбу и сразил одного за другим темнолицего толстяка и того, что был в соломенной шляпе. Застигнутые врасплох, бандиты даже не успели изготовиться к стрельбе и в панике покатились с дамбы, падая, поднимаясь и снова падая. Тут еще из окопа выскочил Тигренок и бросился за ними вдогонку. Он мчался вихрем, шерсть у него встала дыбом. Догнав одного из бандитов, он вцепился ему в ногу и повалил на землю. Второй гоминьдановец в панике побежал через гаоляновое поле к деревне Чэньцзячжуан.7
Пальба прекратилась, ветер разогнал пороховой дым над дамбой. Я посмотрел на реку: там двое, издали казавшиеся черными точками, качались на волнах, приближаясь к противоположному берегу. — Все в порядке, — вздохнул я с облегчением. Маленький Чэнь кивнул, но лицо его все еще оставалось напряженным. В это время в деревне Чэньцзячжуан ударили в набат. Затем послышались удары в колокол в деревушке на юге, а еще через мгновение тревожный колокольный перезвон зазвучал вдоль всего берега... Налетел сильный порыв ветра. Я понял, что о переправе не может быть и речи. Не пройдет и нескольких минут, как мы будем окружены бандитами. «Ну что ж! — пронеслось у меня в голове. — Отобьемся — хорошо! А нет — бросимся в реку, как те два бойца из отряда Ма, о которых рассказывал старый Чэнь». В каких только переделках не побывал я за мою долгую боевую жизнь, но никогда еще положение не казалось мне таким безнадежным, как на этот раз. Плавать я не умел, а враги подходили все ближе и ближе. Что делать? Ведь через реку не перелетишь. Но, как ни странно, я почему-то оставался совершенно спокойным. Ян уже почти на том берегу. А значит, партизанский отряд снова начнет действовать, еще шире развернет вооруженную борьбу, и народу будет на кого опереться. Теперь можно не сомневаться, что задание партии будет выполнено! Я вытащил из кармана промокшие во время дождя секретные документы, разорвал их и бросил в реку. Маленький Чэнь испуганно следил за мной, и я решил во что бы то ни стало загнать его в воду. Пробиться из окружения по суше нет никакой возможности, а переплыть реку для парня не составит особого труда. Зачем же ему понапрасну жертвовать собой? — Маленький Чэнь, ты хороший пловец, — сказал я ему. — Так что переправляйся на другой берег, пока нас не атаковал противник! — Опять вы за свое? — нахмурился юноша. — Ну-ка, живее! Это приказ! Он ничего не ответил и сердито отвернулся в сторону. — Ты что, не хочешь выполнять приказ? — Я начал терять терпение. Затем понял, что с ним не сладить, и решил заставить его силой. Он по-прежнему молчал, отвернувшись. — Приказы надо выполнять, — сказал я с раздражением, повысив голос. — Знаю, — еле слышно ответил Чэнь, резко повернулся и твердо посмотрел мне в глаза. — Именно потому, что я выполняю приказ, я не буду переплывать реку! — проговорил он, отчеканивая каждое слово. — Какой еще приказ? Что за безобразие! — А такой: переправить вас через реку. Мне никто не приказывал вас бросить, а самому спастись бегством. Не ожидал я, что этот молчаливый паренек даст мне такой отпор! Мне больше нечего было сказать, и я рассмеялся. — Товарищ командир! — с суровыми нотками в голосе произнес он, продолжая смотреть мне прямо в глаза. — Вы совершенно не верите в людей, потому так просто рассуждаете! — Как так не верю? — Не верите, и все, — уклончиво ответил юноша. — Да еще обижаете... Чэнь снова отвернулся, но я успел заметить блеснувшие в его глазах слезы. Мы долго молчали. Лицо у меня горело. Только теперь я понял, что хотел сказать паренек. Вот он, оказывается, какой! Я был глубоко тронут. Ян тем временем уже взобрался на дамбу на том берегу, а старый Чэнь плыл обратно. Вдруг я заметил, что от деревни Чэньцзячжуан к нам направляются несколько человек. И не только от этой деревни, ото всех остальных тоже. Враги шли с юга, с севера, с запада — отовсюду. Гремели выстрелы. Над головами засвистели пули... — Ладно, парень, не сердись на меня, — сказал я. — Патроны у тебя еще есть? Он поднял с земли патронташ, похлопал по нему, и на лице у него промелькнула едва заметная улыбка. Выстрелы все приближались. Гоминьдановцы, которые шли с запада, обогнули опушку фруктового сада и, укрывшись за домами неподалеку от дамбы, открыли сильный огонь. Пули летали над нами, словно саранча, вздымая столбики пыли над брустверами окопа, срезая стебельки полыни. Мы не стреляли, чтобы враги подошли поближе. Но они не собирались покидать свое надежное укрытие. Вдруг стрельба прекратилась и из-за песчаного холма появилась голова одного из бандитов. — Не стреляйте, не стреляйте! — закричал он, размахивая красным полотенцем. Я сразу признал в нем того самого гоминьдановца, которому удалось спастись бегством. — Смотри, Чэнь! Узнаешь? — продолжал он кричать. Из-за холма показались двое. Лицо Маленького Чэня побелело как снег: на холме стояли женщина и мальчик лет четырнадцати. Я сразу догадался, что это мать Маленького Чэня и его братишка Цзя. У женщины были связаны за спиной руки. Лицо в кровоподтеках и шрамах, волосы распущены. Она едва стояла на ногах под сильными порывами ветра, но голову держала высоко и смотрела в нашу сторону. Мальчик от всего пережитого был очень бледным, ни кровинки в лице. Одной рукой опираясь на палку, он другой поддерживал мать и тоже смотрел в нашу сторону. Тигренок выскочил из окопа и с радостью бросился к хозяйке. Остальные бандиты тоже высунули головы из-за холмов. Некоторые даже поднялись во весь рост и, прячась за спины женщины и мальчика, с опаской поглядывали на дамбу. Темнолицый толстяк с громадным животом встал рядом с матерью Чэня. — Эй, Чэнь, — снова закричал бандит с красной тряпкой, — слушай внимательно! Господин У желает с тобой говорить. — Маленький Чэнь, — словно утка закрякал толстяк, указывая на женщину и на мальчика. — Посмотри на них. У тебя два пути: или ты умрешь здесь вместе с ними, или же сложишь оружие и вы втроем вернетесь домой. Тем красным, которых ты привел с собой, мы тоже обещаем сохранить жизнь. А теперь выбирай — жизнь или смерть! Маленький Чэнь из бледного стал пунцовым. Он вскинул автомат и стал целиться в Чэнь Лаоу. Но его била дрожь, и автомат прыгал из стороны в сторону. — Спокойней, — зашептал я, схватив парня за локоть. — А то в мать попадешь. Он перевел дух, на глаза у него выступили слезы. Он вытер их и снова вскинул автомат. В этот момент раздался голос женщины. Она говорила внятно, спокойно: — Сынок! Где ты? Почему я не вижу тебя? — Я здесь, мама! — крикнул юноша. — Встань, сынок, я погляжу на тебя. Нет, нет, не вставай. Только окликни меня — и я буду счастлива. По лицу Маленького Чэня текли слезы. — Мама! — позвал он дрожащим голосом. — Сынок, дорогой, видишь ты меня и своего братишку? — Вижу... — Вот и хорошо, сынок. А теперь стреляй! Стреляй! Не слушай эту старую собаку Лаоу, убей грабителей! Стреляй, сынок, прямо в меня стреляй! — Стреляй, брат! Быстрее! — собрав все силы, закричал Цзя. Охваченные паникой гоминьдановцы снова укрылись за холмами. И в тот же миг застрочил автомат Маленького Чэня. Бандит с красной тряпкой в руках словно подкошенный свалился к ногам старой женщины. — Хорошо, сынок, хорошо! — крикнула женщина. Но тут из-за холма раздался выстрел, и она, вскрикнув, стала медленно оседать на землю... — Мама! — закричал юноша. Меня трясло как в лихорадке, по щекам катились слезы. Я поднял автомат, но на холмах уже никого не было, бандиты попрятались и утащили с собой мальчика. Губы Маленького Чэня были искусаны в кровь, глаза сверкали. Он не сводил глаз с распростертой на песке матери. Стоило кому-нибудь из бандитов поднять голову из-за холма, как я либо Маленький Чэнь стреляли, и голова исчезала. Так продолжалось минут десять. Гоминьдановцы вели беспорядочный огонь, не отваживаясь высунуть нос из своего укрытия. Потом снова послышался крик: — Прекратить огонь! Не стреляйте! И на холм вытолкнули братишку Чэня. За ним, плотно прижимаясь друг к другу, стояло пять гоминьдановцев. На какой-то миг я растерялся и невольно опустил автомат. Чэнь тоже перестал стрелять. Подталкиваемый бандитом, Цзя подходил все ближе и ближе. Наши автоматы были нацелены прямо ему в грудь. Страшный это был момент! Гоминьдановцы, оставшиеся за холмами, снова повысовывали головы: они готовились к атаке. Стрельба прекратилась, и на берегу стояла пугающая тишина. Слышно было учащенное дыхание Цзя, топот ног бандитов, шум воды в реке... И вдруг среди этой тишины раздался звонкий голос мальчика: — Брат, стреляй! Стреляй в меня! Порывисто дыша, Чэнь вскинул автомат. — Погоди! — удержал я его. — Стреляй, стреляй! — кричал мальчик. — Отомсти за маму! Ведь за моей спиной Чэнь Лаоу! Стреляй же. Скорее! За маму... Внезапно голос мальчика оборвался. На гоминьдановцев набросился Тигренок. Он вцепился в ногу бандита, который подталкивал вперед Цзя. Гоминьдановец взревел от боли и, отпустив мальчика, повалился на землю. А тот, воспользовавшись моментом, выхватил у бандита ручную гранату, вытащил чеку и высоко поднял ее над головой. Все произошло так неожиданно, что гоминьдановцы остолбенели от страха и словно загипнотизированные смотрели на струйки белого дыма, с шипением вырывавшегося из капсюля гранаты... У меня бешено заколотилось сердце, и я закрыл глаза. Раздался грохот. Граната взорвалась. Когда я открыл глаза, внизу у дамбы стлался сизый дымок. Один из гоминьдановцев, чудом уцелевший, во все лопатки улепетывал к своим. Мы выпустили в него автоматную очередь...8
Трудно сказать, сколько раз я побывал в самых жарких боях. Но с таким энтузиазмом, как сейчас, никогда не сражался. Я даже забыл о том, что надо беречь патроны, чтобы выиграть время, пока вернется старик, перевел предохранитель на автоматическую стрельбу — и пули полетели дождем. Нам удалось остановить гоминьдановцев, наступавших с юга. Зато те, что двигались с запада и севера, набросились на нас, как осы. Но я по-прежнему хранил спокойствие: только стрелял без передышки, с каким-то особым ожесточением. Жажда мести, казалось, прибавляла мне силы. Мною владела одна-единственная мысль — мстить, во что бы то ни стало мстить! Отомстить за мать Маленького Чэня, за его братишку! Отомстить за всех убитых и замученных бандитами там, на равнине за рекой. В отличие от меня Маленький Чэнь расходовал патроны экономно, почти не стреляя длинными очередями и то и дело поглядывая на реку. Вдруг он схватил меня за руку. — Товарищ командир! Смотрите, отец вернулся! И действительно — старый Чэнь быстро плыл к подножью дамбы. — Скорей, отец, скорей... — крикнул Маленький Чэнь, вскочив и сияя от радости, и вдруг умолк, схватившись рукою за грудь, потом стал медленно оседать на землю. Из груди у него хлынула кровь. Я бросился к нему, схватил за руку. — Маленький Чэнь, Маленький Чэнь! Ответа не последовало. Голова его безжизненно свесилась над краем окопа. Сердце у меня сжалось от боли. Воспользовавшись тем, что огонь с нашей стороны прекратился, гоминьдановцы ринулись в атаку. Не помня себя от ярости, я вскинул автомат и открыл ураганный огонь. Автомат прыгал у меня в руках, гильзы, сверкая, словно пчелы, разлетались в разные стороны. Я упивался местью... Вдруг чья-то сильная рука схватила меня за плечо. Я обернулся, это был старый Чэнь. — Быстро в реку! — Нет, — отмахнулся я, продолжая стрелять. Тут старик увидел истекавшего кровью сына, опустился перед ним на корточки и зарыдал. — Сынок, сыночек! — бормотал он, прижимая к себе безжизненную руку сына. Вдруг Маленький Чэнь приоткрыл глаза, и на губах его появилось подобие улыбки. — Ты вовремя поспел, отец, — прохрипел он. — Быстрей веди его к реке... Старик ничего не ответил и вдруг побледнел: он увидел убитых жену и младшего сына. Но в следующее мгновение он справился с собой, вытер слезы и крепко схватил меня за руку: — Пошли! Пошли быстрей! — Не пойду! Я останусь здесь, с Маленьким Чэнем. — Идите же быстрей, — собрав последние силы, крикнул Маленький Чэнь. — Я прикрою вас! — И снова, будто бобы на огне, затрещали его автоматные очереди. — Ни за что, ни за что... — Старик не дал мне договорить и потащил за собой в воду. — Маленький Чэнь! Маленький Чэнь! — крикнул я. Но тут волна захлестнула нас. Я глотнул воды и потом долго не мог отдышаться. Ветер с оглушительным ревом вздымал бурлящие волны. Я еще раз оглянулся на дамбу, но так и не увидел Маленького Чэня. Над окопом плыли тоненькие голубоватые дымки от выстрелов. Я представил себе, как рычит и мечется по дамбе Тигренок, приходя в ярость от каждого выстрела; как стойко сражается смертельно раненный Маленький Чэнь, отражая натиск врага, чтобы прикрыть мою переправу. Глубоко тронутый подвигом юноши, я почувствовал, как к горлу подступает ком, и, не в силах сдержаться, помахал рукой в сторону берега. — Да не вертись же ты! — приказал старик, еще крепче прижав меня к себе. Рука его сильно дрожала, ему стоило огромного труда не оборачиваться на дамбу, туда, где остался его единственный сын. Собрав все свои силы, он быстро плыл на восток. Мы не достигли еще и середины реки, и, ворвись гоминьдановцы на дамбу, нам бы несдобровать: пришлось бы пробиваться через заградительный огонь противника. Боевой опыт подсказывал мне, что враг давно уже должен был ворваться на дамбу, но там почему-то по-прежнему стояла тишина. Только в воздухе плыл голубоватый дымок... Из-за густых облаков выглянуло солнце, и на поверхности реки запрыгали золотые блики. На волнах меня укачало, и я почувствовал, что теряю сознание. И тогда, сделав над собой усилие, я снова посмотрел на дамбу, словно там, в окопе, оставил свое сердце. То, что я увидел, потрясло меня до глубины души. Автоматные очереди внезапно прекратились, ветер развеял остатки дыма. Отчетливо выделяясь на фоне уже посветлевшего на западе лазоревого неба, под золотыми лучами восходящего солнца на дамбе появился человек. Это был Маленький Чэнь! Он выскочил из окопа, швырнул в реку автомат, потом схватил бандита, которому удалось прорваться на дамбу, и вместе с ним бросился в мутные, клокочущие воды Вэйхэ... Потрясенный, я зажмурился. Рука старика, которой он все крепче и крепче прижимал меня к себе, задрожала еще сильнее, дыхание его стало прерывистым. По морщинистым щекам ручьями катились слезы. Вот на дамбе снова появился человек, снова загремели выстрелы. Пули ложились совсем близко от нас, но мы уже миновали середину реки, где течение было особенно быстрым. Вдруг с дамбы на восточном берегу прогремел выстрел — это старина Ян прикрывал нашу переправу. Мы спасены, путь на восток открыт! Но Маленький Чэнь... Я снова и снова оборачивался, силясь рассмотреть то место, где он скрылся под водой. Но ничего, кроме волн, с рокотом налетающих одна на другую, я не увидел... Я заплакал и не мог унять непрошеные слезы. Сентиментальным меня не назовешь. За десять с лишним лет суровых военных испытаний я видел немало смертей и крови, вдоволь нагляделся на ужасы войны. Я привык подавлять в себе малейшие проявления чувствительности и даже в самые горькие минуты жизни не проронил ни слезинки. Но сейчас я не мог совладать с собой. Если бы я хорошо плавал, то без малейшего колебания бросился бы навстречу неумолимым волнам, чтобы найти и спасти Маленького Чэня, пусть даже для этого мне пришлось бы опуститься на дно бушующей реки. Такой прекрасный товарищ! Совсем еще ребенок! Мальчик, едва достигший семнадцати лет, он, не задумываясь, пожертвовал собой ради меня, человека, совсем ему не знакомого: он даже не знал, откуда я родом, не знал ни имени моего, ни фамилии. Жизнь, жизнь и молодость, они даются только раз! Что может быть дороже! Какие сокровища могут сравниться с ними! Но чувство товарищества и долга было для него превыше всего! И в самом деле. Нет в мире чувства чище, величественнее чувства товарищества и долга! И мать Чэня, и маленький Цзя, и старик... Вдруг я почувствовал, что державшая меня рука старого Чэня дернулась, ослабла, а потом и совсем разжалась. Я с головой ушел под воду, а тут еще меня захлестнула волна, и я потерял сознание... Очнувшись, я почувствовал, что меня по-прежнему прижимает к себе старый Чэнь, и с изумлением взглянул на старика: он был бледен, с лица градом катился пот. Он хрипел, задыхался, ловя ртом воздух. На какое-то мгновение он вынырнул из воды, и я увидел кровь на плече у него. «Старик ранен!» — пронеслось у меня в мозгу, и плывет из последних сил. Я сгорал со стыда. «Яо Гуанчжун! — мысленно обратился я к самому себе. — Что сделал ты для народа? Для партии? Какое ты имел право спастись ценой жизни Маленького Чэня и всей его семьи?» И с болью в сердце, едва сдерживая слезы, я крикнул: — Отец,бросьте меня! Слышите, бросьте меня сейчас же! — Да не вертись ты, тебе говорят! — повысил голос старик и, взглянув на меня, сердито добавил: — Бросить тебя? Тоже выдумал! Стиснув зубы, он продолжал плыть, рассекая волны и настойчиво пробиваясь к противоположному берегу. За ним по мутной речной воде тянулся тоненький кровавый след...* * *
Здесь и следовало бы закончить наш рассказ. Но, возможно, найдутся читатели, которые спросят: «Переправились вы через реку или не переправились? Что стало со старым Чэнем? А Маленький Чэнь — погиб или нет? Как впоследствии развернулась борьба на востоке за рекой? » Что ж, обо всем этом стоит, пожалуй, рассказать. Через реку мы переплыли. Но уже у самого берега старый Чэнь потерял сознание. В тот же день мы отправили его в полевой госпиталь, а еще через месяц, выписавшись оттуда, он явился ко мне. Без лишних слов он потребовал, чтобы ему выдали оружие. Зачем ему нужно было оружие? Я думаю, об этом не стоит спрашивать! Я подарил ему свой любимый автомат. С той поры в нашем отряде появился еще один отважный боец, в ветхой войлочной шляпе, в такой же ветхой кожаной куртке, с неизменным автоматом на груди. Он целыми днями молчал, зато в бою был всегда впереди. Его белоснежная борода развевалась на ветру, в глазах нет-нет да и вспыхивали искорки гнева... Маленький Чэнь погиб. Его нашли на песчаной отмели, тело отнесло вниз по течению. Я видел его. Его руки мертвой хваткой вцепились в горло главаря «возвращенцев» Чэнь Лаоу. Здесь же, неподалеку, лежала собака с распоротым брюхом — Тигренок. Спустя немного времени на востоке за рекой с новой силой развернулись бои. Поначалу нелегко нам пришлось. Бойцы из разгромленного отряда разбрелись кто куда и, напуганные провокациями вражеской агентуры, боялись признаться нам, кто они. Жители деревень тоже были напуганы. Части дивизии, подтянутые противником из района Дацзэшань для карательных целей жгли дома, убивали людей... Но мы не спасовали перед трудностями. Стоило мне вспомнить о семье Маленького Чэня — и я готов был на все. Сформировать заново отряд нам удалось довольно быстро. Мы провели несколько успешных боев на шоссе Чифу — Вэйсянь, уничтожив более десятка вражеских автомашин. В районе деревни Тайбаочжуан мы совершили налет на штаб помещичьего ополчения, истребив несколько самых оголтелых реакционеров — главарей «возвращенцев». Наши победы поднимали дух народных масс, и наши ряды ширились день ото дня. Через некоторое время на восток от реки развернулась упорная борьба. Дивизия карателей оказалась зажатой на узком участке между реками Цзяохэ и Вэйхэ. В результате этой успешно проведенной операции было высвобождено значительное количество наших войск для нанесения ударов по врагу не в тылу, а непосредственно на линии фронта. Бои на шоссе Чифу — Вэйсянь приносили нам успех за успехом. В общем, мы одержали полную победу. Уже в ноябре Сихайский комитет партии созвал совещание, на котором были подведены итоги боев в тылу врага. Несколько позднее здесь же состоялось чествование отличившихся в боях. Все участники совещания единогласно назвали героями меня и товарища Яна. Сам начальник политотдела Чжан преподнес нам цветы и предложил выступить. Я вышел на трибуну и сказал: — Вы ошибаетесь, товарищи. Не мы герои, а семья Маленького Чэня. — Кто они такие? — спросили у меня. — Они настоящие герои! — громко повторил я. И от начала до конца поведал им ту самую историю, которую сегодня рассказал вам. Шанхай 31 октября 1954 г.Чэнь Сянхэ
Писатель и ученый-литературовед Чэнь Сянхэ приобрел в Китае по-настоящему широкую известность лишь в начале 60-х годов, хотя его литературная и общественная деятельность началась четырьмя десятилетиями раньше. В 1923 году он, будучи еще студентом Шанхайского университета «Фудань», принял участие в организации литературного общества «Молодая трава». Несколько позднее, уже начав свою преподавательскую карьеру, он выступает одним из основателей объединения «Потонувший колокол» (существовало с 1926 по 1934 г.). В этот период выходят его сборники рассказов и повестей «Неспокойная душа», «Поворот», «Холостяк», пьеса «Опавшие цветы» и другие произведения. Отмеченные гуманистическим сочувствием к судьбе «маленького человека» и неприятием социальной несправедливости, они были несколько камерными по звучанию. Новый этап в жизни и творчестве Чэнь Сянхэ начался в годы войны с японскими агрессорами. Он участвует в работе Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства по отпору врагу, вступает в ряды компартии, подвергается преследованиям со стороны гоминьдановских властей. После 1949 года Чэнь Сянхэ из родной провинции Сычуань переезжает в Пекин. Являясь сотрудником Института литературы Академии наук КНР, он много сил отдает редактированию раздела «Литературное наследие» в центральной газете «Гуаньминь жибао», пользовавшегося заслуженным авторитетом в кругах исследователей и ценителей китайской классической литературы. Неудивительно, что с прошлым Китая и его культуры связаны и немногочисленные художественные произведения писателя послереволюционного периода. Два из его рассказов — публикуемый ниже «Тао Юаньмин пишет поминальную песнь» (1961) и опубликованная годом позже «Гуанлинская мелодия» — вызвали особенно широкий интерес. Возвышенные и в то же время глубоко человечные образы великого поэта средневековья Тао Юаньмина и литератора III века, мыслителя-протестанта Цзи Кана говорили о силе человеческого духа, не склоняющегося перед обстоятельствами, о том, что время не властно над созданиями гениев. Прошло несколько лет, и организаторы «культурной революции» обвинили автора рассказов ни больше ни меньше как в «подстрекательстве народа к бунту против партии и диктатуры пролетариата», «воспевании правых оппортунистов» и т. п. Не выдержав мучений, Чэнь Сянхэ в 1969 году покончил с собой. Лишь десять лет спустя было объявлено о посмертной реабилитации писателя. В. СорокинТАО ЮАНЬМИН ПИШЕТ «ПОМИНАЛЬНУЮ ПЕСНЬ»
1
В четвертом году правления императора Вэньди из династии Сун[19], избравшего своим девизом «Изначальное благополучие», Тао Юаньмину должно было исполниться шестьдесят три года[20] — возраст почтенный. В последнее время семье его жилось полегче — выдалось подряд три хороших урожая, да и нынешний год обещал быть урожайным. Вдобавок в прошедшем году Янь Яньчжи[21], получив от двора назначение на должность правителя области Шиань и проезжая через Сюньян[22], оставил Тао двадцать тысяч монет. Правда, Тао велел сыновьям разнести эти деньги по винным лавкам близлежащего города, чтобы хозяева в любое время отпускали ему вино. Но ведавший домашним хозяйством младший сын Атун не послушался отца и записал на его имя только половину денег, остальные же истратил на покупку растительного масла, соли и прочих припасов. Это, конечно, не укрылось от Тао Юаньмина. Но он, никогда не помышлявший о богатстве, счел происшедшее мелочью и ничего не сказал. Чувствовал себя Тао неважно. Уйдя в сорок один год со службы и поселившись в деревне, он, как сказано в династийной хронике, «поддерживал свое существование, трудясь в поле, и оттого занедужил». До шестидесяти лет занимался Тао полевыми работами. Когда же ему пошел седьмой десяток, он отдал сыновьям свою мотыгу и сказал: — Все, больше не могу. Руки-ноги ослабли, ничего не получается. Работайте теперь без меня! С тех пор он ни за что не брался. Только утром или вечером, опираясь на палку и читая про себя любимые стихи, выходил в поле — посмотреть, как растут туты и конопля, рис и просо. В том году осень пришла в Сюньян раньше обычного; уже в восьмом месяце[23] на рассвете и закате гудел ветер, как бы возвещая начало увядания природы. Однажды утром Тао Юаньмин поднялся чуть свет. Всю ночь он проворочался без сна: мешали спать неприятные воспоминания об увиденном накануне в монастыре Восточной рощи, что в горах Лушань. В голову лезли непрошеные мысли. Он отправился в горы побеседовать с буддийским наставником Хуэйюанем, а заодно пожить в обители несколько дней, отогнать от себя беспокойные думы, подышать другим воздухом. Но, едва приблизившись к монастырю, он увидел шумные толпы снующих взад и вперед богомольцев с ароматными палочками в руках. Особенно же огорчил Тао сам наставник, сидевший на скрещенных под собой ногах в центре главного молельного зала, — его граничащее с высокомерием безразличие к людям, его явная рисовка. В своей монашеской шапке и алой шелковой рясе он был совершенно не похож на того Хуэйюаня, которого привык видеть Тао Юаньмин. Наставника окружали молодые смазливые послушники, держа в руках медные плевательницы, метелки с рукоятками из белого нефрита, платки из фиолетового шелкового полотна... Словом, наставника сейчас можно было принять за важного сановника на аудиенции. Сложив ладони и закрыв глаза, без всякого выражения на лице, он принимал бесчисленные поклоны и коленопреклонения богомольцев. И не понять было — то ли он спит, то ли предается благочестивым размышлениям. Вскоре началось молебствие. Монахи всем скопом громко прочли сутру[24] «Бессмертные будды»; затем Лю Иминь продекламировал сочиненную им «Молитву о ниспослании милостей»; после чего члены сообщества «Белого лотоса»[25] совершили ритуальные поклоны перед Хуэйюанем, и, наконец, все молящиеся громко повторили буддийскую формулу: «Посвящаю себя будде Амитабе, его милосердию, его мудрости». На том церемония закончилась. И лишь тогда наставник чуть-чуть приоткрыл веки и под мерный стук молитвенных барабанов пробормотал: «Цзети-цзети, поло цзети, полосэн цзети, путиса покэ»[26]. Произнеся это почти никому не понятное заклятие, он поднялся со своей циновки и ушел во внутренние покои, не сказав более ни единого слова. Он даже ни разу не взглянул на простершихся перед ним паломников, не говоря уже о том, чтобы вежливо их приветствовать. Такое пренебрежительное отношение к собравшимся показалось Тао проявлением той «гордыни», которую сам наставник не раз называл противоречащей заветам будды. — Как вам понравилось нынешнее молебствие, сударь? — обратился Лю Иминь к Тао, когда в зале для благочестивых размышлений почетным гостям предложили чай. Не дожидаясь его ответа, заговорил Чжоу Сюйчжи: — Ничего не скажешь, редкостное зрелище — такие красивые горы, такой пышный молебен! Шли бы вы, сударь, к нам, в «Белый лотос». Наставник сказал, что разрешит вам и после вступления в общество пить вино. — Верно, верно! Присоединяйтесь к нам! Из трех знаменитых Сюньянских отшельников двое уже вступили в «Белый лотос», теперь ваша очередь, господин Юаньмин! — Это заговорили наперебой именитые ученые Чжан Е, Чжан Цзюань, Цзун Бин и Лэй Цыцзун, которые вместе с Тао изучали конфуцианскую науку. — Нет, я должен подумать. Жизнь до того коротка, в ней столько тягот. Так стоит ли брать на себя новые заботы — звонить в колокола, бить в барабаны? С этими словами Тао Юаньмин поднялся, но все закричали: — Как, разве вы не посидите с нами? Отведайте монашеского обеда, побеседуйте с наставником, тогда и пойдете! — Уж лучше как-нибудь в другой раз. Сегодня чересчур многолюдно, наставнику не до меня... Так, помнилось Тао, прошел его визит в Восточную рощу. Монастырь этот, о котором говорили, что он «взвалил на плечи пик Сянму и взял под мышку водопад», находился всего в двух десятках ли от Каштанового поселка под горой Чайсан, где жил Тао Юаньмин. Однако на этот раз ему было трудно идти, он много раз останавливался, так что вернулся только лишь к вечеру. Съев плошку жидкой рисовой каши, Тао сразу же отправился спать. Но, несмотря на ломоту в костях и страшную усталость, сон все не шел к нему. В полудреме Тао чудился звон монастырского колокола, и это особенно его раздражало. «Нет, пожалуй, больше в эту обитель ходить не стоит. Тамошние монахи стали просто невыносимы — знай себе колотят в барабаны, бьют в колокола, пугают людей. Но всего смешнее, что даже Лю Иминь и Чжоу Сюйчжи, которые не побоялись пренебречь императорским приглашением вернуться на службу, и те простерлись ниц перед буддийским наставником. Значит, их тоже одолевает страх перед смертью, значит, и они не поняли самых простых истин. Что смерть? Нет тебя, и не о чем больше заботиться. Чего же ради трезвонить в колокола, шум поднимать? Буддисты надеются избавить человека от загробных мучений молитвой, даосы верят, что «превратятся в пернатых»[27], но из этого следует лишь, что и они уповают на какое-то существование после смерти». Эти думы не давали Тао заснуть до утра.2
Тао Юаньмин сидел у стены своего крытого соломой дома, на кровати со спинкой, как у дивана, именовавшейся «чужеземным ложем». Это придумал его старший сын Ашу: сделать навес у крыши пошире, почти как у парадных залов, чтобы под ним можно было принимать посетителей, желающих высказать поэту свое почтение. Но Тао использовал эту идею по-своему. В последние годы он все чаще сидел под навесом на «чужеземном ложе» (спал он по-прежнему в обычной постели), читал, размышлял о поэзии, любовался Южной горой, слушал шум сосен или думал о чем-нибудь сокровенном. Иногда он беседовал здесь с соседями, обсуждал виды на урожай, толковал о тутах и конопле, а если в хозяйстве к этому времени поспевало молодое вино, выпивал, с ними несколько чашек, улыбаясь умиротворенно и ласково. Ночью прошел короткий дождь. Наступили первые осенние холода, и на росших возле самого дома ивах больше не появлялись новые ветки, листья стали понемногу желтеть. Но утренний воздух был, как летом, насыщен ароматом хризантем у забора и доносившимся с полей запахом еще не убранного риса. Тао несколько раз вдохнул полной грудью. После бессонной ночи побаливала голова, ломило поясницу, во рту было горько. Но вид ближних и дальних лесистых гор, залитых светом, утренняя дымка и проплывавшие по небу облака, как всегда, вызывали у старого поэта, немало натерпевшегося в своей жизни, естественное желание отбросить прочь безрадостные мысли и вновь обрести душевный покой. Прохладный утренний ветерок заставил Тао Юаньмина поплотнее запахнуть полы тонкого халата из серого полотна. — Да, уже настоящая осень! «То прекрасное время — куда же оно ушло? Уж растаявший иней одежды края увлажнил». А ведь здорово написал Жуань Сыцзун[28] свои «Стихи о том, что на душе»! Вот тоже хорошо: «От всего, что я вижу, растет на душе печаль и неслышной стопою приходит мне в сердце скорбь. Много слов у меня, но к кому я их обращу? Эти длинные речи — поведаю их кому?» Такое, кроме Жуаня, вряд ли кто сможет написать. Мне, пожалуй, незачем сочинять новые стихи. Перечитаю его «Стихи о том, что на душе» и уже чувствую себя удовлетворенным... Тао, забыв обо всем, стал читать про себя издавна любимые им строки Жуаня. В увлечении он покачивал в такт головой, словно хотел от себя отогнать холодный осенний воздух. Вдруг сзади к нему подбежал дочерна загорелый крепыш лет восьми, в белой курточке и синих штанах. — А я знаю, а я знаю! Деда вчера опять ходил в Лушаньские горы и опять не взял меня с собой. Я обиделся! С этими словами мальчик повис на шее у дедушки и стал теребить его седеющую бороду. — Да разве ты дошел бы? Меня самого дяденьки из семьи Ван — знаешь, на том конце села? — в плетеных носилках в гору поднимали! Обратно возвращался пешком, так к ночи еле добрался до дому, ведь тут больше двадцати ли! Говоря это, Тао крепко сжимал ручонки внука, чтобы тот не теребил его бороду и усы. — А я бы смог! Правда, смог бы! Вот пойдешь еще в горы, возьми меня с собой. Я буду бежать рядом с носилками большими-большими шагами. — Эх, Теленок[29], долго тебе придется ждать. Боюсь, что больше уже не пойду в Лушаньские горы. Нет, пожалуй, не пойду. — А почему? Ведь в горах так интересно! Ну, тогда я один пойду. Мне очень нравится гладить головы послушников, они такие гладкие... Я их глажу, а они меня. А в прошлый раз я с ними вместе ловил стрекоз. Тоже очень весело... — Да... — протянул Тао Юаньмин, не зная, что ответить мальчику. — Эй, Теленок, скорей слезай с дедушки, ему тяжело! Сколько раз тебе говорила, а ты все не слушаешься. Это сказала младшая невестка Тао. Она только что вышла из дома с чайной посудой. Невестке было около тридцати; рослая и крепкая, она, как и все простые женщины, ходила в травяных сандалиях и синем полотняном халате. Но выражение глаз и разлет бровей говорили о ее незаурядности. — Ничего, пока еще хватает сил его удержать. Пусть побудет со мной! — ответил Тао, с любовью поглаживая внука по голове. Затем он взглянул на невестку, и на его почерневшем, исхудалом, но по-прежнему одухотворенном лице появилась слабая улыбка. — Дедушка, хотите отведать осеннего чая с Южной горы? Совсем свежий, вчера вечером сушили. Он вам понравится! — произнесла с почтением в голосе невестка и подала свекру чашку с бронзово-зеленым напитком. — И мне, и мне... — закапризничал мальчонка. — Ладно, ладно, всем достанется. Невестка, ты так много работаешь, выпила бы чайку, — сказал Тао, передавая чашку внуку. — Да что мне сделается! Вот вы вчера, наверное, намаялись. Шутка ли — в ваши годы делать такие концы. Раз уж вы не собирались оставаться в монастыре, не надо было отпускать носилки! — Нет, нет, все обошлось. А где Атун, в поле? — Ну, что вы! Как собрали рис с верхнего склона, так он все время спит — не добудишься! У вас к нему дело? Сейчас подниму! — Ничего важного, пусть себе спит. Хорошо молодым, сон у них крепкий. — Тао слегка нахмурился и вздохнул. У него, наверное, опять разболелась поясница... Невестка все еще стояла возле Тао Юаньмина, как будто дожидаясь чего-то. Тот поднял голову и вопросительно взглянул на молодую женщину. — Вчера после обеда, — заговорила та, — приходил мой отец, ждал вас долго-долго. — Ждал? Ему что-нибудь было нужно? — Он забрал с собой ваши стихи. При этом известии Тао Юаньмин вздрогнул, сердце его чаще забилось. Потом, успокоившись, он продолжал разговор. — То есть как это забрал?! Зачем они ему? — Отец сказал, что нашел хорошего писца. Хочет заказать ему новый список ваших стихов, переплести и хранить дома как семейную реликвию. Дня через два я непременно заберу у него то, что вы сами писали... Я не хотела их отдавать, боялась, вдруг пропадут. — С этими словами она виновато опустила голову. — А, только и всего! Ладно, ладно, пусть переписывает. Хотя, конечно, потерять стихи было бы жаль. — Не беспокойтесь, через два дня я принесу их обратно! — Да не волнуйся ты так, невестушка! Поговорим об этом в другой раз. Стихи ведь не еда, если и потеряются, беда невелика... — Я вправду не хотела отдавать, но отец так настаивал! — Ну, отдала, и ладно. Стихи-то нестоящие, написаны ради забавы. Есть из-за чего волноваться. Тао Юаньмин снова взглянул на невестку, и на душе у него стало тепло от сознания, что хоть кто-то в доме ценит его стихи. Молодайка взяла бамбуковые грабли и пошла со двора. Тао Юаньмин вспомнил, что не сразу дал согласие на женитьбу младшего сына. Дело в том, что отец невесты, Пан Дэчжи, занимал немалую должность в свите Лю Хуна, правителя области Цзянчжоу, и владел обширным поместьем. Тао опасался, как бы дочь такого человека не испугалась жизни в бедном доме. К тому же Атун был простоват и своенравен. Но приятель поэта Пан Тунчжи, большой любитель совать нос в чужие дела, изо всех сил принялся его уговаривать. — Соглашайся: Раз я говорю, можешь верить. Неужели я не знаю своей собственной племянницы? Это благодаря мне она изучила «Биографии достойных женщин», «Беседы и суждения», «Книгу песен»[30]. Девушка она хорошая, неболтливая, к тому же очень любит поэзию. Знает наизусть многие твои стихи... Конечно, ее папаша в чем-то вульгарен, занудлив, любит деньги, почет. Но сыну твоему ведь не на старикашке жениться, а на его дочери! Едва она вошла в дом, начались неполадки. Жена старшего сына, Ашу, невзлюбила новую невестку и не захотела больше вести хозяйство. Когда же за это взялась новобрачная, жена Ашу стала укорять ее в неумении и расточительности. Пошли ссоры, требования о разделе хозяйства (второй, третий и четвертый сыновья Тао, у которых было по нескольку детей, давно уже жили самостоятельно). В дело вмешался Пан Дэчжи, заступившись за свою дочь. Кончилось тем, что Тао Юаньмин, который обычно избегал осложнений, согласился на раздел, причем пожелал остаться вместе с младшим сыном. К счастью, арендованные у Пан Дэчжи три десятка му земли давали в последние годы неплохой урожай. Атун был умелым земледельцем, отец и жена помогали ему при окучивании и прополке, детей, кроме Теленка, в семье не было — словом, дни у них проходили в трудах и заботах, но жили они безбедно. Тао Юаньмин остался бобылем еще тридцати лет — обе его жены одна за другой рано ушли из жизни. Ко второй из них, урожденной Дяо (это о ней он писал: «Муж идет впереди с плугом, жена следует за ним с мотыгой»), Тао навсегда сохранил нежное и возвышенное чувство. Она родила ему четырех сыновей, в том числе и самого младшего — Атуна, потому Тао особенно любил этого недалекого парня и не хотел расставаться с ним. У людей, привыкших к одинокой жизни, часто появляются странности: к примеру, они перестают заботиться о чистоте своего жилища, запрещают другим трогать их вещи... Тао Юаньмин не был в этом смысле исключением. Но в тот год, когда ему исполнилось пятьдесят, жестокая болезнь заставила его изменить свой образ жизни одинокого вдовца. Он был прикован к постели, и уже стали опасаться за его жизнь, но молодая невестка, не боясь возможных пересудов, стала за ним ухаживать — меняла и стирала его белье, подавала лекарства. К тому времени, когда болезнь миновала, невестка стала настоящей хозяйкой в доме, а Тао Юаньмин вновь ощутил радость жизни в семье, где о нем проявляли заботу. В последние годы произошли события, относительно которых Тао Юаньмин мог лишь строить догадки. Так, он не понимал, чего ради такие большие люди, как правитель области Цзянчжоу, навязываются ему в друзья. Сначала это был Ван Хун, потом сменивший его Тань Даоцзи. Его визит оставил у Тао особенно неприятные воспоминания. Правителя сопровождал целый отряд всадников, которые громко кричали, расчищая дорогу для своего начальника, и взбудоражили весь Каштановый поселок. Крестьяне на всякий случай заперли свои дома и выглянули на улицу лишь после отъезда высокого гостя. Разумеется, Тао встретил правителя области с подобающим почтением. Тань Даоцзи начал с высокопарных рассуждений о том, что мудрец становится отшельником, когда в Поднебесной воцаряется беззаконие; когда же справедливость в Поднебесной восстановлена, мудрец возвращается ко двору. Потом он вдруг заговорил о том, сколько мер риса, сколько свиней и баранов собирается подарить поэту. Тао Юаньмин, который — по словам современников —«бежал от чиновничьего жалованья, вернулся к плугу» и никогда ни у кого не брал ни денег, ни подарков, почувствовал, как у него запылало лицо. Он сложил руки, будто при благодарственном поклоне, и решительным тоном произнес: — Не смею, никак не смею принять такой подарок. Я, Тао Цянь (это имя, Цянь[31], Тао взял после того, как Лю Юй[32] отобрал власть у династии Цзинь), никоим образом не достоин именоваться «мудрецом». Я ушел от дел не ради того, чтобы выделиться среди других, а лишь во исполнение давнего своего желания. Где уж мне равняться с «мудрецами», которые хотят возвыситься в чужих глазах благодаря отшельничеству, а сами только и думают, что о высоких постах и большом жалованье! Как гласит пословица, если в речах согласья нет, чем меньше говоришь, тем лучше. Сразу же поняв, что разговор не получится, правитель поднялся, принял величественную позу и громко произнес: — Приезжай ко мне в областной город. Устрою в твою честь обед! — Всего хорошего! Вот выберу как-нибудь время и непременно явлюсь к вам с визитом. Так и закончилась эта малоприятная встреча. Позднее Тао Юаньмину пришлось не раз и не два объяснять односельчанам, что Тань Даоцзи приехал сам, без приглашения. Он говорил, что чувствует себя виноватым перед всеми за те неудобства, которые принес с собой важный гость, переполошивший все село. — Это еще ладно, ничего страшного. Вот если бы солдатня стала хватать наших кур и уток... — сказал один пожилой крестьянин. — Я замечаю, что стражники, которые собирают подати, стали с нами куда обходительнее. Не иначе, как благодаря вам, почтенный, — сказал Тао другой пожилой и многоопытный сосед. — Эх, земляки, мы все уже немолоды, у всех волосы седые; чего ради должны мы терпеть всякие неприятности? Я хочу одного — чтобы вельможи и важные чиновники не заглядывали сюда, дали бы нам спокойно доживать свои дни. А стихов, пожалуй, больше писать не стоит. Напишешь три строчки, и уже к тебе едут всякие нудные людишки... На этом Тао Юаньмин счел свою «дипломатическую миссию» завершенной.3
После возвращения из монастыря Тао Юаньмин весь день пролежал в постели, и к вечеру настроение у него заметно улучшилось. Поясница еще побаливала, но голова больше не кружилась. Когда настало время вечерней трапезы, Тао увидел, что невестка ставит на стол большие блюда с курицей и рыбой в соусе. Он удивился — откуда такие вкусные вещи? — Известно, папенька привез. Я уж не знала, как быть, — и брать совестно, и не брать нельзя — обидится. Невестка успела изучить нрав свекра — если что не так, он даже к палочкам не прикоснется. Поэтому она говорила осторожно, как бы оправдываясь, и внимательно следила за выражением лица Тао. С годами, особенно после появления Теленка, отношение старого поэта к невестке становилось все более мягким и сердечным; порой он даже старался угадать ее желания, сделать что-то приятное. Вот и сейчас он сказал, явно стараясь порадовать молодую женщину: — Что ж, мы всегда благодарны твоему почтенному родителю. А коли есть хорошая еда, давайте выпьем по чарке-другой. Атун, бери большую чашку и пей мою любимую настойку с ароматом хризантемы, а я отведаю рисовой водки. И невестке придется отпить! Очень уж скучно глотать вино в одиночку! Втроем они уселись, поджав под себя ноги, вокруг низенького столика, покрытого черным лаком. Атун мало разговаривал, зато по части выпивки был силен так же, как и в любом виде полевых работ. Он пил большими глотками, и на его загорелом до черноты лице время от времени появлялась довольная улыбка. После двух чарок Тао Юаньмин, сам того не замечая, опять взялся за свои излюбленные темы: — Атун, постарел твой отец, в поле больше не ходит, даже не знает, какие у нас в семье сейчас заботы. Вот у твоих братьев наверняка забот хоть отбавляй, у них детей много. Бесталанный он, твой отец, к тому же со вздорным характером, вот и не дослужился до приличной должности. И вас, детей, обучить как следует не сумел. Особенно ты, Атун, совсем мало иероглифов знаешь! Да, плохо я выполнил свой отцовский долг... — Зачем вы опять завели этот разговор, отец? Много ли прока в учении? Дерьмо! Взять хоть дядю Яня — всю жизнь прослужил, а теперь на старости лет его определяют, как ссыльного, в какую-то область Шиань. Только земля никогда не обманет человека — сколько поработал мотыгой, столько и собрал в закрома. Я сам читать не люблю и начетчиков не уважаю. Старший братец, к примеру, начитался книг и стал говорить как-то мудрено, толком и не разберешь. Оттого я не люблю с ним разговаривать, да и не только я. Атун сделал большой глоток, почмокал губами и вытер их своей здоровенной ладонью. — Когда отец говорит, мог бы помолчать и послушать! — попробовала урезонить мужа благовоспитанная невестка. — Да пусть его, он правильно говорит, очень правильно! Янь Яньчжи человек хороший, только сверх меры заботится о славе и выгоде, все норовит занять пост повыше. Когда он заезжал прошлый раз, мы с ним малость поспорили. Он говорил, что служба отнимает много времени и поэтому он не может писать хороших стихов, как следует отделывать строчки. Разве в этом дело? Он целыми днями якшается с разными князьями, то прислуживает на пире, то сопровождает в поездках, то пишет оды на случай, утомляет себя пустыми хлопотами, подсчитывает потери и приобретения — откуда тут взяться хорошим стихам? По-моему, ему удалось стихотворение «Воспеваю пять правителей», а оно написано как раз в то время, когда у него не ладилось с карьерой. Остальные стихи гораздо слабее... Но все равно он человек справедливый и добрый, ценит друзей. Когда же выпьет, забывает о всех суетных помыслах. Можно сказать, ему открыт истинный смысл винопития. Но, увы, с годами люди часто начинают думать бог знает о чем. Боюсь, что на обратном пути из Шиани он не захочет повидаться со мной. Тао Юаньмин пригладил бороду, осушил еще чарку и, вдруг погрустнев, продолжал: — Недаром эти два дня я все думаю, что надо докончить «Поминальную песнь» и «Эпитафию самому себе». Оставлю своим добрым друзьям вроде Янь Яньчжи, пусть почитают. — Папа, разве вы вчера не виделись с наставником? Вы собирались пожить там дня два, а в тот же вечер вернулись! — озабоченным тоном произнесла невестка. — Увидеться-то увиделся, да только побеседовать не пришлось. У них там было какое-то буддийское молебствие. А этот великий законоучитель, Хуэйюань, очень уж любит себя показать, все пугает людей разговорами о жизни и смерти, о том, что грешники «во всех трех сферах[33] не найдут покоя, как во время пожара». Не люблю я этого! — Верно сказал почтенный Конфуций: «Мы еще жизни не знаем — что можем мы знать о смерти?» — ввернула невестка фразу из «Бесед и суждений», блеснув своей образованностью. Кстати говоря, эту фразу часто повторял и сам Тао. — И вправду противно — шумят, суетятся... А сами небось только и думают что о богатых прихожанах с большими деньгами! — разговорился подвыпивший Атун. — Нет, тут ты не прав. Хуэйюань строго придерживается монашеской морали, богатства его не прельщают. Он написал пять трактатов под общим названием «Монашествующие не преклоняются перед земными владыками», досконально знает и шесть конфуцианских канонов, и учение Лаоцзы и Чжуанцзы[34], а буддийские сутры излагает не так сухо и пресно, как иные. Он не допустил в сообщество «Белого лотоса» этого гордеца Се Линьюня[35], который любит похваляться своей родовитостью и богатством. Наконец, он, как пишут, «весело беседовал о былом» со свирепым предводителем разбойников Лу Сюнем, не побоялся, что его за это объявят пособником бандитов. Вот за что я его уважаю. Все это мог сделать лишь человек смелый, образованный, талантливый. И все же мы с ним разные люди. По-разному смотрим на жизнь и смерть. Я много об этом думал и всякий раз прихожу к тому, о чем уже писал двадцать с лишним лет назад в стихотворении «Домой к себе»: «Дай воспользуюсь я этим миром живых превращений, чтоб уйти мне затем в ничто. Зову неба я буду рад; колебаньям откуда явиться?»[36] Сколько бы мы ни спорили с Хуэйюанем, каждый останется при своем мнении. Он как-то написал «Суждение о бренности тела и бессмертии души», а я ответил ему циклом стихотворений «Тело, тень и душа». Смысл их выражен в строках о том, что нужно отдаться волнам великих превращений в природе, не радуясь и не гневаясь; пусть исчезает то, чему суждено исчезнуть, и не нужно из-за этого беспокоиться. Исчезновение означает завершение. Все, что имеет начало, должно иметь конец, должно завершиться. Разве это не естественно? К тому же жизнь прожить совсем нелегко! Взять хоть нашу семью. Одна за другой умерли две матери моих детей, моя сестра и брат. Когда мне шел сорок пятый год, во время пожара сгорел наш дом и почти все имущество. Спасибо, друзья и соседи помогли, а то бы нам не выжить. Вы, молодые, испытали и голод, и нужду. Так неужели же это должно длиться вечно? Или возьмем, невестушка, твоего родителя. Ты только представь себе, что каждый отрастит такой же живот, так же будет целыми днями бегать с визитами к областному начальству, хлопотать о приобретении новых земель. Ведь должно же это когда-нибудь кончиться! Тут Тао Юаньмин не выдержал и расхохотался; на его темном осунувшемся лице обозначились ямочки. — Хотите, расскажу вам смешную историю? Третьего дня я слышал ее от Ян Сунлина; наверняка он сам ее сочинил. Но в истории этой есть смысл — из нее явствует, что не все в буддизме приносит пользу в обычной жизни. Тут Атун и его жена стали наперебой просить: — Расскажи, папа, расскажи! Я страсть люблю слушать твои истории! — Папины рассказы многие любят! — Ладно, слушайте. Как-то один бедный ученый отправился к прославленному монаху побеседовать об истине. Монах с ним обошелся надменно. Зато с каким усердием он обхаживал важного чиновника, прибывшего в монастырь! Когда чиновник удалился, ученый спросил: как можно одних гостей принимать так, других — эдак? Старик ответил на чаньский[37] манер: «Принимать — все равно что не принимать; вот не принять — это значит принять». Взбешенный таким разъяснением, ученый несколько раз изо всей силы стукнул монаха по лысине, приговаривая: «Бить — все равно что не бить; вот не бить — это значит бить». После этого он ушел, очень довольный собой. Ну как, понравилось? Невестка рассмеялась, Атун же громко захохотал, приговаривая: — Вот и хорошо, поделом ему! Время было позднее, и Тао Юаньмин поднялся. Невестка сразу же подошла к нему, чтобы проводить до его комнаты.4
У Тао Юаньмина давно выработалась привычка: просыпаться среди ночи и заниматься каким-нибудь делом либо, оставаясь в постели, размышлять над тем, чего он не успел додумать днем. В эту ночь за стеной было тихо; после веселого застолья и вкусной еды сын с женой, не говоря уже о внуке, спали сладким сном. Когда Тао проснулся, шла, пожалуй, только третья стража[38]. Ему показалось, что в доме как-то по-особому тихо — так тихо, что слышно, как шелестят крыльями насекомые, пролетавшие за окном. Эта мрачноватая, почти гнетущая тишина осенней ночи усугублялась тусклыми лучами стоявшего на столе светильника с растительным маслом. Тао поднялся и прибавил света. Он собирался переписать набело уже давно обдумываемый им стихотворный цикл «Поминальная песнь» и «Эпитафию самому себе». Но от окна потянуло осенним ветром, и Тао расчихался. Подняться с постели оказалось делом нелегким — руки и ноги не слушались его. Тао подумал: «Да, в пору своей осени человек чувствует себя совсем не так, как в молодости, — даже с постели встать и то трудно. Кажется, отпущенный мне срок подходит к концу». Пришлось остаться в постели и, полулежа, вновь взяться за отделку как будто уже отделанных стихов. Прочитав про себя строки «Если в мире есть жизнь, неизбежна за нею смерть. Даже ранний конец не безвременен никогда», он дошел до слов: «Но родные мои, может быть, и хранят печаль, остальные же все разошлись и уже поют». Раньше он думал, что этим можно завершить весь цикл из трех стихотворений. Но тут в его сознании внезапно возник горный монастырь с шумом колоколов и барабанов и наставник Хуэйюань — надменный, равнодушный к окружающим, то и дело пугающий людей разговорами о смерти. «Нет, не годится на этом кончать, надо еще раз поспорить с монахом. Еще раз сказать в стихах то, к чему я пришел, размышляя о жизни и смерти!» И он добавил в самом конце еще две строки: «Как я смерть объясню? Здесь особых не надо слов: просто тело отдам, чтоб оно смешалось с горой»[39]. Да, именно так. После смерти человек истлевает так же, как деревья и травы, что растут на склонах гор. В каком мире приходится жить! Игрок Лю Юй вдруг стал императором, а храбрый полководец Лю Лаочжи заслужил лишь посмертный позор: изменник Хуань Сюань разрыл его могилу и высек труп плетьми... Всюду раздоры, убийства, глаза б ни на что не глядели! Вот умру, вновь сольюсь с природой, и ни о чем не придется жалеть. «...Как я смерть объясню? Здесь особых не надо слов; просто тело отдам, чтоб оно смешалось с горой». На этом и закончу стихотворение, ничего больше не надо добавлять. После «Поминальной песни» Тао мысленно обратился к «Эпитафии самому себе». Эту вещь он обдумывал особенно долго, поэтому, как ни старался, не нашел ни одной нуждающейся в переделке фразы. Но вот дошел до самых последних строк: «...Не стоит возноситься из-за прижизненной славы, и тем более — кому нужны посмертные песнопения? Воистину тяжела жизнь человека, так что же страшного в смерти? Увы, увы...» В этот момент что-то влажное, горячее упало с его ресниц. Он оплакивал не свой печальный финал, а всю свою трудную, полную разочарований жизнь. «Воистину тяжела жизнь человека, так что же страшного в смерти?» Ведь именно так я всегда думал. Эх, ноги меня не держат — значит, совсем стариком стал. Да, всему должен быть свой конец. Завтра же надо попросить младшую невестку сходить в отцовский дом и попросить того каллиграфа еще два раза переписать мои стихи. Тогда будет чем отдарить Янь Яньчжи — ведь он оставил мне двадцать тысяч монет — немалые деньги. Просто так он дарить не станет, да и я просто так не взял бы. Пока Тао Юаньмин размышлял, за окном захлопал крыльями петух и громко возвестил наступление нового дня. 1961Корейская Народно-Демократическая Республика
Кан Гёнэ
Кан Гёнэ (1906—1944) родилась в семье безземельного крестьянина-батрака. С пяти до шестнадцати лет жила в доме отчима, высокопоставленного чиновника, где остро почувствовала, что такое социальное неравноправие. Вместе с тем она в это время много читает: в домашней библиотеке были собраны шедевры китайской и корейской классики, произведения новой и новейшей корейской литературы. Приехав в Пхеньян, она в 1924 году поступила в женскую среднюю школу и продолжила литературное самообразование. Здесь она читает переводы мировой классики, знакомится с идеями марксизма-ленинизма. За организацию забастовки ее исключают из школы на третьем году обучения. Далее — среда разночинной интеллигенции, поиски полезной деятельности, а с 1929 года — вынужденная эмиграция в Северо-Восточный Китай (город Лунцзин). На чужбине она перепробовала немало профессий, нередко бывала без работы. В августе 1931 года состоялся литературный дебют Кан Гёнэ: она публикует автобиографический роман «Мать и дочь». Затем появляются в печати рассказы «Отец и сын» и «Эта женщина» (1931—1932), «Огород» и «Футбольное поле» (1933), роман «Проблема человечества» (1934), рассказ «Расчет» (1935), повесть «Деревня под землей» (1936), рассказы «Тьма» и «Наркотики» (1937—1938). Напряженный труд писательницы оборвался в конце 1938 года тяжелой болезнью. В 1939 году Кан Гёнэ возвратилась на родину, в уездный город Чанён провинции Хванхэ, где и умерла 26 апреля 1944 года. Кан Гёнэ рассказала в своих книгах о корейском обществе 20—30-х годов, когда страна жила в условиях жестокого оккупационного режима, установленного японскими милитаристами. Произведения Кан Гёнэ, не всегда равнозначные в художественном отношении, неизменно исполнены глубокого сочувствия к угнетенным и обездоленным, искреннего внимания к их внутреннему миру, к их надеждам и чаяниям. Наиболее известным произведением Кан Гёнэ является роман «Проблема человечества». В нем рассказывается о том, как крестьянская молодежь, спасаясь от голода, нищеты, произвола помещиков, уходила в город. Тема романа — рождение и становление корейского пролетариата, революционной интеллигенции. А. АртемьеваПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Роман
Если хотите увидеть деревню Ёнъён, поднимитесь на вершину горы — отсюда вся деревня как на ладони. Вот громадный дом под черепичной кровлей — это усадьба помещика Чон Токхо. Чуть поодаль два дома под оцинкованным железом — волостное управление и полицейский участок. Словно крабы к киту, мрачно лепятся к усадьбе убогие лачуги крестьян. А вон там, ниже, видите голубое озеро? Это озеро Гневное. Оно дает влагу полям, оно питает все живое вокруг. Местные жители почитают Гневное как святыню. Никто, конечно, не знает, когда и как возникло озеро, но из поколения в поколение передается в деревне легенда о Гневном. А говорится в ней вот что. «Когда-то давным-давно жил в этих местах очень богатый старый помещик. Богатства его были несметны, а жадность не ведала удержу. Слуг у него тьма-тьмущая, полей и угодий не измерить, тучного скота не сосчитать. Каждый год в его амбары засыпали горы риса, но он скорее сгноил бы хлеб, чем помог бы бедняку. Да ему и мысли такой не приходило в голову. Нищему куска хлеба никогда не подал. Его ворота всегда были на крепком запоре. Но вот однажды деревню постигла беда — выдался неурожайный год. И когда люди начали пухнуть от голода, пошли они к богачу и стали умолять его о помощи и спасении. Не один раз ходили... Но сытый скряга был глух к их мольбам и гнал умирающих с голоду людей со двора, а там амбары ломились от зерна. Что им оставалось делать? Доведенные до отчаяния, сговорились они и ночью потихоньку унесли из амбаров помещика хлеб и угнали из хлева скот. На другой же день разъяренный жадюга подал жалобу в уездное управление, а через несколько дней всех крестьян схватили и жестоко наказали: кого забили до смерти, кого угнали неведомо куда... Остались лишь старые да малые. И огласилась усадьба помещика плачем, стонами, ужасными криками. Одни оплакивали своих детей, другие тщетно звали отцов и матерей. И вот потоки слез — слез горя, отчаяния и гнева, в одну ночь затопили громадную, с китовью спину, усадьбу помещика, и разлилось на том месте большое озеро». Вот оно перед нами — озеро Гневное. Любой с первого взгляда может определить ширину озера, но никому еще не удавалось измерить его глубину. Говорят, однажды кто-то связал несколько мотков шелковых ниток и опустил в озеро, но дна так и не достал. Крестьяне гордятся своим озером. Стоит появиться в деревне новому человеку, ему обязательно рассказывают легенду о Гневном. Младенец заучивает ее, едва начав лепетать. Поэтому все местные жители помнят эту легенду. Верят крестьяне в чудодейственную силу Гневного исвязывают с ним все свои надежды и чаяния. К нему же приходят они со своими невзгодами и горестями. Заглянут они в его бездонную глубину, и словно легче им станет. Говорят, будто и тяжкие хвори исцеляет чудесное озеро — стоит прийти больному, помолиться Гневному, и болезнь как рукой снимет. По большим праздникам крестьяне бросают в озеро хлеб, рис, даже одежду и обувь. Одно странно — живя близ такого чудесного озера, не становились они ни счастливее, ни богаче, лишь год от году все больше погружались в нищету. Но все равно, кроме как от озера, неоткуда им ждать помощи. По крайности, утешение-то оно им приносит всегда — стоит только вглядеться в его необыкновенную голубизну.* * *
Вода Гневного, просачиваясь сквозь осоку, протягивающую свои длинные стебли навстречу весеннему солнцу, бежит и бежит по канавкам в поля. Старые ивы, что склонились над озером, кажутся со стороны безжизненными, но и они начинают покрываться нежной зеленью лопающихся почек. Вынырнул жук-плавунец, покружил, побежал по водной глади, оставляя за собой четкий след, и скрылся. Вдруг послышался легкий стук башмачков. Вот он все ближе, ближе — на гребень горы взбежала девочка. За нею явно гнался кто-то: то и дело оглядываясь, она что есть духу побежала вниз. Корзинка для овощей мешала ей: девочка то перекладывала ее из руки в руку, то ставила на голову, наконец, с досадой прижала к груди. При этом она то и дело оглядывалась на вершину горы. — Эй, девчонка! — раздался голос. — Постой, тебе говорят! Погоня настигала девочку. Она снова подняла корзинку на голову и припустила из последних сил, но вдруг споткнулась... и кубарем покатилась к подножью холма. Корзинка, обгоняя хозяйку, закувыркалась по склону. Маленький дровосек, злорадно хихикая, подбежал к девочке и удержал ее. — Ну что, девчонка! Небось за щавель свой испугалась?! А может, я на разбойника похож? Вот и полетела! Девочка, всхлипывая, поднялась, поискала глазами корзинку — а она далеко, на краю ячменного поля, — украдкой глянула на дровосека и отвернулась. Мальчишка живо сбежал вниз и возвратился с корзиной. — Гляди-ка! Сейчас все съем! Он поставил корзинку перед девочкой, запустил в нее руку и, захватив горсть щавеля, стал с хрустом жевать его. Девочка снова покосилась на своего преследователя. — Отдай! Ишь какой! — Она подскочила к нему и вырвала корзинку. Вид надутой от злости девчонки рассмешил маленького дровосека. Вдруг его внимание привлекла черная родинка на ее веке. — Что это у тебя? — ткнул он пальцем в веко. — Больно же, ты что?! Девочка отшатнулась и с силой оттолкнула руку мальчишки. Тот шмыгнул носом. — Ух и жадина ты! Ну, хоть один еще... — И протянул руку. Его жалобный, просящий голос немного рассеял страх девочки; она взяла из корзинки горстку щавеля и бросила мальчишке. Пока он подбирал листочки и прямо со стебельками, причмокивая и глотая слюну, совал в рот, девчонки и след простыл. Огляделся, а она уже за озером! — Ах такая-сякая! Удрала все-таки! Он смотрел, как, чуть покачиваясь, удаляется ее фигурка, и ему вдруг тоже захотелось вернуться в деревню. — Эй, Сонби! Подожди-и-и! Пойдем вместе! — закричал юный дровосек и быстро стал спускаться. Но когда он подбежал к озеру, Сонби уже скрылась из виду. Он с досады плюхнулся на землю. — Одна убежала... Ну и ладно... Нечаянно глянув вниз, мальчик увидал свою физиономию в воде. Он весело рассмеялся и стал гримасничать, кривляться, наблюдая, как его передразнивает его же собственное отражение. Вдруг ему нестерпимо захотелось пить. Он вскочил, скинул пропитанную потом рубашку, бросил ее на траву и опустился к воде. Распластавшись на берегу и вытянув шею, стал пить. Прохладная вода освежала горло. Напившись, он проворно вскочил и перевел дух. Легкий ветерок, напоенный ароматом весенних трав, ласково гладил кожу и осушал влажное тело мальчика. — А моя чиге...[40] — хватился он вдруг. Ведь это он за девчонкой прибежал сюда! В один мах он уже был на горе, возле своей чиге, взял серп и стал жать траву по склону горы. Скоро эта работа утомила мальчика, он подошел к чиге и прилег, опершись на нее. Аромат свежескошенной травы дурманил голову, и его вдруг потянуло в сон. Он закрыл глаза... — Чотче![41] — сквозь дремоту услышал он вдруг, вскочил испуганно и стал озираться по сторонам. Тяжело опираясь на костыль и пыхтя от усталости, к нему направлялся Ли-собан[42]. — Ли-собан! — обрадовался Чотче и внезапно почувствовал, что изрядно проголодался. — Я так и думал, что ты здесь! Я за тобой пришел! — говорил Ли-собан, ласково глядя на мальчика. Их длинные тени сбегали к самому подножию горы. Чотче взвалил на спину чиге с накошенной травой. — За мной пришел, говоришь? — Да ведь уже солнце заходит, — пояснил Ли-собан, — мать беспокоится! Ты уж не пугай нас так! Чотче, шагая вровень с Ли-собаном, лишь хмыкнул в ответ. Яркое солнце слепило глаза, так что он не представлял себе спросонок — утро сейчас или вечер. — Мать ужин приготовила и ждет не дождется тебя! Ли-собан умышленно заводил разговор о матери, пытаясь разгадать, за что мальчик дуется на нее. — Ужин, говоришь? Чотче остановился, посмотрел на Ли-собана и тотчас же отвел взгляд. В лучах заходящего солнца равнина была подобна узорчатому шелку. — Ли-собан, — задумчиво произнес мальчик, — а что, если бы и я начал с этого года в поле работать? У Ли-собана екнуло сердце: что это ему пришло на ум? — Я буду в поле работать, а ты мне обед будешь приносить и... Он расплылся в улыбке, радуясь тому, что так здорово все придумал! «Да есть ли у тебя поле, где б ты мог работать?!» — чуть не крикнул Ли-собан, но вместо этих слов из груди его вырвался лишь какой-то невнятный звук. — И уж тогда-то ты, Ли-собан, побираться не пойдешь: ты будешь есть хлеб, который я сам выращу! Ли-собан застыл на месте: так потрясен он был, пожалуй, впервые в жизни. С малых лет скитался он по чужим углам, сколько обид, унижений вытерпел, и даже вот ногу ему покалечили... А этот малец... о нем... — Ли-собан, ты плачешь?! — обернувшись, широко раскрыл глаза Чотче. И, чуть подумав, заявил: — А такую мать — ты меня и не уговаривай! — я все равно брошу! И в его глазах засверкали злые огоньки. — Э-э! Это ты зря! Это нехорошо! — покачал головой Ли-собан, недоумевая, за что этот мальчуган так зол на мать. Поругала? Так дети долго обиды не помнят... Может, он догадывается о ее распутстве? То Ю-собан, то Ёнсу, да еще кузнец зачастил... Э-эх! У Ли-собана пропала всякая охота продолжать этот разговор. Они вышли на узкую тропинку, бегущую по краю пшеничного поля. — Ли-собан! Много денег набрал сегодня? — Какие там деньги! Сегодня в полевом кабачке справляли свадьбу, и я прогулял целый день. Только вот вернулся! — На свадьбе... Значит, хлеба принес, да? Хлеба принес? — Постукивая палкой, Чотче вопросительно смотрел на Ли-собана. — Само собой! — Много? У Чотче потекли слюнки. — Да принес малость. — Если бы можно было всегда вдоволь есть хлеб, вот хорошо-то было бы! — И он проглотил слюну. — Этой весной я много буду приносить, ешь, пока живот не лопнет! Чотче засмеялся и постучал палкой о камень. До чего хороши были в этот миг его потупленные глаза! Смеркалось, когда они подошли к дому. Мать Чотче ждала их у ворот. — И как тебя тигр не унес, чертенок! — в сердцах накинулась она. — Где пропадал? Чотче скинул ношу и выпрямился. — Хлеба, — потребовал он, войдя в комнату, и оглянулся на Ли-собана. Мать мигом сняла с полки миску с кусками хлеба и поставила на стол. — Ну, бродяжка, здорово проголодался? На вот, наедайся досыта! Чотче живо придвинул миску и стал с жадностью поглощать хлеб. Мать и Ли-собан с умилением и жалостью смотрели на него. Чотче вмиг опорожнил миску. — Больше нету? — Нету, — буркнула мать, зажигая лампу. — Скажи спасибо и за это. — Может, кашки бы ему, — промолвил Ли-собан, глядя на ее щеки, которые при свете лампы показались ему чересчур румяными. Она отодвинулась от лампы. — Ты, Ли-собан, совсем испортил мальчишку, — недовольно проворчала мать, — все потакаешь ему... У щенка глаза лишь не сыты, от жадности готов все слопать. Ей самой хотелось съесть хоть кусочек хлеба, но она решила подождать сына и поужинать вместе с ним. Однако малый совсем ошалел от голода, и у нее не хватило духу протянуть руку к хлебу. А теперь она с сожалением смотрела на пустую миску. — Ли-собан, пойдем скорее спать. У Чотче уже слипались глаза. Как ни приятно было Ли-собану сидеть возле его матери, но на нетерпеливый зов мальчика он тяжело поднялся, опираясь на костыль. — Пойдем. Чотче вскочил, схватил Ли-собана за руку и потащил в свою каморку. Он тотчас же повалился у очага и, разметавшись на теплом полу, быстро заснул. Вскоре с хозяйкиной половины донеслись невнятные голоса. — Опять кого-то принесло! — проворчал Ли-собан и прислушался. Но там говорили очень тихо, и только порой доносился женский смех. Ли-собану хотелось уснуть, он закрывал глаза, но шепот отгонял от него сон и сердце закипало от возмущения. Чуть не каждую ночь ему приходится быть свидетелем этого безобразия, да куда денешься? Ли-собан встал, закурил трубку и сел у окна. Лунный свет радугой проникал сквозь оконную щель. — Подумаешь, какая!.. Ли-собан удивленно оглянулся. Это Чотче, чмокая губами, бормотал во сне. «Выходит, он уже мечтает о какой-то девчонке?» Если б только можно было сделать так, чтобы Чотче навсегда остался ребенком! Что его ждет в будущем? И чем оно будет отличаться от его, Ли-собана, жизни? Он пододвинулся к мальчику, всмотрелся в него. Тот по-прежнему спал крепким сном. Казалось, он переживал сейчас неповторимо счастливое мгновение. Вдруг раздался неистовый крик. Ли-собан поднял голову и насторожился. — Ах ты, грязная тварь! Ах, потаскуха! И тут все ходуном заходило. Ли-собан подполз к двери. — Эй, вы, господа! Взбесились, что ли? Потише! — Заткнись ты там, убогий! У-у, тварь! Мало того, что с этим ублюдком, так ты, видно, еще и с колченогим путаешься?! Тьфу! Едва до ушей Ли-собана донеслось: «...и с колченогим путаешься», он весь затрясся, руки и ноги онемели. «Ну и хороши же вы все», — подумал он. Стук, гром, шарканье, треск... Как видно, Ёнсу и кузнец крепко сцепились друг с другом. — Говорят, щенок еще не понимает, что тигра надо бояться. Это как раз о тебе, молокосос! Вбил себе в башку, что она только с тобой, как верная жена?.. Раздался угрожающий крик: — Обоих зарежу, проклятые! — Ай, нож, нож! — завопила мать Чотче. Ли-собан схватил костыль, вскочил и кинулся на крик. Створки двери валялись на полу, лампа потухла... — Вот! Вот! Прерывисто дыша, мать Чотче протянула нож. Ли-собан схватил его и поспешно заковылял на кухню. Он метался по кухне, не зная, куда бы получше запрятать нож; наконец сунул его в вязанку травы и вернулся в комнату. — Ну зачем это? Вы, благородные, постыдились бы, — пытался он разнять развоевавшихся соперников. — А этот куда еще лезет? Ты, колченогий! Тебе что, тоже оплеухи захотелось? Кто-то сильно пнул его ногой, и он, пошатнувшись, упал навзничь. Костыль отлетел, и в темноте он не сразу смог найти его. Обшаривая пол, Ли-собан чувствовал, как многолетняя затаенная обида подступила ему к горлу. Но что, что он мог сделать?! Нащупав наконец костыль, он с трудом поднялся и выбрался во двор. Будь это пораньше, наверное, зевак бы собралось! Но сейчас была глубокая ночь и ни души кругом. Только над мрачной громадой горы Пультхасан ярко светит луна. Может, она тоже смеется над его увечьем и беспомощностью? — Ли-собан! Он вздрогнул. Это Чотче выбежал во двор. Тревога сжала сердце Ли-собана: как бы эти дьяволы... Он бросился к Чотче и схватил его за шиворот. Мальчишка рванулся. — Гады, гады! — кричал он во все горло и старался вырваться, но, чувствуя, что его крепко держат, принялся колотить Ли-собана кулаками. — Пусти, ты! — Чотче, Чотче! Не надо так, детка, нельзя, — уговаривал Ли-собан, — ведь прибьют тебя, слышишь ли, прибьют! — Ну и пусть бьют, пусть бьют, негодяи! Извернувшись, он ткнул Ли-собана головой в грудь. Ли-собан опять опрокинулся на спину. Чотче подбежал к чиге с травой, выхватил серп и метнулся к дому. — Куда ты! — Ли-собан рывком настиг его, схватил его за ногу. На шум во дворе, видимо, сообразив в чем дело, выбежала мать Чотче с дверным засовом в руках. — Ну, бесенок! Чего тебе не спится, чего буянишь тут? — А зачем эти негодяи приходят в чужой дом и буянят? В доме, точно разряды молний, трещали удары. Ли-собан похолодел: выскочат эти черти сюда, ведь несдобровать Чотче, покалечат. И он снова вспомнил, как схватился с помещиком и как ему сломали ногу. Неужели подобное несчастье обрушится на этого ребенка? Ли-собан катался от ударов Чотче, но не выпускал его ноги. Из носа у него закапала кровь. Вдруг Чотче опомнился, увидел, что натворил, и отвернулся, всхлипывая и тяжело дыша. Ли-собан поднялся, обнял Чотче и заплакал.* * *
Взволнованная Сонби вбежала на задний двор. — Мама! Мать плела соломенные маты для крыши и, обирая с пучков оставшийся рис, ссыпала его в черпак[43]. Она вопросительно посмотрела на запыхавшуюся дочь. — Ну что? Небось напутала что-нибудь и тебя выругали? Сонби покачала головой и приникла к ее уху: — Мама, там... в усадьбе... ссорятся хозяйка и вторая жена из Синчхоня... И сам хозяин разбушевался! Шепот защекотал ухо матери, она слегка отстранилась и вздохнула. — Только и знают, что ссориться. Кому же на этот раз досталось? — Раньше все хозяйке попадало... А сегодня вот избил вторую жену. Так жалко бедняжку! — Она машинально опустила руку в черпак с рисом и, помешивая, смотрела, как зернышки струятся сквозь пальцы. — Ну уж содержанку бьют — ладно, но где это видано, чтобы истязать законных жен? — ворчливо проговорила мать. Она внимательно посмотрела на возбужденную Сонби: щеки пылают, глаза блестят... — Ты же слышала, мама, — возразила та, — что она не по своей охоте пошла в содержанки? Отец за большие деньги продал ее. Что же ей оставалось делать? — Да, слышала... Нет ничего на свете страшнее денег! Мать глянула на притихшую Сонби, и ее вдруг охватила тревога: что-то будет с Сонби? Ведь она так выросла! Этой весной на ее чистых, но обычно бледноватых щечках заиграл румянец, да и вся она как нежный, готовый распуститься бутон! — Что же ты, сидишь, а белье, наверное, еще не накрахмалила! — спохватилась она. — Успею еще. Сонби медленно, с явной неохотой поднялась, взглянула еще раз на черпак с рисом и рассмеялась. — Мама! Если этот рис растолочь, тут, пожалуй, целая маленькая мерка будет! — Ну, ну, беги беги! — Угу. Сонби поставила черпак и убежала. Мать задумчиво смотрела ей вслед. «Как быстро летит время!» — вздохнула она. Сердце ее сжималось при мысли, что недолго уже осталось Сонби беззаботно резвиться. Она вытянула свои натруженные руки и стала разглядывать их. Пальцы в кровь исколоты соломой. И снова она вспомнила мужа. Если бы он был жив! Хоть и небогато жили, но разве при нем приходилось ей плести солому для крыши или чинить плетень? Особенно весной все работы вместе с ним казались ей легкими, все у них спорилось. Как беспечально жилось ей тогда! Умер муж — и все теперь приходится делать самой. При муже она понятия не имела, что значит заботиться о метле для двора или о глине для обмазки стен — все было для нее приготовлено. Сейчас никто ничего за нее не сделает! А кто поможет ей покрыть крышу? Эта забота не давала ей покоя. В прошлом году не перекрывали, и местами, в провалах, уже проглядывала трава. За несколько бессонных ночей она приготовила четыре пучка соломенных веревок и до завтра закончит плести маты. Но чтобы поднять их на крышу, привязать к коньку, нужны мужские руки! Кого просить? Она встала. — И зачем ты оставил меня, зачем ушел один? — прошептала она с тоской и обвела взглядом деревню. Куда ни глянь — все новенькие крыши, сверкающие яркой желтизной под лучами палящего прямо над головой солнца! И опять нахлынули воспоминания. Как тяжелы были последние дни мужа! До последнего вздоха он был в сознании, но так и не рассказал ничего. Потом вдруг захрипел... и перестал дышать. Отец Сонби — Ким Минсу — был человек доброго и кроткого нрава и редкой честности. Долгие годы работал он у помещика Чон Токхо, но не воспользовался ничем, что стоило бы хоть медного гроша. В работе никогда не знал устали. Прикажи ему Токхо броситься в огонь и воду — бросился бы не раздумывая. В деревне все считали Минсу добрым малым. Сам Токхо вполне доверял ему. Получить крупную сумму денег, исполнить ли какое-нибудь щекотливое дело он поручал только Минсу. Так продолжалось без малого двадцать лет. А восемь лет назад пришла беда. Случилось это зимой. Сонби не было тогда еще и семи лет. В тот день с утра снег валил хлопьями. Минсу, как всегда, встал рано и ушел в дом Токхо. Он убрал дворы и стал готовить корм коровам. Подошел Токхо. — Ты сходишь сегодня в деревню Панчхукколь? Минсу опустил голову. — Ладно, схожу. — Зайди ко мне. И Токхо направился в дом. Минсу пошел за ним. В гостиной на утепленной части пола стояла конторка. Токхо достал счетную книгу и внимательно просмотрел ее. — Ну да, в Панчхукколе... Этот тип задолжал почти пятьдесят иен[44] и, как видно, не собирается отдавать. Так вот, ты пойдешь и получишь с него. Минсу опустил голову и молчал. Токхо ощутил нечто вроде жалости к нему. — Ну что же? Пойдешь? Не сможешь, так старика пошлю. Не тяни, решай! Минсу не мог ответить сразу. Лицо его покраснело, он колебался. — Ну, почему ты такой несговорчивый? Идти-то все равно придется... Да, и пусть только попробует и на этот раз не отдать, уж я с ним разделаюсь! Все заберу! Потряси его как следует да растолкуй что к чему! Токхо свирепо уставился на Минсу. — По дороге зайдешь к Менхо и Ансок. — Хорошо. — Отправляйся непременно сегодня, — уже решительным тоном приказал Токхо. Он спрятал книгу в конторку, встал кряхтя и вышел. Минсу отправился на кухню, взял корм и пошел в хлев. Коровы сразу почуяли знакомый запах. Они лениво поднялись, потянулись к корыту и начали с удовольствием жевать сечку, от которой подымался душистый теплый пар. Минсу перетаскал весь корм и ушел. Бесшумно падали хлопья снега. Минсу озабоченно взглянул на небо. «А снег-то валит», — подумал он. Дома Минсу стал молча переобуваться. Жена вопросительно заглянула ему в глаза. — Куда это ты собираешься? — Долги собирать. — В такой день?! — А какой сегодня день? Снег идет хлопьями, значит, наоборот, тепло, погода мягкая, — старался успокоить он жену. Сонби, не спускавшая с отца глаз, подбежала, прижалась к нему. — Папа, и я с тобой! И, запрокинув голову, просительно заглядывала ему в лицо. Минсу обнял дочку и присел за обеденный столик. Но он лишь для виду зачерпнул немного каши и тотчас же встал из-за стола. — Ухожу на несколько дней. А ты хорошенько присматривай за Сонби да печь топи потеплее. — В этакую непогодь посылать! Он, видно, думает, что люди из железа сделаны! — ворчала жена, словно видя перед собой хозяина. — Ну что ты за человек! Чепуху ведь говоришь! — сверкнул глазами Минсу. Мать гладила ручонку Сонби и вот-вот готова была заплакать. Минсу провел рукой по волосам дочери, открыл дверь и вышел. — Счастливого пути! — уловил он слова жены и мерно зашагал прочь от дома. Невеселые мысли занимали его. Минсу отошел еще совсем недалеко, когда услыхал плач Сонби. Он оглянулся. Сонби по снегу бежала за ним. Минсу невольно сделал несколько шагов ей навстречу и остановился. Остановилась и жена, удерживая Сонби. Минсу помахал рукой, приказывая идти домой, повернулся и стал удаляться. А снег повалил еще сильнее. Крупные снежные хлопья, похожие на лепестки пиона, все таяли и таяли у него на губах. Ему вдруг сделалось свежо, словно он напился холодной воды. Все дороги занесло. Знакомые деревья по обочинам едва различались, и даже высокая гора Пультхасан едва проступала за сплошною снежной завесой. Минсу, не видя дороги, проваливался то в канаву, то в рытвину. Шел наугад, от деревеньки к деревеньке. Обувь его обледенела и потрескивала при каждом шаге... Так обошел он несколько нужных домов и наконец добрел до лачуги должника в Панчхукколе. Смеркалось. Был на исходе второй день с тех пор, как Минсу вышел из дому. Он постучал. — Хозяин дома? Хозяин открыл дверь, в которой тряпкой была заткнута дыра величиной с кулак, увидал Минсу, и его бледное, испитое лицо побледнело еще больше. — В такой-то снег! Проходите, проходите же скорее сюда! Минсу вошел в комнату и в первое мгновение ничего не мог различить перед собой — до того было темно. Он на секунду закрыл глаза, а когда открыл, ему стало душно... Лучше бы и не приходить сюда! Вряд ли в этом доме найдется даже чем поужинать. — Право же, в такой снег... Я сам все собирался зайти к вам, но как я мог явиться к хозяину с одними только словами? Как, должно быть, вы замерзли! Видно было, что он не знал, с чего начать, чувствовал себя неловко. — Послушай, собери-ка нам ужин. Может быть, там хоть холодное что-нибудь найдется. Его жена, склонив голову, нехотя встала и вышла. Немного отдышавшись, Минсу поглядел вокруг. Из-под черных как сажа лохмотьев, служивших, как видно, одеялом, доносился шорох. Лохмотья приподнялись, и оттуда заблестело множество черных глаз, послышалось хихиканье. Минсу не мог определить, сколько там детских головенок, но сразу догадался, что не одна и не две. Налетевший еще с вечера ветер то завывал, то снова стихал. Бумага на двери временами жалобно трепетала, и снег залетал в жилье. Жена хозяина принесла ужин. Минсу был ужасно голоден и рассчитывал подкрепиться кашей, но в миске оказалась всего-навсего просяная похлебка, заправленная сушеной капустой. Однако голод брал свое, и он с жадностью стал хлебать эту жижицу. А в углу, у очага, началось движение. Ребятишки повскакали и наперебой теребили мать: — Мамка, и мне каши, и мне, и мне есть... Хозяин грозно сверкнул глазами. — Ох уж эти щенята! Убить их и выкинуть! — И повернулся к гостю: — Вы кушайте на здоровье, не стесняйтесь. Эти бесенята... Они ведь только что поели, такая уж у них привычка. Пальцы у Минсу задрожали, он больше не мог есть; отложил ложку и отодвинулся от столика. — Что же вы не кушаете? Жаль, получше-то нет ничего. Хозяин поскреб в затылке и оттолкнул столик. Четверо малышей сорвались с места, и началась возня. Каждый тянул миску с похлебкой к себе, с криком, с визгом, не уступая друг другу, и только расплескивал похлебку по столу. Отец вскочил, взял длинную курительную трубку и замахнулся на ребятишек. Минсу стало не по себе. — Ну что они худого сделали? Ведь дети все одинаковы. Оставьте их, не трогайте! Самый маленький прильнул губами к столу и всасывал пролитую похлебку. Мать подхватила малыша, сунула ему грудь и, стыдясь чужого человека, прикрылась кофтой. Хозяин, тяжело дыша, опустил занесенную было руку. — Верно, верно. При чем тут ребятишки? Бить их — лишний грех на душу. Видно, я в прошлой жизни здорово нагрешил, теперь вот и расплачиваюсь, — с дрожью в голосе говорил и чуть не рыдал от стыда и отчаяния хозяин. — Ни прокормить, ни одеть-обуть их не могу, да еще и бью их, голодных, зря... А ребятишки?.. Ведь только что ревели в один голос, и вот уже смеются и шепчутся под лохмотьями как ни в чем не бывало. В эту ночь Минсу ни на минуту не сомкнул глаз. Как бумага на дверях, трепетавшая от ветра, его душа терзалась от тоскливого беспокойства. Минсу проснулся еще до зари и сел. Ночь без сна в холодной комнате еще больше его утомила. Тело стало тяжелым, и он почувствовал — не избежать простуды. — Сильно озябли? — спросил, проснувшись, хозяин. — Да... Нет, что вы! — невразумительно пробормотал Минсу, закурил и протянул кисет хозяину. Тот, смущенно опустив голову, взял щепотку табаку. Минсу сделал затяжку и невольно прислушался: из угла уже доносилось шушукание. Он повернул голову, но в темноте ничего не смог разглядеть, а только слышал непрерывное щебетанье детских голосов. «Теперь и Сонби проснулась и щебечет с матерью», — подумал он. — Мама, есть хочу! Минсу вздрогнул и выронил трубку. Ему показалось, что это сказала Сонби, до того похож был голос, — но уже в следующее мгновение он опомнился: откуда здесь быть Сонби? Но успокоиться он уже не мог, щемило сердце. Ему захотелось поскорей уйти. Он поднялся, почти бессознательно вынул из кисета[45] бумажку в одну иену и вложил в руку хозяина. — Это малышам. Хозяин оторопел. В тот же миг Минсу представил себе искаженное злобой лицо Токхо. Его затрясло. И, уже не слушая благодарных слов хозяина, Минсу быстро вышел. Ветер, бушевавший всю ночь, стих, но всюду намело сугробы снега. Минсу шел, утопая в снегу, угадывая дорогу по придорожным кустам и деревьям. Ослепительно белый снег был испещрен узорами птичьих следов. Тревожно было на душе у Минсу. Что сказать Токхо? Обмануть: получил, мол, только две иены, а потом незаметно вложить свои? Или открыть правду? Лучше, пожалуй, правду. Ведь человек же он, в конце концов. Все рассказать — неужели осудит? Сомнения мучили его. Будь кто-нибудь рядом, он посоветовался бы. Он уже решил было заставить совесть промолчать, но опять передумал. «И дело-то сделал бесполезное, — упрекал он себя, — ну что для детишек этого бедняги одна иена!» Так ничего и не надумав, добрел Минсу до своей деревни. Чем ближе к дому, тем медленнее и тяжелее делались его шаги. У околицы Минсу остановился было в раздумье и — будь что будет! — двинулся дальше. «А что, если, на счастье, Токхо не окажется дома?» — мелькнула у него мысль, когда он обивал с себя снег у хозяйского порога. С этой надеждой Минсу робко приоткрыл дверь. В нос ударил табачный дым, заклубившийся в хлынувшем на него воздухе. Он сразу узнал запах табака, который обычно курил Токхо. Минсу не решался войти. — Ну, совсем замерз, наверно, скорей проходи, грейся! Токхо исподлобья смотрел на него. Сидящие кругом старики тоже закивали ему. Волей-неволей пришлось войти. Он сел недалеко от жаровни. Токхо вынул из конторки счеты. — Ну как? Дал на сей раз хоть что-нибудь этот самый... из Панчхукколя? Токхо так ненавидел его, что даже не хотел назвать по имени. Минсу покраснел, замялся. — Нет. — И ты, выходит, оставил его в покое? А ему бы ребра, хребет бы переломать! — Нечем ему... А то он бы обязательно... Минсу проглотил конец фразы и опустил глаза. Ему вдруг живо вспомнился малыш, прильнувший к пролитой похлебке, словно к материнской груди, представилось все их мрачное жилье. Вялый ответ Минсу привел Токхо в бешенство. — Как же он, скажи ты мне, тратит чужие деньги, если не может вернуть их?! — взревел он. Минсу с опаской отодвинулся. Ведь хозяин, чего доброго, может и ударить его. — Ну а с других? — Ппо...получил. Токхо расправил набежавшие было сердитые морщины. — Сколько же? — Три иены вроде, — выпалил Минсу и ужаснулся. «Две иены», — хотел он сказать, но словно кто-то подтолкнул его сказать: «три». Теперь уж он решил рассказать всю правду. В ушах странно звенело. — Выходит, все проценты получил, все дело в этом... из Панчхукколя. Он, видно, хочет присвоить чужие деньги. Ну, ладно, выкладывай, что получил, — как будто смягчился Токхо. Дрожащей рукой Минсу вынул из кошелька деньги и протянул хозяину. Токхо пересчитал. — Только две иены? — подозрительно уставился он на Минсу. Тот поднял голову. В глазах его была по-детски искренняя мольба. — Детишки у бедняги голодные... Детишкам отдал. На глазах его выступили слезы. — Что-о?! — вытаращил глаза Токхо и, не помня себя от бешенства, швырнул в Минсу первое, что оказалось под рукой, — счеты. Счеты угодили в переносицу и с треском отлетели на пол. — Идиот! Скажите какой великодушный оказался за чужой-то счет! Из своего кармана можешь милосердствовать сколько угодно! — свирепел Токхо. Гости вступились за Минсу. — Довольно, оставьте его в покое. — Не-ет! Ну был бы сам голодный, потратил на себя или на что-нибудь дельное — кто бы слово сказал? А то ведь что придумал?! Бла-го-де-тель! Не возмутительно ли? Ходил, ходил, недоумок, и дороги даже не оправдал! Убирайся вон, скотина! Токхо подскочил и пнул Минсу ногой. Не случись тут посторонних, он избил бы его до полусмерти, но сдерживал себя, опасаясь дурной огласки. — Дело не в иене, — не унимался Токхо, — не ахти какие деньги. Но мало того, что тот мерзавец не отдает чужих денег. Так ты еще подсунул ему эти жалкие гроши! Чего ради?! Токхо заскрежетал зубами, кинулся к Минсу, словно собираясь ударить его, но круто повернулся и вышел. Гости тоже один за другим покинули комнату. Когда Минсу пришел в себя, в комнате никого не было. Перед глазами туман. Потрогал переносицу — онемела. Он быстро вышел и направился домой. Минсу открыл плетеную калитку, и Сонби с матерью выбежали ему навстречу. Непрошеные слезы затуманили глаза Минсу, когда он обнял повисшую на нем Сонби. И снова увидал он перед собой четверых ребятишек. «Побывало ли у них сегодня что-нибудь во рту?» — подумал он, входя в дом. — Что у тебя с переносицей? — тревожно спросила жена, пристально вглядываясь в лицо мужа. — А что там такое? Минсу провел рукой по лицу и лег. «Уж не попало ли ему от какого-нибудь негодяя или просто устал?» — терялась в догадках жена, укрывая его одеялом. — Приготовь немного рисового отвару, — попросил Минсу. И она поняла, что с мужем не все ладно. Ей хотелось узнать, что с ним случилось, но Минсу лег лицом к стене и закрыл глаза. Больше он уже не вставал. Тщетны были все старания жены — болезнь не поддавалась. Однажды она вернулась откуда-то с заплаканными глазами. — Так это правду говорят, что хозяин в тебя счетами угодил? — Кто сказал? — Кто видел, те и говорят! Кто же еще!.. — Ушибся я... — Теперь я понимаю! Он тебя ударил... — Сказано, ушибся! Вот человек-то... — закричал Минсу слабым голосом и отвернулся. Минсу понимал, что болезнь его не пустяковая, что ему уже не поправиться. Сколько лет, чуть не с детства, не щадя сил, гнул он спину на помещика, работал как вол и вот теперь умирает от его руки! Как же он сейчас ненавидел Токхо! Но Минсу молчал — не мог он поделиться своими думами даже с женой, опасаясь, как бы это после его смерти не отразилось на осиротевшей семье. Вскоре Минсу не стало. Он уже не слышал, как плачет у него на груди маленькая Сонби... Мать Сонби, — в который раз! — перебирая в памяти прошлое, не заметила, как слезы увлажнили ее щеки. Она смахнула их и еще раз посмотрела на крышу. Крыша без хозяина... Сколько раз брались за эту крышу сильные, мускулистые руки мужа! Скрипнула калитка. Мать, думая, что это вернулась Сонби, быстро села на место, вытерла слезы и принялась плести солому. — Куда же все подевались? Она узнала гостью по голосу и быстро встала. — И как это вы к нам надумали? Синчхонка остановилась в замешательстве, а в ее распухших от слез глазах светилась улыбка. — Работаете? — спросила она и глубоко вздохнула. — Проходите, пожалуйста, — пригласила мать Сонби гостью и провела ее в комнату. Та села у окна и стала смотреть на задний двор. — Моя мама тоже теперь... — Она не договорила. — У вас что-нибудь случилось? — Я завтра, наверное, уйду к себе домой. — И слезы брызнули ручьем. Хозяйка не знала, что и сказать, как утешить гостью. Наконец произнесла: — Ну что вы? Зачем вы говорите так? — Честное слово, не могу больше жить в этом доме... Так и... — Она тяжело вздохнула. — Завтра же ухожу. Что же делать, если он сам все время твердит «уходи». — Да это он просто так говорит, под настроение... Но гостья покачала головой и понизила голос: — На днях господин к Каннани в дом наведывался. Мать Сонби широко раскрыла глаза.* * *
Прошло три года. Уже несколько дней мать лежала прикованная к постели болями в груди, и Сонби безотлучно находилась при ней. Она перестала даже работать в усадьбе помещика. До сих пор они все еще не могли обзавестись лампой, обходились светильником: наливали в блюдце кунжутное масло и зажигали. Пламя, выплевывая копоть, вспыхивало, поднималось кверху, а при малейшем ветерке мигало и колебалось. Сонби показалось, что мать задремала, и она подсела к светильнику. При свете ее пылающие щеки казались еще ярче. На мгновение она задумалась о чем-то, глядя на огонек, потом медленно поднялась и прошла в глубь комнаты. Вернулась с рабочей шкатулкой, села у коптилки и принялась за шитье. — А-ай! — застонала мать. Сонби бросила работу и повернулась. — Что, мама, опять больно? Чуть приоткрыв глубоко запавшие глаза, мать попросила: — Дай попить. — Мама, — сказала Сонби, подойдя поближе и всматриваясь в ее лицо, — тебе нельзя так много пить воды. — Ну дай же немного! — слабым голосом, но настойчиво потребовала та. Сонби приподняла ей голову и поднесла к губам чашку. Мать отпила несколько глотков и опустилась на подушку. — Дочка! — позвала она снова через некоторое время. Сонби оставила шитье и подошла к ней. — Видала я во сне твоего отца. Будто посадил он тебя на спину и понес куда-то. А я иду следом и спрашиваю: «Куда ты ее несешь?» Но он ничего не ответил, ушел... Что бы значил этот сон? Сонби постаралась вспомнить лицо отца, но оно представлялось ей смутно, как в тумане. Она посмотрела на больную. Погрузившись в воспоминания, мать, должно быть, ясно видела отца. Закатив глаза, неподвижным взором уставилась она в потолок. У Сонби мороз пробежал по коже, и страшная мысль пришла ей в голову. — Мама! — потрясла она мать, наклонилась совсем близко и потрогала лицо. — Что ты? — Мать перевела взгляд на Сонби, сверкнув белками провалившихся глаз. Она долго глядела на дочь. Вдруг губы ее задрожали, и она всхлипнула. — Только бы тебя поскорее пристроить... Тогда бы спокойно... Услышав эти внятно произнесенные слова, Сонби немного успокоилась. Послышался скрип отворяемой калитки. Сонби смотрела на дверь. Дверь открылась — показался Токхо. Удивленная Сонби почтительно встала. Он остановился у двери. — Ты все болеешь? Ну, куда это годится? — участливо произнес Токхо. Узнав его, больная попыталась встать. Сонби подошла и стала помогать ей подняться. — Лежи, лежи. Чего ты... Ела она хоть что-нибудь? — обратился он к Сонби; та подняла голову и опять опустила. — Ничего не ест. — Нельзя так! У меня мед есть, приди-ка за ним, смешаешь с водой и попоишь. Нужно же какое-то питание. Токхо закурил и поискал глазами, куда бы сесть. — А это что значит? Как вы можете жить с коптилкой, в таком мраке? Он достал кошелек, вынул и положил перед Сонби бумажку в пять иен. Сонби вздрогнула. Вдруг тихонько приотворилась дверь и заглянула Каннани — молодая жена Токхо, занявшая место изгнанной Синчхонки. Каннани стояла в дверях, не решаясь войти. Токхо сурово глянул на нее. — Зачем явилась? Что за мерзкая привычка заглядывать в двери?! У кого это ты научилась шататься без надобности по чужим домам? Мать и дочь молча наблюдали эту сцену и не знали, что сказать и как смягчить Токхо. Наконец мать Сонби пригласила: — Проходи, пожалуйста. — Нечего ей тут делать! Уходи, уходи! Что за охота у баб обивать чужие пороги? Да уйдешь ты?! Токхо сжал кулаки, вытаращил глаза. — Оставьте, не надо, — решительно вступилась Сонби. Каннани вспыхнула и бросилась вон. Токхо захлопнул дверь. Указав на деньги, он сказал: — Ну о чем ты еще раздумываешь?.. Бери скорей, спрячь. Завтра же замени эту чадилку да позови доктора. Слышишь ты меня? Мать подтолкнула Сонби. — Да, — ответила она. Но взять деньги Сонби не решалась. Пока она раздумывала о том, как их потом вернуть, мать вложила бумажку в руку дочери. Теперь уже, хочешь не хочешь, пришлось взять. Она сунула деньги под одеяло. Токхо собрался уходить. — Так не забудь, приди завтра за медом. — Спасибо, — ответила за Сонби мать и подтолкнула ее, показывая глазами, что нужно проводить гостя. Сонби неохотно поднялась и проводила Токхо до калитки. — Счастливого пути. — Так заходи же завтра! — Хорошо. Едва Токхо вышел за ворота, Сонби закрыла калитку и вернулась в дом. «Что это Каннани так ворвалась? И почему казалась такой взволнованной?» — подумала она и подсела к матери. — Мама, как ты думаешь, зачем прибегала Каннани? Мать тоже только что думала об этом. Каннани была единственной и любимой подругой Сонби. Но с тех пор, как она вошла в дом Токхо в качестве его второй жены, их дружба почему-то разладилась. Встречаясь по необходимости, они лишь молча глядели друг на друга. Ведь совсем недавно они были неразлучны, и вдруг в одно прекрасное утро Сонби должна была прислуживать ей как госпоже. Матери, видимо, стало немного легче, она притихла. Сонби укрыла ее потеплее и пересела поближе к свету. Она снова принялась за шитье, но на душе отчего-то было тревожно и грустно, и дело не ладилось. Она сложила работу и рассеянно поглядела на светильник. «Купи лампу...» Оказывается, у него добрая душа, а она до сих пор не замечала этого! — Мама! — привычно позвала она, но ответа не последовало. Слышалось лишь тихое посапывание. Мать спала. Сонби посмотрела на ее лицо без единой кровинки, подумала о деньгах, только что положенных под одеяло, и невольный вздох вырвался у нее из груди. Чуть забрезжил рассвет, Сонби была уже на ногах. Наверное, от бессонной ночи у нее страшно болела голова. Встревоженная болезнью матери и странным появлением Токхо и Каннани, она так и не смогла уснуть. — Мама, не согреть ли воды — вымыть тебе руки и ноги? — Ладно, — чуть слышно ответила мать и застонала, поворачиваясь на другой бок. Сонби подошла: — Больно? Ты бы поспала еще. Но мать не отвечала и только стонала. Сонби поправила одеяло и вышла. Она задумалась, снова вспомнив о том, что было сегодняшней ночью, и тихонько отворила дверь кухни. На нее пахнуло кислым запахом квашеных овощей. Она оставила дверь открытой. Сонби налила в котел воды, затопила очаг. В это время кто-то задергал калитку. Она прислушалась: кто это пожаловал в такую рань? Заскрипела калитка. — Кто там? Сонби, стоя на пороге кухни, смотрела во двор. Вдруг она с изумлением отступила и побежала в комнату. — Что случилось? — встревожилась мать. — Какой-то детина открыл калитку и идет к нам. Сонби подошла к матери, не отрывая глаз от двери. «Уж не вор ли?» — промелькнуло в голове матери, и она попыталась было встать, но снова свалилась. — Кто там, кто там? — крикнула она, собрав все силы. — Тетя, это я. — Я?.. Кто — я? В такую-то рань... Мать хотела по голосу узнать нежданного гостя, но этого голоса она как будто никогда прежде не слышала. Наконец дверь тихонько приоткрылась. Женщины уже немного успокоились и ждали. Было еще темно, и нельзя было разглядеть как следует, но по силуэту и росту они догадались, что это Чотче. Кого-кого, а его они меньше всего ожидали. «Чего еще задумал этот непутевый, да еще чуть свет явился?» — забеспокоились они. — Ты что это нагрянул спозаранку? — Да вот узнал, что вы, тетя, болеете, принес корень сотхэ. Говорят, помогает... Его голос срывался. У них отлегло от сердца. Но где-то в уголке души все еще оставалось сомнение. — Право, напрасно ты беспокоился... — сказала мать, глянув на узелок в руках Чотче, а он положил его и тотчас вышел. — Спасибо! — вслед ему крикнула мать. Потом, когда шаги его затихли, пристально посмотрела на Сонби. — Что бы это значило? — пробормотала она как будто про себя. «Не из-за дочки ли? — мелькнула мысль. — Поспешить бы надо со свадьбой». В последнее время она неотступно думала об этом. В комнате стало уже светло. Из дырок невообразимо заношенного платка торчали свежие, как видно, только что вырытые корни. Сонби не моргая смотрела на этот забавный узелок, и ей вдруг припомнилось, как давно, когда-то еще в детстве, Чотче хотел отнять у нее щавель. И она опечалилась. — Спрячь ты его куда-нибудь. Увидит кто, еще подумает чего... И что взбрело в голову непутевому? Мать Сонби была явно озадачена и даже напугана. Тем более что Чотче и его мать в деревне и за людей-то ведь не считали. К тому же Чотче слыл любителем выпить и подраться. Замечание матери почему-то огорчило Сонби. Она взяла узелок с постели матери и пошла к двери. «Сегодня ночью, наверно, вырыл, не спал...» — подумала она и снова представила себе лицо Чотче и как он только что стоял тут, за дверью. «Зачем он принес?» Щеки у нее вдруг вспыхнули, и страх охватил все ее существо. Она невольно отшвырнула узел с корнями и выбежала вон, словно за ней кто-то гнался.* * *
Спустя несколько дней мать Сонби умерла. После похорон, устроенных по всем правилам благодаря помощи Токхо, Сонби пришлось совсем перебраться в дом помещика. Ее поместили в женской половине, в бывшей комнате Окчоми, дочери Токхо. Казалось, что хозяева еще больше, чем при жизни матери, жалели и любили сироту. К тому же Сонби была мастерицей на все руки. Мать Окчоми считала ее незаменимой помощницей и готова была передоверить ей все хозяйство. Попыхивая длинной трубкой, она вышла из комнаты и увидала, что Сонби моет пол. Она вынула изо рта трубку. — Это пусть делает бабка, а ты шей платье для Окчоми. — И крикнула в сторону кухни: — Бабка! Иди-ка вымой пол! Сонби бросила тряпку в таз, пошла в кухню, ополоснула руки и вернулась. Мать Окчоми вынесла скроенный материал. Сонби села за швейную машинку. Пошив немного, она оглянулась. Мыть пол бабке было не под силу, и она опустилась рядом передохнуть. Сонби стало неловко. — Неужели так уж тяжело вымыть пол?! — возмутилась хозяйка. Старуха поднялась и опять принялась за работу. Мать Окчоми поглядела, как та моет, и подумала: «Вот ведь пожилые-то как смирны и покорны, а молодые не слушаются, иных и поколотить приходится». И тут вошел Токхо. Мать Окчоми выжидательно уставилась на него: ведь почти все время он проводил в доме второй жены. — Что я вижу: неужели это вы пожаловали к нам! Токхо исподлобья хмуро глянул на жену, но промолчал. — Конечно, из-за той девки вам и дела нет до жены! И глаз не кажете!.. Метнув взгляд на Сонби, сидящую с шитьем спиной к нему, Токхо взошел с земляного пола на дощатый. — Ты мне шею перепилила из-за этой девицы! В диковину тебе это, что ли, или только вчера об этом узнала? Окчоми вот пишет, что заболела. — Он достал из кармана письмо и протянул жене. Мать Окчоми в сильном смущении взяла письмо, повертела в руках и вернула Токхо. — Что-то тут неразборчиво написано, я не прочту. Что хоть болит-то у нее? Токхо развернул письмо и прочитал. Мать Окчоми — в слезы: — Ай-яй, как же ей помочь? Недаром мне все эти дни плохие сны снились, кэтому, должно быть? Не поехать ли мне? — А что ты там сделаешь? Мне, видно, придется ехать. Живо, собери-ка меня в дорогу! По такому прискорбному случаю супружеские распри были на время забыты. Мать Окчоми вышла в свою комнату и крикнула Сонби: — Брось-ка пока шитье да помоги мне, а ты, бабка, разожги уголек! Сонби свернула начатое шитье и прошла к хозяйке. — На вот, пришей воротничок... А автобус-то есть скоро? — спросила она Токхо. — А зачем автобус? До уездного города на велосипеде, а оттуда уж, наверно, на автобусе до Сеула. Сонби приметывала воротничок и думала о большеглазой Окчоми. Она не знала, чем больна Окчоми, но бесконечно завидовала ей: ведь у нее такие заботливые родители. А вот захворай она — и ни одной родной души рядом. — Пока я буду в Сеуле, пусть Сонби ночует в малом доме. — Что еще за новости: кому-то куда-то ходить! И почему Сонби?.. — заикнулась было мать Окчоми, но замолчала и надулась. — Ох уж эти бабы! Тут собираешься в дорогу, а она все наперекор норовит! Эх ты! Вряд ли где еще такую зануду сыщещь! Мать Окчоми хотела было ответить, но промолчала. Токхо снова мельком взглянул на Сонби и отвернулся.* * *
С громким лаем в дом ворвался Черныш. Открылись ворота, и вошла Окчоми. — Мама! Мать отступила сначала, будто в испуге, потом обняла дочку и зарыдала. Вошедший следом за Окчоми незнакомый молодой человек в европейском костюме остановился и, улыбаясь, поглядывал на мать и дочь. — Нет, как же так, когда же вы выехали? Хоть бы телеграмму... Писала, что больна... — промолвил наконец Токхо. Окчоми подошла и к отцу и взяла его за руку. — Папа, это сын нашего школьного преподавателя. Он едет на море в Монгымпхо, мы встретились в пути, и он согласился ненадолго заехать к нам. Токхо сначала был немного удивлен — зачем здесь этот молодой человек, одетый по-европейски, но, узнав, что это сын учителя его дочери, успокоился. Окчоми посмотрела на юношу и с улыбкой сказала: — Познакомьтесь, мой отец! — Рады вас видеть, добро пожаловать, — пригласил Токхо и двинулся в гостиную. Все последовали за ним. Мать Окчоми залюбовалась этим юношей в европейском костюме и подумала: «Хорошо бы иметь такого сына!» — Детка, что болит-то у тебя? — спросила мать. — Отец только что собирался ехать к тебе. Окчоми зарделась. — Мама, ты только и знаешь: детка да детка... Ну что это за слово? Они тихонько засмеялись. Окчоми перевела взгляд на отца, потом на юношу. — Папа, я тоже в Монгымпхо поеду. Отец внимательно вглядывался в лицо Окчоми. — Нездорова ведь. Поправишься — тогда пожалуйста. Окчоми улыбнулась, посмотрела на юношу и, будто что-то вспомнив, спросила: — Мама, в моей комнате Сонби живет? Ой! А где же мне-то теперь?.. Наступила пауза. Токхо смотрел на Окчоми; до чего она сейчас на мать похожа! — Э, тогда Сонби придется пока вот в этой комнате пожить, — заявила Окчоми. Токхо улыбнулся и взглянул на юношу. — Ведет себя совсем как ребенок. Молодой человек тоже улыбнулся. Он только что вошел в этот дом, но уже мог догадаться, как здесь любят и балуют Окчоми. — Сонби, обед готовь! — приказала мать Окчоми. — Так Сонби на самом деле у нас живет? Где же она? — встрепенулась Окчоми и, открыв дверь в свою комнату, на пороге столкнулась с Сонби. — Сонби, как поживаешь? Сонби хотела было взять руку Окчоми, но сильный аромат духов заставил ее отпрянуть, и она почувствовала, как запылали ее щеки. — Ай, Сонби, какая ты красивая стала! Отчего бы это? Окчоми невольно оглянулась и, заметив, что на них устремлены три пары глаз, впервые ощутила что-то похожее на ревность. Она вспыхнула, часто-часто заморгала и повернулась к Сонби спиной. А та, опустив голову, отправилась на кухню. Бабка, перестав на минуту чистить овощи, спросила: — А кто этот парень? — В ее голове никак не укладывалось, что незамужняя девушка приехала с чужим парнем. — Не знаю, — ответила Сонби, хотя слышала, как Окчоми только что знакомила его с отцом. — Обед надо готовить, — сказала она. — Обед? — удивилась бабка. — Есть ведь рисовая каша, еще, что ли, наварить? Видно, этого молодца хотят хорошенько накормить. Сонби чистила котел и, глядя на разгоравшийся в жаровне уголь, представляла лицо Окчоми, все ее фигурку в европейском платье. Заглянула мать Окчоми. — Эй! Поймайте-ка пару петушков да приготовьте! — Хорошо. Хозяйка скрылась. Послышался легкий шорох. Сонби подняла глаза. Ласточка, покружив над кухней, взвилась высоко-высоко в голубое небо, так что виднелась лишь черная точка. Сонби легонько вздохнула. — Двух, что ли, петушков-то велели ловить? — спросила бабка, разведя в топке огонь. Она засмеялась, и вокруг ее глаз собрались глубокие и частые морщинки. Когда в доме резали кур, она тоже могла полакомиться, высасывая уже обглоданные косточки. Вытирая о передник мокрые руки, Сонби выскочила из кухни. Подбежала к курятнику. Курица с кудахтаньем выбиралась из гнезда, а увидев Сонби, живо выпорхнула, подняв столбом пух и перья. Особый запах курятника ударил Сонби в нос. Она закашлялась, постояла немного и заглянула в гнездо. Только что снесенное яичко смотрело на Сонби и словно улыбалось. Сонби с радостным смехом взяла его в руки. «С этим — сорок, кажется», — прошептала она, возвращаясь на кухню. Ю-собан, заколов двух молоденьких петушков, нес их в кухню. Увидев Сонби, он приветливо улыбнулся: — Еще яичко прибавилось? — Да. И Сонби, желая хоть кому-нибудь показать это тепленькое яичко, протянула ему. — До чего же любит она собирать куриные яйца! — сказала бабка, ошпаривая кипятком петушков. — Бабушка, с этим уже сорок будет! — с гордостью промолвила Сонби. — Это хорошо. Но для чего ты их копишь так усердно? — спросила старуха тихонько. От этих слов у Сонби сжалось сердце. Но сейчас же она снова с умилением посмотрела на яйцо. Сонби бесшумно открыла дверь кладовки, и на нее пахнуло плесенью. Заглянула в корзинку с яйцами, помещенную в глиняном кувшине. Ровненькие, одно к одному, яйца почти доверху наполняли корзинку. Она осторожно присоединила к ним свеженькое яичко. — Сорок, — проговорила она и еще раз переложила яйцо. Луч света, проникающий в щелку, лег ей на пальцы. Сонби погладила корзинку, вышла в кухню и села возле старухи, ощипывавшей кур. Старуха и Сонби уже приготовили обед, подали и теперь сами ели у плиты, когда вошел Токхо. — Сонби, иди обедать в комнату. Сонби поднялась. — Я лучше здесь! — Почему ты не слушаешь? Живее, будешь кушать вместе с Окчоми, — торопил Токхо. Сонби положила ложку, но не двинулась с места. Токхо понял, что уговоры бесполезны. — Ты что же, всегда на кухне ела? — проворчал он и ушел. Должно быть он что-то сказал там, потому что тотчас же послышался недовольный голос хозяйки: — Эта девчонка всегда такая. Говоришь ей — не слушает. Вообще, упряма, как вол. Сонби вспыхнула, и еда стала у нее поперек горла. Когда Сонби, управившись с мытьем посуды, пошла к себе, мать Окчоми выросла перед ней. — Теперь хозяйка комнаты приехала. Придется тебе поместиться с бабкой или со мной. Подошла и Окчоми. — Пожалуйста, освободи эту комнату. Ой, что тут делается? Почему такое множество узелков? Прямо как у китайца! — засмеялась она и оглянулась на молодого человека. Сонби покраснела до ушей. Она связывала все в один узел, а из головы не выходили слова Окчоми. Собрав пожитки, Сонби задумалась. Куда ей теперь перебираться? К хозяйке ей не хотелось, а у старухи в каморке и без того тесно. Вспомнился ей домик, где жили они с матерью, и так вдруг захотелось увидеть его. «Не знаю даже, кто там живет теперь», — упрекнула она себя и снова посмотрела на узел. Потом решительно подхватила его обеими руками.* * *
— Фу! Ну и жара! Хоть бы ты спел что-нибудь, — обратился Карлик, прозванный так за свой малый рост, к долговязому парню и, ударив мотыгой о землю, вывернул сорняк. Они смеялись и балагурили, в шутку величая друг друга по прозвищам. — Гм, спеть... — Да ну же, Оглобля, давай! Не ломайся, терпенье лопается! И Карлик толкнул долговязого в спину. Усердно половший тут же рядом Чотче оторвался от работы. — А ну-ка, правда, спой! А? Карлик заморгал глазами: — Ого! Оказывается, и этот медведь понимает в песнях. Карлик недаром удивился. Когда Чотче трезвый, от него обычно слова не добьешься, а как выпьет, готов болтать с кем угодно. А никто не слушает — будет до ночи под нос себе бормотать. Чотче посмотрел на Карлика и ухмыльнулся. У него привычка: всегда вместо ответа вот так ухмыляться. С горы вдруг донеслось «ку-ку». Оглобля посмотрел в ту сторону. — Кукушка! — И вдруг загорланил, да так, что жилы на шее вздулись:* * *
За утренним чаем Окчоми, только что вернувшаяся из поездки вместе с Синчхолем на морское купанье в Монгымпхо, всеми способами старалась отговорить его от намерения уехать в Сеул. Синчхоль сделал вид, что не в силах противиться уговорам Токхо, а тем более Окчоми, но на самом деле ему и самому вовсе не хотелось уезжать из этого дома, где так хорошо было отдыхать. Окчоми, сдерживая улыбку, любовалась стройной фигурой Синчхоля. — Пойдемте на дынную бахчу! — предложила она. — Идти вдвоем... неловко... Окчоми усмехнулась. — А кого же еще прикажете взять? Он уклонился от пристального взгляда Окчоми, проникавшего, казалось, в самую душу. — Хорошо бы вашего отца. Да и мать пригласить не плохо бы! — Нет, вы это серьезно? — Видите ли, вдвоем, в такой глуши — не возбудим ли мы излишнего любопытства? — А это так важно? Что же, пригласить маму? — Это уж как будет угодно Окчоми. Окчоми засмеялась и, легко поднявшись, убежала в комнату матери. Синчхоль присел у письменного стола, погляделся в карманное зеркальце и бросил взгляд в окно. С бельем в руках из кухни показалась Сонби. Синчхоль приосанился и не отрываясь смотрел на профиль проходившей мимо девушки. Он слышал, как хлопнули большие ворота, и решил, что она пошла стирать. Странно, подумал он, вот уже почти два месяца живет он здесь, а видел Сонби лишь мельком и никогда не замечал, чтобы она сидела без дела или болтала с кем-нибудь. Это вызывало в нем удивление, смешанное с любопытством. Особенно когда он глядел на свои рубашки и другие вещи, так аккуратно выстиранные и выглаженные Сонби. «Вот бы мне такую жену, — думал он каждый раз, перебирая белье. — И как она хороша собой! Эта черная родинка на веке...» Сильное впечатление произвела на Синчхоля эта девушка. «Что, если попробовать заговорить с ней? Если пойти сейчас на озеро, ее можно встретить. Но как улизнуть от Окчоми?» — Мама сказала, что идет с нами, — объявила, возвратясь, Окчоми. — Прекрасно, — отозвался Синчхоль, но не тронулся с места. — Вставайте же скорей, пока не жарко! Синчхоль размышлял о чем-то. — А отца вы не пригласили? Она засмеялась: — Зачем еще и отца? — Старым супругам тоже, наверное, полезно прогуляться! Окчоми вновь засмеялась, представив себе, как они чинно идут впереди, а следом отец и мать. — Так что? Пойти позвать?.. А, он, наверно, в малом доме. Окчоми, стуча каблучками, торопливо вышла. Синчхоль посмотрел ей вслед и подумал: «Одна ли Сонби стирает?» — Отца нет, — тотчас возвратясь, сообщила Окчоми. Теперь уже Синчхоль вскочил и снял со стены шляпу. — Тогда вот что: вы идите, а я пойду за отцом. Наверное, к тому шалашу, где мы были? Да? Недобрый огонек блеснул в глазах Окчоми, но она быстро погасила его улыбкой. — Оставьте! И дался вам отец! — Вы все-таки идите! А я схожу за отцом, и мы придем следом. Синчхоль вышел. Его обдало зноем. Он выглянул за большие ворота и задумался: что делать дальше? Все это он затеял, чтобы ускользнуть от Окчоми, но как теперь встретиться с Сонби? Он огляделся. Налево, за озером, виднеется лес. А вот в этой деревушке — малый дом Токхо, в котором живет он со своей второй женой. Синчхоль перевел взгляд на дынную бахчу. Там в шалаше будет ждать его Окчоми с матерью. А вот и они. — Как, вы еще не ушли? — остановилась Окчоми. К ее европейскому платью цвета морской воды очень шла широкополая соломенная шляпа. Ее мать, сдерживая улыбку, смотрела то на дочь, то на юношу. Хотя формального предложения еще не было, но она смотрела на них как на будущих супругов. — Может быть, сходим к отцу вместе? — Я? Вот еще! Сказала — не пойду! Не хочется красотку его видеть. Окчоми резко отвернулась. Он нарочно так сказал. — Но почему же? Она ведь тоже, вероятно, станет матерью? — Слушать противно! — воскликнула Окчоми и, подхватив мать под руку, пошла. Сделав несколько шагов, она обернулась. — Скорее идите, приглашайте, и... мы ждем! Синчхоль подавил вздох облегчения. Все складывалось лучше, чем он мог ожидать. Сдерживая биение сердца, он стоял и смотрел вслед Окчоми. Миновав поворот в деревню, она оглянулась, махнула ему рукой и скрылась за гречишным полем. Синчхоль радостно вздохнул. Теперь все в порядке. И он уже беспрепятственно зашагал прямо к озеру. Чем ближе подходил он к приозерной роще, тем сильнее волновался. Опасаясь, как бы, на беду, Окчоми не вздумалось проследить за ним, он то и дело оглядывался. Послышался плеск воды. Чтобы не быть замеченным, Синчхоль пробрался в заросли и остановился. Прохладные ветви развесистой ивы касались его плеч. Притаившись среди деревьев, он высматривал — нет ли здесь еще кого-нибудь. Раздался отчетливый стук валька. Этот звук еще более подчеркивал тишину леса. Заросли мешали Синчхолю видеть Сонби, но стук валька и сопровождавший его плеск воды говорили о том, что она здесь, совсем близко. Осторожно пробираясь среди деревьев, Синчхоль пошел на стук. Вот уже мелькнула круглая щека Сонби. Синчхоль остановился, еще раз оглянулся. И вдруг вся решимость его исчезла. А что он ей скажет? Как будто и много нужно сказать, а подумаешь — и нечего. Как быть? Он заколебался. Ноги у него отяжелели, сердце бешено колотилось. Правда, он вообще из скромников и даже в кафе с друзьями ходил нечасто, но так робел перед женщиной впервые. Стук валька прекратился, послышался плеск воды. Наверно, она начала полоскать белье. Синчхоль прислонился к дереву. «Эх, вернусь-ка я! Зачем я здесь? И о чем я буду с ней говорить?» Он готов был уже повернуть назад, но ему не хотелось отступать. Закрыв глаза, он представил себе Окчоми. Она ведь ждет его. Но образ ее сразу исчез, едва он взглянул на Сонби. «Зачем вообще я тут? И столько дней!» — размышлял он. Белый камень, сверкавший в бегущей воде, привлек его внимание. «Отец-то, верно, думает, что я теперь в Монгымпхо, провожу время, как подобает культурному человеку». Синчхоль сломал ветку, обжигая ладонь, ободрал с нее листья и метнул в воду. Потом медленно стал спускаться. Только возле самого шалаша он вдруг спохватился, ведь он может вызвать подозрение Окчоми, вернувшись без Токхо. Но она уже увидала его и вышла навстречу. — Почему один? — Да на полпути раздумал и не пошел, вернулся, — промямлил он, слегка покраснев под пристальным взглядом Окчоми. — Ну, пожалуйте туда. Я присмотрела чудесную дыню! Синчхоль шагнул вслед за Окчоми и невольно залюбовался: под широкими листьями, величиной с детскую голову, желтели дыни. Он нагнулся и погладил одну из них. — Нет, вы только посмотрите сюда, посмотрите! — обмахиваясь шляпой, закричал он. — До чего же хорошо в деревне! Окчоми оглянулась и неохотно подошла. — Жарко! Пойдемте скорей! На носу у нее выступили капельки пота. Синчхолю и самому хотелось укрыться от зноя, но из упрямства он сел на меже. Из шалаша на них смотрела мать Окчоми. — Вы там устроились? — поморщилась Окчоми. Заслонившись от солнца шляпой, Синчхоль вытер пот со лба и шумно вздохнул. Окчоми смотрела на его широкие плечи и удивлялась: сидеть одному, неужели ему без нее не скучно? А она грустила, когда они расставались хоть ненадолго. Синчхоль встал и направился к шалашу, но что-то опять привлекло его внимание в траве. Это оказалась веточка земляники. Он сорвал ее и пошел к ним, сияя улыбкой. Подбежала Окчоми. — Где вы нашли? Ой, какая красивая! — Она отняла веточку у Синчхоля и улыбнулась. — Цвет этой ягоды как мое сердце! — И покраснела. Синчхоль посмотрел на Окчоми, потом на землянику, и его вдруг охватило непонятное волнение. Мать издали любовалась ими. — Почему же отец не пришел? — спросила она, когда Окчоми, а вслед за ней Синчхоль поднялись в шалаш. Окчоми выбрала дыню. — Кому охота встречаться с этой его... — бросила она взгляд на Синчхоля и повернулась к матери. — Оно конечно... Да и жара! — протянула мать с легкой досадой, стараясь скрыть ее в улыбке. — Эту, что ли, разрежем, мама? — Окчоми показала дыню. — Ну-ка, посмотрим. Она разрезала дыню. Медовый аромат защекотал ноздри. — Поглядите, какая прелесть. И сладкая, наверно! Вынув семечки, она протянула сочный ломоть Синчхолю. — А маме? — сказал он. — Вот, пожалуйста! — Она отрезала еще кусок и дала матери. Потом взяла веточку земляники и улыбнулась. Она видела в ней знак любви Синчхоля. Поискав глазами, куда бы прикрепить веточку, она наконец пристроила ее к шляпке. — Взгляните-ка, правда красиво? Мать Окчоми уже было задремала, но сразу же встрепенулась и открыла глаза. — Земляничка? — удивилась она. — Ай, мама, ты что же, не видала? — засмеялась Окчоми. — Ты вздремнула, наверно? Та протерла глаза. Она имела привычку засыпать, едва солнце клонилось к закату. — Пойдемте домой. — Как, уже? Мама, еще немного! Мать с явным трудом, медленно поднялась. — Ну, погуляйте еще, да недолго, и возвращайтесь, а я уже пойду. — Почему же не вместе с нами? Синчхоль проводил ее немного и вежливо попрощался. Мать еще раз оглянулась на Синчхоля и подумала: «Хорошо, если бы он и впрямь стал нашим зятем». Синчхоль вернулся в шалаш. Окчоми сорвала со шляпки две землянички — одну положила в руку Синчхоля, другую взяла в рот. Красный сок окрасил губы Окчоми, и Синчхоль снова вспомнил оброненные ею слова. И вместе с жалостью к ней в его воображении снова возник образ Сонби, полощущей белье. Быть может, один из брошенных им ивовых листьев коснется пальцев Сонби? А он бросил их так просто — на волю волн. — О чем задумались? Окчоми подсела ближе. Синчхоль показал ей на плывущие, словно ватные хлопья, облака. — Взгляните-ка туда. Хорошо, не правда ли? Окчоми тоже залюбовалась. — Вы собираетесь стать юристом или поэтом? — Поэтом? Эти невзначай сказанные слова словно ужалили Синчхоля. Чувствительность он почитал большим недостатком. Просто он сейчас на каникулах и потому немного расслабился. Собирался отдохнуть на курорте, а из-за этой Окчоми все планы к чертям. Да еще проклятая душевная раздвоенность с каждым днем все острее. И он не мог с собой справиться. При первой встрече она в какой-то степени заинтересовала его. Но уже через несколько дней он понял, что Окчоми из тех девушек, с которыми приятно проводить краткие часы досуга, а не из тех, с кем можно долго дружить. И все же ему почему-то не хотелось покидать этот дом, эту деревню. Даже в Монгымпхо он пробыл недолго и вернулся. Налюбовавшись облаками, Окчоми перевела взгляд на Синчхоля. Его глаза, устремленные ввысь, резко очерченный профиль, казалось ей, говорили о волевом мужском характере. Мать да и отец считают, наверно, Синчхоля своим будущим зятем и, без сомнения, полагают, что молодые люди уже договорились меж собой. А на самом деле между ними ничего еще не было сказано, они и в глаза-то прямо друг другу не смотрели. Окчоми теряла терпение. А он ничего не замечал. — Рассказали бы что-нибудь, — нарушила молчание Окчоми. Синчхоль повернул к ней голову, как бы собираясь что-то сказать, но только усмехнулся. — Да говорите же! Что хотите рассказывайте, только не молчите, — пристала она, словно малое дитя. — Где бы Окчоми хотелось жить в будущем? Ну, скажем, в таком городе, как Сеул, или же вот в такой деревне? Окчоми, чуть склонив голову, задумалась, не найдясь, что ответить на столь неожиданный вопрос. — Почему вы спрашиваете об этом? — Скучно же... Просто так, для разговора. — А где бы Синчхоль хотел жить? — Я?.. Однако, как это получается... Я и спрашивай, я же и отвечай! — А я... Где Синчхолю нравится, там и... Она не договорила и, покраснев до ушей, потупилась. Ее слова, ее смущение: неужели она и в самом деле любит его?! «Цвет этой ягоды как мое сердце!» — снова вспомнил он. — Да? Благодарю вас. Итак, представьте: мы живем в деревне, в тихой деревеньке, выращиваем вот такие дыни, сеем белые и красные бобы. Это будет замечательно, не правда ли? — со всей искренностью проговорил он. Окчоми рассмеялась. — Значит, вам по душе такая глушь? — Да, мне здесь нравится. Полоть, ходить за скотом, — такая жизнь меня привлекает. Окчоми недоверчиво глянула на него, принимая его слова за шутку. Однако Синчхоль не смеялся и смотрел ей прямо в глаза. — Неужели вы стали бы полоть? — Непременно. Полоть — это же замечательно! — Право... Умрешь от смеха! — Почему же? — Синчхоль широко раскрыл глаза. — Проводить жизнь за полкой сорняков! Да так... — И запнулась. Синчхоль усмехнулся. — У вас неверное представление о деревне, Окчоми, да. — Ай, право же!.. Окчоми утомил этот разговор, и, покусывая ногти, она жалобно посмотрела на Синчхоля: зачем он дразнит ее? Он же будто и не замечал ее немой мольбы. Окчоми готова была поколотить его с досады. Взгляд Синчхоля был по-прежнему устремлен куда-то вдаль. Гряда ослепительно белых облаков, словно чистая вата, которую делают на фабрике, окружала вершину Пультхасана. По дынной бахче прохаживался сторож. Окчоми хотела что-то возразить Синчхолю, но он, казалось, совсем забыл о ее существовании. Вконец раздосадованная и уязвленная таким равнодушием, она замолчала на полуслове. Потом сказала: — Пойдемте, пора уже. — Пожалуй, пойдемте, — с готовностью откликнулся Синчхоль и поднялся. А Окчоми не хотелось уходить. Она еще надеялась: может быть, хоть что-нибудь сейчас решится. Но он, словно ни о чем не догадываясь, отряхнул свои европейские брюки, ступил на лесенку, и она задрожала под тяжестью сильного тела. Оказавшись внизу, Синчхоль вновь отряхнулся и тщательно осмотрел свой костюм. — Спускайтесь, спускайтесь же скорее! — торопил он Окчоми. — Ну и ступайте один! — Она закусила губу, чтобы вдруг не расплакаться. — Когда вы говорили «пойдемте», вы тоже собирались идти? — спросил Синчхоль, улыбаясь одними глазами. Как ни старалась Окчоми выдержать характер, она не могла не улыбнуться в ответ и торопливо спустилась к нему. Сторож лениво прохаживался по дынному полю. Они расплатились за дыни и выбрались на дорогу. Некоторое время шли молча. — Послушайте, там, поближе к деревне, пойдем порознь, — предложил Синчхоль. — Зачем? — удивилась Окчоми, и веки ее покраснели. — Стыдно. — Чего стыдно-то? — Ребятишки вслед бегут... Собаки лают... Окчоми расхохоталась, до того неожиданной была для нее эта предосторожность Синчхоля. Но тут же что-то невыразимое стеснило грудь, рыдания подступили к горлу. Когда они проходили гречишным полем, Синчхоль спросил: — Ну так как же мы поступим? — Что? — широко раскрыла глаза Окчоми. — Окчоми пойдет впереди или меня пошлет? Окчоми вздохнула. — К чему это? Такой ерунды испугались, право. Она бездумно сорвала какую-то былинку и взяла в рот. Синчхоль смотрел, как по ее фигурке в изящном городском платье пробегают длинные тени стеблей гречихи. — Конечно, испугался. Нет в мире ничего страшнее молвы. Окчоми, ни слова не говоря, надула губы, отбросила былинку и резко повернулась. — В таком случае, до скорой встречи. И, не оглядываясь, пошла по тропинке. Скоро Синчхоль потерял ее из виду. Он уселся на траву, и снова представился ему лес у озера Гневного. «Сонби, должно быть, вернулась», — подумал он. Солнце все ниже склонялось над горизонтом. Как любил он наблюдать закат солнца в Монгымпхо! Будто перед великолепной картиной стоял он, глядя на закатное солнце, погружающее огненный сноп своих лучей в необъятное море. В ушах его до сих пор звучит шум волн, они набегают и разбиваются о скалы; он словно видит рыбачьи лодки, ныряющие в волнах, слышит голоса гребущих рыбаков: «Ой-я! Ой-я!» Синчхоль любовался далеким закатом, а в его памяти всплыла только что пережитая сцена: как, распаляясь, Окчоми вызывала его на объяснение; он же, притворяясь, что ничего не замечает, уклонился от решительного ответа. И удивительное дело: чем откровеннее выказывала свое чувство девушка, тем более равнодушным становился он. Однако неприязни к ней он не испытывал. Любовь девушки, как видно, тешила его самолюбие. А вот Сонби... И снова услышал он всплески воды на Гневном, снова возникла перед его мысленным взором опрятная фигурка Сонби. «Истинную красоту и вправду найдешь только в трудящемся человеке». Что-то царапнуло его щеку. Он испуганно огляделся. Это кузнечик, распрямив свои зеленые крылышки, вспорхнул и скрылся в траве. Синчхоль машинально погладил щеку и встал. Решено: завтра он опять поедет в Монгымпхо, пробудет там несколько дней и вернется в Сеул. Подходя к деревне, он увидел Ю-собана. — Пожалуйте, пожалуйте, вас ждут. Синчхоль, кивнув головой, направился к дому. — Долго же вы! — с улыбкой встретила его Окчоми. Давно ли расстались они? А увидала его и сразу почувствовала, как любовь с новой силой захватила все ее существо. — Желаете умыться? Синчхоль бросил взгляд в сторону кухни и помотал головой. — Проходите сюда, — позвала Окчоми, войдя в комнату. Она дала Синчхолю розовое полотенце и предложила обтереть лицо. Он взял полотенце, кинул его к изголовью и выглянул на задний двор. На веревке, отбрасывая длинные тени, висело белоснежное белье. Синчхоль заметил там и свою рубашку. — Кто у вас в доме стирает? Окчоми замялась. — Сон... то есть бабка. А что? — пытливо посмотрела на него. — А вы, госпожа Окчоми, стирать не пробовали? Девушка окончательно смутилась. — Я не пробовала. — Какое там стирать? Да она к домашним делам никогда руки не приложила. Понятно? Ха-ха-ха! — подала голос со двора мать Окчоми. Она, видимо, была этим очень довольна, даже гордилась тем, что ее дочь ничего не делает. Синчхоль только усмехнулся. От этой его усмешки Окчоми стало не по себе. Во дворе, за горшками с соей, склонили свои белые головки цветы колокольчика. Еще дальше зеленели, обвивая ограду, плети огурцов. Там и тут мелькали их желтенькие цветочки. — Что это за цветы? — показал Синчхоль на белые колокольчики. — Это? Это белый колокольчик. Лекарственное растение, кажется. Ю-собан его специально посеял. — Понятно! А те огурцы — тоже он? — Это все девка Сонби насажала, — ответила за Окчоми мать. Даже упоминание этого имени при Синчхоле было неприятно Окчоми. А Синчхоль, не будь ее рядом, бросился бы туда и сорвал дорогой для него цветок.* * *
Синчхоль лег спать поздно, но заснуть не мог. Ворочался с боку на бок, но сон не приходил. Невыносимо! Он потихоньку поднялся, осторожно открыл дверь и выглянул во двор. «Какая яркая луна», — невольно подумал он и залюбовался ясным небом. Но луны не было видно: она зашла за крыши. Синчхоль вышел во двор, глянул на хозяйскую половину. Темно и тихо — спят, наверно. На ступеньках белели при свете луны резиновые туфельки матери Окчоми. Он прошелся по двору. Из старухиной каморки пробивался свет. «Еще не спят? Поздно...» И в нем затеплилась надежда. Почему-то ему казалось, что это Сонби не спит до сих пор. Сонби! Он не мог даже ласково назвать ее по имени. Взгляд у нее такой, словно ее всегда скромно опущенные глаза застилает туман. Эх! Будь его воля, распахнул бы он сейчас эту дверь, ворвался бы к ней... Но ведь это бред. Надо бы спать идти, да неохота. В комнате — жара, духота! Как раз в этот момент дверь тихонько отворилась и во двор выскользнула женская фигурка. Синчхоль вздрогнул. Неужели Сонби?! Он даже растерялся. Но было бы нелепо упустить такой удобный случай. Он сделал шаг вперед: — Послушайте! От неожиданности Сонби испуганно попятилась к двери. — Постойте! — снова окликнул ее Синчхоль. — Ну погодите же! Сонби замерла. — Не могли бы вы принести мне холодной воды? — произнес Синчхоль первое, что взбрело на ум. Сонби помедлила, словно в раздумье, отворила дверь и скрылась в комнате. Синчхоль готов был сквозь землю провалиться. И как он не сумел удержать ее? Он чувствовал себя уязвленным и пристыженным. — Бабушка, бабушка! — послышался голос Сонби. Синчхоль затаил дыхание. Старуха бормотала что-то невнятное, видно, нелегко было добудиться ее. — Бабушка, сеулец... Дальнейших слов он не расслышал. Старуха, видимо, наконец проснулась, послышался низкий хриплый голос: — Съест он тебя, что ли? А я в темноте разве найду? И снова — тихий шепот Сонби, затем громкий — старухи: — Ну и что тут такого? Поди и принеси! Синчхоль досадовал, что старуха проснулась, но сердце колотилось, будто в предчувствии, что именно Сонби принесет воду и вновь очутится рядом с ним. Так и есть! Вышла Сонби. Не подымая глаз, отправилась в кухню. Синчхоль последовал за ней и очутился перед темной хозяйской комнатой. Он прислушался: не проснулся ли кто. Ему чудились и голоса, и шорох открываемой двери; показалось, будто выглянулаОкчоми, даже знакомые резиновые туфли, ярко белевшие при луне, пугали его теперь. Чего только не пережил Синчхоль, пока Сонби была в кухне! Наконец-то она появилась с водой. Все страхи Синчхоля улетучились, осталось только нетерпение. Он взял из рук Сонби чашку, поднес ко рту и поперхнулся. Пока он справлялся с прорвавшимся кашлем, Сонби исчезла. Он поспешно обернулся и увидел только, как мелькнул за углом подол ее юбки. Синчхоль опешил. «Почему Сонби так избегает меня?» — точно кольнуло его. Опять показался он себе глупым и смешным. Так бы и разнес вдребезги эту посудину с водой! С досадой уставился он на чашку, а оттуда смотрела на него, переливаясь, словно подмигивая ему, желтая луна. Злость его тотчас же испарилась, и он рассмеялся над собственной глупостью. «Однако теперь пора спать», — приказал он себе и вдруг почувствовал, что всем его существом овладела опустошающая душу скука. Едва Синчхоль ступил в комнату, как услыхал шлепанье ног по дощатому полу. Дверь тихонько отворилась: кто-то вошел. Синчхоль вздрогнул. — Почему вы еще не спите? Аромат кожи молодой женщины, смешанный с запахом крема, пахнул на Синчхоля. Нетрудно было догадаться, от кого он исходит. — А почему вы, Окчоми, еще не спите и чем обязан? Синчхоль произнес это спокойным голосом, а сам терялся в тревожных догадках: «Видала или не видала?» Будь это раньше, Окчоми подсела бы к Синчхолю, начала бы что-нибудь нашептывать. Теперь же она стояла не двигаясь, будто в нерешительности. — Или присаживайтесь, или идите спать. Синчхоль понял, что она все видела. А тут еще эта злополучная чашка, которую он не успел вернуть; и ему пришло в голову, что Сонби может прийти за ней и застать здесь эту женщину. Он уже трижды проклинал свою глупость. Окчоми постояла, подумала и подсела к Синчхолю. — Сонби красива? Вопрос был неожиданным, как удар кинжала в грудь, и Синчхоль на мгновение растерялся. — Красива, — помедлив, ответил он и в упор посмотрел на Окчоми. Она опустила голову под его пристальным взглядом, но тотчас же вскинула опять. — Познакомить? — Вот это было бы чудесно! Окчоми вскочила. — Так я позову ее. Теперь Синчхоль по-настоящему смутился и схватил Окчоми за пояс халатика. Но в то же время, не желая ронять собственного достоинства, он твердым голосом сказал: — Что за вздор... Если хотите познакомить, можно завтра или потом как-нибудь. Не так ли? Зачем же непременно сейчас? Какая необходимость? Окчоми, сжав руку Синчхоля, державшую ее за пояс, всхлипнула. Как видно, долго сдерживаемая страсть нашла теперь выход в слезах. Синчхолю стало жаль девушку, и он невольно обнял ее за талию. Тут опять он увидел луну, ныряющую в чашке с водой, а в лунном свете — яркий, яркий образ Сонби. Он попытался осторожно убрать руку, отодвинуться, но словно пламя какое-то прорвалось изнутри. — Окчоми, уходите, идите спать... Голос его срывался. Окчоми упрямо повела плечами и придвинулась ближе. Она пылала как в огне. Синчхоль терял голову. В этот момент он явственно услышал беспощадный и отрезвляющий голос собственного разума. А уже в следующее мгновение он совершенно по-новому осознал, что не позволит себе и пальцем прикоснуться к телу этой женщины. Из хозяйской половины донесся кашель, скрипнула дверь. Синчхоль вскочил. — Послушайте, уходите скорей, мать проснулась. Окчоми нехотя поднялась, села. — Ай, не зажигайте лампу, я так уйду! Но уже ярко вспыхнул свет. Синчхоль оглянулся и засмеялся. На душе у него стало легко от сознания, что он все-таки не переступил запретной черты. И опять мысленному взору его ясно представилось милое улыбающееся лицо Сонби. Синчхоль подошел к Окчоми и погладил ее распущенные волосы. Этот жест он мог себе позволить с легким сердцем. Краска залила лицо Окчоми до ушей, и она не смела поднять глаза. — Ну, теперь идите, ладно? Идите. Окчоми притянула руку Синчхоля, гладившую ее по голове, и укусила. Синчхоль вспыхнул и вырвал руку. — Ну, быстро! — А я не уйду, не уйду, и все! Снова послышался кашель.* * *
На следующее утро, едва Окчоми открыла глаза, подошел отец и погладил ее разметавшиеся волосы. — Папа! Она живо представила руку Синчхоля и почувствовала, как неизъяснимая радость переполнила все ее существо, всю эту комнату, наполнила собою все вокруг. — Что так долго спишь? — Вчера поздно уснула. Окчоми вновь ощутила, как этой ночью обнимал ее Синчхоль, и веки ее порозовели. Если бы не было стыдно, она с гордостью поведала бы обо всем отцу. — Папа... ты купишь мне одну вещь? Токхо улыбнулся. — Что же именно? — Ты... про пианино слыхал? — Пианино? Что это еще за пианино? — Право, папа, какой ты... Когда ты в школу ходил, там, наверно, был орган, под который дети пели? — Ну? — Так это похоже. — Гм. Ну, допустим, цитру бы попросила — еще куда ни шло, а от этого-то польза какая? — Как — какая? Играть, папа. — Хватит с тебя. Довольно того, что учишься. А то еще этакие вещи покупать. — Ай, папа! Это же необходимо. Купи, ну! — А сколько эта штука стоит? — Так купишь? — Скажи сначала, сколько стоит. — Если обещаешь купить, скажу! Когда Окчоми просила о чем-нибудь, Токхо не мог устоять. — Может, и куплю. — Хорошее — тысяч десять иен с лишним. — Десять тысяч?! У Токхо глаза на лоб полезли. Он не мог слова вымолвить. Окчоми схватила отца за руку. — Папа, ты не представляешь, как хорошо играть на нем! Папочка, купи непременно! В глазах ее светилась улыбка. — А не получится так, что купишь эту штуку, да и забросишь? — Нет, нет! Ни в коем случае. Люди, если имеют хоть малейшую возможность, специально приезжают в Сеул покупать своим дочерям пианино! Мне, думаешь, не завидно! — Ну что с тобой поделаешь, скажи на милость! Деньги есть, так обязательно что-нибудь покупать надо? Для чего зря деньги бросать? Знаешь, сколько бы ты за год процентов на десять тысяч получила? — Папа, право же, если не купишь, я непременно заболею. Я хочу пианино. — Хо-хо! Вот ведь ты какая. До того хочешь иметь, что заболеешь... Так или иначе, а придется немного подождать. Раз он наотрез не отказал, значит, наверняка купит. Токхо о чем-то задумался. — Этот... Синчхоль, что ли? Он где учится? — На будущий год Сеульский императорский университет кончает. — Гм. И, видно, из состоятельной семьи? — Кажется, живут на жалованье учителя, не знаю... А может быть, и земля есть в какой-нибудь провинции, кто знает... — зарделась Окчоми. — Папа, ты уйди, я встану. — Вот, если человек из благородных, сразу видно, и манеры у него особые. — Конечно. Окчоми представила себе лицо Синчхоля, вспомнила, с каким смущением он смотрел на нее ночью, и радостная надежда заставила сильно забиться ее сердце. Токхо ласково улыбнулся и вышел. Переодевшись, Окчоми в горячем порыве прижала к себе ночную одежду: ведь она этой ночью прикасалась к груди Синчхоля! Она прибрала постель, открыла дверь и выглянула. Потом подбежала и распахнула дверь комнаты напротив — Синчхоля не было. Видно, ушел на прогулку. Он имеет обыкновение вставать спозаранку и прогуливаться. Окчоми вошла в его комнату. Все чисто прибрано, книги на письменном столе аккуратно сложены. У стола лежали аккуратно свернутые носки. Окчоми снова вспоминала прошедшую ночь. «Неужели Синчхоль любит меня?» Эта мысль наполняла ее счастьем. Но перед глазами снова возникала картина, как Сонби и Синчхоль стоят друг против друга, а между ними чашка с водой, и ее начинала мучить ревность, которую она не в силах была заглушить. «А вдруг Синчхоль любит Сонби? За что же он может любить ее? Нет, это моя фантазия, — успокаивала она себя. — Разве способен он полюбить служанку в чужом доме? Тем более необразованную, невежественную деревенскую девчонку... Что из того, что миловидное личико?» Но неизвестно откуда подкрадывались сомнения и тревога. Желая немедля, сейчас же увидеть Сонби, выведать у нее все, она поспешно направилась в кухню. Сонби мыла посуду. — Эй, Сонби, поди-ка сюда! Сонби следом за Окчоми вышла на задний двор. В плетях руффы, вьющихся по ограде, желтели распустившиеся цветочки. — Ты зачем выходила ночью? Сонби не догадалась сразу, о чем речь. — Я? Когда? — Зачем ты меня обманываешь? Разве ты не выходила ночью, не выносила воду господину из Сеула? Только теперь Сонби поняла, в чем дело. — А-а! Я вышла на минутку во двор, по надобности, а господин сеулец, видимо, гулял там. Увидел меня и попросил холодной воды. А что? — Мм... Окчоми пристально посмотрела на Сонби, кивнула: — Ну, иди работай! — повернулась и пошла прочь. А Сонби, возвращаясь на кухню, недоумевала: «Что случилось? Сеулец чем-то недоволен? Может, муха какая оказалась в воде? А может быть, сосновая иголка попалась и сеульский господин пожаловался?» У Сонби даже аппетит пропал. Убрав столик после завтрака, она отбеливала на солнце белье, которое бабка рано утром прокипятила в щелоке, и случайно глянула в открытую дверь хозяйской комнаты. Окчоми сегодня о чем-то все думает. Вот она, отложив вышивание, поманила Сонби. У бедняжки тревожно забилось сердце: о чем еще хочет спросить она? Развесив все белье, она вошла в комнату. — Сонби, хочешь попробовать вышивать? Каждый раз, видя Окчоми за вышиванием, Сонби мечтала: «Вот бы и мне так научиться». — Я же не умею, — робко возразила она. — Ну что ты, научишься! На рисунке возле сосны рядышком стоят два журавля. Сонби внимательно рассмотрела рисунок. — Этому тоже в школе учат? — Конечно, учат. И не только этому. Всевозможные рисунки есть. Сонби смотрела на разноцветные нитки и думала: неужели и она сможет вышивать такими нитками? Потом стала разглядывать вышитое крыло журавля. — Красивый рисунок? Это наш преподаватель придумал. Разве не художественно? Сонби не вполне уяснила слова Окчоми, но поняла, что она гордится прекрасным рисунком. — В вышивании нет ничего трудного. Каждый может научиться. Переведешь с бумаги красивые горы, каких-нибудь животных, а потом вот так нитками делаешь стежки, и получается вышивка. Окчоми объясняла это вовсе не потому, что хотела научить Сонби вышивать, но в соседней комнате Синчхоль беседовал о чем-то с матерью, так ей хотелось показать себя и дать понять, что Сонби ничего не умеет. Сонби внимательно слушала и думала про себя — до чего же, оказывается, просто вышивать: стоит только срисовать с бумаги что-нибудь красивое, прошить нитками, и все тут. — Что бы ты хотела вышить? — спросила Окчоми. — Скажи, я нарисую тебе и дам нитки. У Сонби сердце замерло от этих слов. Она получит эти красивые нитки! У нее даже в глазах потемнело от счастья. Но что же вышить? Гору Пультхасан? Озеро Гневное? Сонби склонила голову и задумалась. Но ни на чем она не могла остановиться. Подняла голову, хотела что-то сказать и не могла разомкнуть губ. Окчоми, глядя на ее щеки, снова вспомнила прошлую ночь. — Говори же скорей! — Я не знаю... — Ведь если скажешь, эти нитки получишь. — Я бы курицу, которая яичко несет... — Фу, гадость! Ну что это такое! — нарочито громко крикнула Окчоми. Сонби залилась краской.* * *
Незаметно пролетел и теплый август. Окчоми с Синчхолем готовились к отъезду в Сеул. Хлопотала, собирая дорогих гостей в дорогу, мать Окчоми; ей помогала Сонби. — Вон та коробка — баскет, что ли, называется, — вон о той я говорю, — обратилась к ней хозяйка, складывая в корзину одежду. — Уложи-ка в нее яйца. У Сонби сердце так и упало. Она прошла в кладовку, вынула из глиняного кувшина корзиночку с яйцами, но, выходя из кладовки, вдруг споткнулась, два яичка выкатились... и разбились. С криком: «Ай, яйца!» — подбежала Окчоми и выхватила у Сонби корзинку. — Что это такое?! Не твое — так можно бить? Будь аккуратней, если хочешь работать на кухне чужого дома! — кричала она так, чтобы слышал Синчхоль. Окчоми рада была случаю унизить Сонби, очернить ее в глазах Синчхоля. На крик вышла с одеждой в руках мать Окчоми, посмотрела на дочь, на Сонби: — Эх ты, растяпа! Уж возьмется за что-нибудь — обязательно беды натворит! Что это такое? Осторожней ходить надо! Видишь, что получается, разиня?.. Так-то... Изруганная хозяйкой и ее дочерью, Сонби стояла пунцовая от стыда. Она еле сдерживала рыдания. Слезы уже заблестели у нее на глазах, а мать Окчоми все не унималась: — Ну разве можно ей что-нибудь доверить?! Не доглядишь, ничего толком не сделает! А скоро, поди, двадцать лет девке! Марш на кухню, да займись делом, а бабку пришли сюда! — Она кричала так, что стены дрожали. Сонби пошла на кухню. Старуха, испуганно вытаращив глаза, бросилась к ней: — Что, что стряслось? Сонби прислонилась к буфету и заплакала. — Бабка, иди живее! — крикнула хозяйка. Старуха встрепенулась и побежала, на ходу стирая следы слез. Она никогда не могла удержаться от слез, если видела Сонби плачущей. — Вот, — заворчала хозяйка, — полюбуйся: твоя Сонби разбила яйца. — Сколько же она разбила? — Сколько? Вот... смотри! — уклончиво ответила хозяйка, не желая сознаться, что разбито всего два яйца. — Не подоспей вовремя Окчоми — все перебила бы, наверно. Старуха уставилась в пол и теребила свою старую юбку. «Каждому свое дитя кажется самым добрым и самым красивым», — сердито подумала она. Вошла Окчоми. — Мама, мне это не нравится. Что это такое? — показала она на хлопчатобумажные брюки, уложенные матерью в корзину. — Кто станет носить эту дрянь? — Разве плохо надеть их зимой в комнате? — Подумать противно!.. Всякий хлам... Отдай их лучше бабке. Окчоми бросила брюки старухе. Та даже испугалась. Брюки были из того самого материала, который они с Сонби ткали прошлой зимой по ночам. Мать Окчоми живо подобрала брюки и положила в нишу. — Тебе не нравятся, так я сама носить буду. Только их и видела старуха. От едкого запаха нафталина, что ли, защекотало в носу, запершило в горле, перехватило дыхание. Она чихнула раз, другой и третий, так что даже слезы потекли. — Да, мама, Синчхоль сказал, что сам уложит яйца в баскет; только просил принести соломки или еще чего-нибудь переложить их. — Ай-я-яй! И не беспокойтесь. Ты думаешь, я занята, так больше и сделать некому? Старуха на что? Или девчонка, разве не может она уложить их как следует? И уж тем более не мужское это дело. А ты, доченька, распоряжаться должна. Окчоми только того и надо было. — Бабушка, достань-ка ваты из стенного шкафа. Старуха, соображая, на что могла понадобиться вата, открыла шкаф, достала узелок и показала Окчоми. — Это? — Ой, эта не годится. Разве можно такую грязную вату везти в Сеул? Дай новую, вон там, пониже. Только теперь старуха догадалась, зачем потребовалась вата. Она достала из-под узелка со старой ватой мягкую новую и подала Окчоми. Та выхватила из ее рук вату и выпорхнула из комнаты. Не мигая смотрела старуха ей вслед, а сама думала о коробочках хлопка, которые собирала прошлой осенью. От зари до зари она, Сонби и Ю-собан собирали этот хлопок, забывая об усталости, радуясь полным коробочкам. Одну за другой собирали эти белые пушистые коробочки, пока не наполнялся передник. Руки все исколоты, ноги исцарапаны о стебли хлопчатника! А потом таскали эти коробочки в корзинах — таких больших, что казалось, голова вот-вот отвалится, откидываясь от тяжести назад. И что же? Шиш им достанется от этих коробочек! Даже на кофточку дают какую-то бросовую, свалявшуюся, грязную вату, а под яйца постелить, в Сеул везти — подай новую. Подумала об этом старуха, и веки ее снова заморгали, покраснели, она еще раз чихнула. — В такое время и собаки не простужаются, что это с нашей бабкой? «Да с собаками, наверно, лучше обращаются!» — чуть не сорвалось с языка старухи, но она сдержалась. Рука ее, спрятанная за спину, еще хранила ощущение от прикосновения к мягкой вате. Она подумала о том, что осенью опять придется собирать хлопок и таскать корзины с коробочками, и тяжело вздохнула. — Слышь, бабка, сеулец-то, гость-то наш, учится в университете. Это самая высшая школа в Корее, — не утерпела похвастаться мать Окчоми. — Так вот, если он весной окончит ее, очень большое жалованье будет получать... Может, и не постыдится он стать женихом нашей Окчоми? — продолжала она. — Тогда бы я хоть завтра умерла спокойно... Размечтавшись, она, однако, не переставала командовать: подай, возьми. А старуха думала о своем и рассуждения хозяйки пропускала мимо ушей. В этом доме всегда дела найдутся, допоздна не переделаешь всего, а в благодарность приличной одежонки от них не получишь, совсем обносилась. Нет-нет да и задумается она: а не податься ли ей куда-нибудь этой осенью? Да куда подашься? Детей нет, ремесла какого в руках — тоже. Хоть бы смерть, что ли, скорее пришла! — Так как, бабка, хорошо бы погулять на свадьбе нашей Окчоми? Старуха не расслышала как следует, что сказала хозяйка, и только тупо уставилась ей в лицо. — Про свадьбу нашей Окчоми говорю... — Да, — выжала она из себя и кивнула головой. — Когда бы лучше устроить? — Да кто его знает... Ведь... — Люди обычно осенью справляют, хорошо бы и нам этой осенью справить. Надо разузнать, как это делается. Хо-хо... Они ведь теперь по-своему устраивают; мы, старики, посмотрим да поедим — с нас и довольно! Последнее время мать Окчоми только и думала, что о свадьбе дочери. Старуха же думала о том, что если устроят свадьбу, то и в этом году не дадут ни клочка ваты.* * *
На следующее утро Синчхоль, поднявшись еще затемно, взял полотенце с мылом и вышел во двор. Ю-собан уже натаскал воды и сейчас кормил кур. Из кухни доносился стук топора. Минуя средние ворота, Синчхоль бросил взгляд в сторону кухни, но в темноте не видно было, есть ли там кто-нибудь. Мерцал лишь огонь очага. Синчхолю сделалось грустно оттого, что так и не удалось ему ни разу посидеть наедине с милой его сердцу Сонби да перемолвиться хоть словечком. Он вышел за большие ворота и остановился в раздумье. Вот уедет он, а Сонби выйдет замуж, родит сына, родит дочку; огрубеет от постоянной тяжелой работы, на красивом лице ее одна за другой побегут морщинки! От этих размышлений у него заныло сердце. И в то же время он понимал, что даже мысли о том, как мила ему Сонби, останутся, к сожалению, глубокой тайной, которую он должен будет хранить вечно. Взглянув на небо, Синчхоль заметил, что сгущаются тучи. Он глубоко вздохнул и зашагал к озеру. Каждое утро спускался он на берег в надежде встретить Сонби. Он мылся, делал гимнастику и, посвистывая, озирался по сторонам: не придет ли, на счастье? Но ни разу с тех пор, как швырнул он в воду ивовые листья, увидав Сонби на миг, не встречал он ее у Гневного. Несколько раз попадалась на пути старуха, а Сонби нигде не было видно. Ему казалось, что голубая вода озера радостно встречает его и, журча, нашептывает слова прощального привета. Он залюбовался зеленью, покрытой капельками утренней росы, и еще раз всем своим существом ощутил гармонию природы. И словно бы завершая эту красоту, по озеру, изогнув длинные шеи, проплыла пара белых гусей и отразилась в голубой воде. Синчхоль застыл в восторге. Он оглянулся. Деревня Ёнъён в утренней дымке! И с ней прощается он в это утро. «Эх! Встретиться бы хоть раз с Сонби да поговорить с нею по сердцу...» — подумал он, когда его взгляд остановился на доме Окчоми. Взору его представилась худенькая, жалкая, милая Сонби, которую вчера Окчоми и ее мать гоняли, как собачонку. День за днем проводит Сонби в этом логове шакалов, терпя бесконечные оскорбления. Разве не его это долг — вызволить Сонби отсюда? Хорошо бы хоть как-нибудь привезти ее в Сеул... Если она захочет, то это, верно, не так уж трудно будет сделать, нужно только уговорить Окчоми. Но ему и во сне не снилось, будто он хочет жениться на Окчоми. Ее вздорный нрав! А этот вульгарно-кокетливый взгляд в подражание американским киноактрисам! Эти жеманные манеры! Окчоми не нравилась ему, хотя он с детских лет жил в городе и достаточно видел и пошлости, и разврата. Было даже время, когда товарищи подтрунивали над ним, мол, он не от мира сего. Синчхоль вынул из кармана часы, посмотрел — и сердце его легонько забилось. Время бежало, а надо было еще помыться. Спустившись под горку, он погрузил руки в воду и опять загляделся на скользящих по голубому озеру гусей. С веселой улыбкой он начал плескать в них водой. Потом вдруг вспомнил, что надо спешить, быстро умылся и двинулся обратно. Когда Синчхоль подходил к ограде дома Токхо, его внимание привлекли протянутые через ограду руки. Руки потянулись к тыкве, прикрытой широкими листьями, влажными от росы, и перетащили ее через вал. Синчхоль невольно сделал шаг, но пока прикидывал, чьи бы это могли быть руки, они уже исчезли. Ну и руки! Узловатые, с расслоившимися ногтями — чьи они? Синчхоль быстро миновал ограду, огляделся, но увидал, что мелькнула чья-то юбка. «Кто же это был? Конечно, старуха! Разве у Сонби могут быть такие руки? Сколько бы она ни работала, молодая ведь... Нет-нет!» — И он покачал головой. Из кухни доносился звон перемываемой посуды. Рассыпалась смехом Окчоми. «А вдруг это руки Сонби? — почти с ужасом подумал он. — Как! Неужели у Сонби такие руки? У такой красавицы...» — Ю-собан, пойди на гору и позови господина сеульца, — услыхал Синчхоль голос матери Окчоми и поспешил в дом. — Идите скорее кушать, да ехать надо! — встретила его Окчоми, успевшая уже, по обыкновению, тщательно умыться и одеться. Едва он взошел с земляного пола на дощатый, на него пахнуло резким запахом пудры. Из женской половины дома вышел Токхо. — Значит, уезжаете. А когда же опять к нам? — полюбопытствовал он, когда Синчхоль ответил на его поклон. — Да не знаю, право... Я и в этот раз много хлопот вам доставил. — Ну, что за разговоры! Это уж вы напрасно! Токхо прямо взглянул на Синчхоля. Не заговорить ли с ним о женитьбе на Окчоми сейчас же, да и поставить все на свои места? Но у них, видно, уже все договорено. Нынешняя молодежь всегда так: договорятся потихонечку и помалкивают. К тому же он слышал, будто нынче ученые и женятся-то лишь при условии, если их взгляды сходятся. И он оставил свое намерение. Внесли обеденные столики. Токхо взирал на них с вожделением. — Ничего особенного нет, но вы кушайте на здоровье... Эй, дочка, не ешь бульон, говорят, при твоем лекарстве нельзя кушать мясной бульон! Окчоми поморгала глазами. — Папа, я не пью этого лекарства, горькое оно, не могу! — Ах ты! Отец заставляет тебя пить, чтобы ты поправилась... Разве можно так упрямиться? Вы уж построже с ней, — обратился он к Синчхолю. — Она только ростом большая, да уши выросли, а глупыш еще! — Он с умилением смотрел поочередно то на дочь, то на молодого человека. Синчхоль почувствовал, что эти слова неспроста сказаны, и краска залила его лицо. Окчоми положила ложку, потупилась. Брови ее казались густо накрашенными. — Ну кушайте, кушайте как следует, — проговорила мать Окчоми, выходя из кухни. Синчхоль, оторвавшись от еды, мельком взглянул на нее. — Спасибо, с большим удовольствием съем еще! — Эй, принесите-ка еще тарелочку супа! В дверях кухни появилась Сонби с тарелкой супа. Лицо ее пылало в клубящемся над тарелкой пару. Черная родинка на веке, выделявшаяся ярче, чем обычно, как бы подчеркивала ее скромность. Она подала тарелку матери Окчоми. Избегая пристального взгляда Окчоми, Синчхоль принял тарелку. Руки его слегка дрожали.* * *
С осени Токхо зачастил в уездный город, и нередко можно было видеть его в аккуратном европейском костюме, который он давненько уже не нашивал. Каннани он тогда же прогнал, и в народе поговаривали: нашел себе в городе гейшу, завел молоденькую любовницу. Мать Окчоми кипела яростью, ей не сиделось дома, и она тащилась вслед за мужем в город. Вот уже пятый день, как супруги отправились в город, и ни слуху ни духу о них. Сонби со старухой одни хозяйничали в громадном доме. По ночам приходил с работы Ю-собан и спал в гостиной. Намучившись за день, он засыпал мгновенно и спал как убитый. Поэтому они даже ночью не могли выспаться как следует и не гасили в комнате огня. Старуха и Сонби перебирали собранные за день коробочки хлопчатника и задушевно беседовали, словно мать с дочерью. На жаровне тоненько забулькал соевый творог. Сонби глянула на жаровню. — А хозяйка и сегодня, видно, не вернется. — Может, и приедет еще попозже. Сонби бросила взгляд на стенные часы. — Уже половина двенадцатого. Старуха тупо уставилась на часы. — А я, сколько ни смотрю на них, не понимаю... что показывает большая стрелка, что — маленькая... Сонби и сама не могла объяснить как следует и улыбнулась смущенно: — Обе время показывают, чего еще тут знать? Бабка закивала головой и стала выбирать застрявший среди коробочек хлопка красный перец и складывать в корзинку. — А пожалуй, мы и в нынешнем году наберем целый мешок перцу. На этом поле только бы красный перец и сажать! — А где же хлопок сеять? — В долине. Там хороший хлопок будет. Он не любит жирной почвы, песчаная — самая подходящая для него. Сонби выбрала коробочку и показала старухе. — Смотри, какая большая. Несколько таких коробочек, и ваты будет на целую кофту. Правда ведь, какая большая! Коробочка хлопчатника, светящаяся перед мигающей лампой, заставила сильнее забиться сердце Сонби. Очень уж заманчивой показалась ей мысль: оставить себе несколько штук, но хорошо ли это будет? И тут же ей послышался смех Окчоми, словно звук рвущегося шелка. Она быстро опустила голову. — Дали бы нам по осени ваты на кофточки, — тихонько проговорила бабка, — то-то славно было бы! Верно? Она старательно таращила слипавшиеся глаза и вздыхала. Сонби подумала о темной, сбившейся вате, которая никак уже не могла служить защитой от холода и ветра, свободно гуляющего под кофточкой у старухи. Она не могла даже представить, сколько лет этой кофте и до чего она износилась. Чуть потяни — и разлезется. Сонби еще раз внимательно оглядела старуху. У той уже совсем смыкались покрасневшие глаза. — Бабушка, в этом году они, наверно, дадут нам ваты! В прошлом году весь хлопок продали, а в этом не будут продавать. — И-и! Жди больше. Окчоми летом в эту вату яйца обернула и повезла. Ты не знала? При слове «яйца» Сонби глубоко вздохнула, вспомнив тот день, когда она чуть не упала, неся корзиночку с яйцами. И опять против воли возник перед ней образ сеульца. Вот они — действительно счастливые люди! Поженятся с Окчоми, и какая интересная жизнь у них начнется! А в свое будущее как ни пыталась заглянуть — темно. И вдруг ей живо представилось лицо Чотче. Раньше этого не бывало... А с этой осени он постоянно тревожил ее воображение. Правда, днем, в суете, во время работы ей некогда было раздумывать, зато ночью, когда она лежала в постели, желанный сон не сразу приходил, и о чем бы она ни думала, образ Чотче неотступно стоял перед глазами. Послышался скрип средних ворот. Сонби и бабка испуганно переглянулись. Раздался топот ног. — Ю-собан? — окликнула бабка. Дверь отворилась, вошли Ю-собан и Токхо. Увидав хозяина, старуха и Сонби вскочили, изумленные. — Хорошо ли добрались, господин? — проговорила бабка. Ю-собан взял под руку нетвердо ступающего Токхо и усадил его на теплом полу. От Токхо разило водкой. Вытаращив глаза, он поглядел на Сонби, на старуху и повалился. Сонби мигом достала подушку и подала Ю-собану. — Сонби, разотри-ка мне немного ноги! — мягким голосом попросил Токхо. У Сонби похолодело в груди. Она не решалась подойти к нему. Старуха подмигнула ей — надо, мол. — Хозяйка-то не приехала? — Мм... мать Окчоми? Молодец, заботишься... Ай, пьян я. Ф-фу! — сплюнул Токхо и замахал руками и ногами. Они опасливо смотрели на него — того и гляди, сейчас браниться начнет. Кашляя, Токхо все таращил на них глаза. — Может, поесть приготовить? — спросила бабка. Токхо широко раскрыл глаза и посмотрел на старуху и Сонби. — Нет! — сообразил он наконец. — Сонби, ну, разотри же мне ноги. Сонби покраснела и беспомощно оглянулась. Старуха и Ю-собан глазами показали ей, дескать, нужно растереть. — Ну растирай же! Тебе будто два годика! Мм... Ох, ноги, мои ноги! — застонал он и принялся колотить ногами об пол. Старуха подтолкнула Сонби в бок, указывая взглядом на ноги хозяина. Делать нечего. Сонби опасливо приблизилась к Токхо и принялась разминать и поколачивать ему ноги. Комнату наполнил запах водки, неизвестно как попавшей в европейские ботинки. Сонби поморщилась. Приподняв голову, Токхо посмотрел на Сонби. — Молодец, дочка! Искусница! — И снова откинулся на подушку. Затем он уставился на Ю-собана: — Да ты пьяный. Право же, совсем пьяный. Иди-ка спать! Тот, хотя уже клевал носом, еще бодрился, но, едва услыхал разрешение хозяина идти спать, встрепенулся и живо выбрался из комнаты. — Бабка, тебе завтра обед надо рано готовить. — Знаю, — покорно ответила старуха и наклонила голову, избегая взгляда Токхо. — Сейчас же иди спать. Ведь завтра рано готовить... — Ладно, господин, засыпайте скорее. Старуха поднялась. Глядя на нее, поднялась и Сонби. — Забыл совсем! Ведь я же с завтрашнего дня в волостном управлении! Да! В этом мире, если имеешь деньги, — все возможно. Деньги — все! Теперь при встрече меня будут величать: «Господин начальник волостной канцелярии». А то надоело одно и то же слышать: господин, господин! — будто сам с собой рассуждал Токхо и усмехался. Старуха и Сонби удивленно взирали на него. — Сонби, — встретившись с ней взглядом, приказал Токхо, — постели мне да тоже ступай спать вместе с бабкой. Сонби облегченно вздохнула. Будто тяжелый груз с плеч свалился. Она быстро постелила и хотела было идти, но вернулась, привернула фитиль в лампе и вышла вместе со старухой. — Неужели господин стал волостным начальником? — продолжала удивляться старуха, когда они вошли в свою комнатушку. — Уж теперь с ним и вовсе сладу не будет! Слушая бабку, Сонби засунула руки под подушку, затем вытянула ноги и расслабила свое утомленное за день тело и вдруг снова вспомнила слова бабки Собун: «В деревне говорят: твоего отца избил Токхо, оттого он и умер». Неужели это правда? Если судить по тому, как ласково обращается он сейчас с нею, — не похоже; однако с арендаторами и должниками он по-другому обходится. Страшный, беспощадный — прямо растерзать их готов. Сонби повернулась, схватила случайно застрявшую в изголовье коробочку хлопчатника и приложила к щеке. — Сонби! — донесся голос Токхо. Девушка подняла голову и прислушалась. — Сонби! — вторично послышался зов. Сонби затрясла старуху. — Бабушка, бабушка! — Чего тебе? — спросила та сквозь сон и повернулась на другой бок. — Господин зовет. — Меня? — Нет, меня зовет. — Ну так пойди, посмотри! — Бабушка, встань, пойдем вместе! — Да что он — тигр, что ли? Чего ты боишься? Старуха, видимо, очень устала. Но Сонби в конце концов подняла ее, и они вышли вместе. — Звали? — Пришла, Сонби? — Да!.. — Принеси-ка воды. Старуха поплелась в свою каморку. Сонби пошла на кухню и вернулась с черпаком воды. Робко приоткрыла дверь. Вся комната пропахла водкой, лампа в изголовье Токхо чуть мерцала. Она быстро прибавила огня и подошла к Токхо. Хмель у него, очевидно, немного прошел. — Возле спящего пьяного нужно всегда оставлять воду, — наставительно сказал Токхо; сел, прикрываясь одеялом, и взял черпак с водой. У Сонби екнуло сердце: вдруг ругаться начнет? Она опустила голову. — Да, я и забыл! Окчоми в письме советует послать тебя в Сеул! Говорит, учить тебя будет! Она ушам своим не поверила. — Так ты хочешь в Сеул? А я под старость совсем без детей останусь. Вам бы все только учиться... Забот, что ли, других нет? Токхо частенько, когда бывал во хмелю, жаловался на то, что у него нет детей. Он пристально поглядел на Сонби и вздохнул. — Хорошенько подумай и скажи. Мне ведь что Окчоми, что ты одинаково дороги. Вот только не знаю, что ты думаешь обо мне... Сонби вдруг стало тепло от этих слов, будто и не умирали ее отец и мать. На глаза навернулись слезы. Надо же что-то ответить, но как выразить хоть одну десятитысячную долю того, что у нее на душе?! Токхо выпил воду и вернул пустой черпак. — «Сегодня уже поздно, я пойду спать, хорошенько подумаю и завтра или послезавтра отвечу...» — так ведь ты хотела сказать?.. Мм? — спросил Токхо, любуясь девушкой, разрумянившейся от переполнявших ее чувств. Сонби привернула фитиль и вышла. В своей комнате она ничком бросилась на узел с хлопком. «Окчоми!» — впервые с благодарностью мысленно произнесла она и представила себе ее лицо. Казалась такой надменной, а выходит — она добрая! Да правда ли это? Неужели так и пишет, что будет меня учить, и велит прислать в Сеул? Может быть, хозяин просто наболтал спьяна? Нет, ей не уснуть в эту ночь. Она поднялась с постели, зажгла свет и стала перебирать пушистые коробочки. Коробочка, еще коробочка... Подобно этим белым коробочкам, постепенно наполнявшим ее передник, теснились в голове Сонби мысли. И откуда только они брались! «Как же быть? Если хозяин сказал правду, я поеду в Сеул и, наверно, вместе с Окчоми буду ходить в школу и вышивать научусь!» — мечтала она. Глазам ее представились моточки цветных ниток, которые всегда вызывали у нее такую зависть. Крепко сжав коробочку, Сонби задумчиво смотрела на лампу. «Уеду в Сеул, а кто же будет убирать хлопок? Кто будет прясть?» И она оглянулась на старуху, спавшую крепким сном. Опять мелькнуло перед ней лицо Чотче. Она тряхнула головой, отгоняя видение. Неужели она всю жизнь так и проживет здесь?* * *
Уже темнело, когда закончился обмолот урожая Кэтони. В сумерках серой массой возвышался неочищенный рис. Опьяненные усталостью и возбуждением крестьяне окружили эту груду. Пришел и Токхо с Ю-собаном. Ю-собан сходил и принес зажженную лампу. Таппори взял мерку и наполнил ее рисом. — Первая мерка пошла! — протянул он басом нараспев. Заструилось, запело сыплющееся в мешок зерно. Горячая волна захлестнула сердца крестьян. В такие мгновения они украдкой вытирают глаза и невольно становятся теснее, плечом к плечу, и сосед подшучивает над соседом: «Эй, ты, гляди, упадешь еще!» Первый, второй, третий, четвертый — один за другим наполнялись мешки. «Интересно, сколько всего будет?» — любопытствовали крестьяне и сравнивали наполненные мешки и убывающую горку риса. Таппори все вымерил и ссыпал в мешки. — Пятнадцать мешков и пять мерок! — торжественно провозгласил он, словно песню пропел. — Пятнадцать мешков и пять мерок! Какой урожай! — возбужденно загомонили все. Таппори, отряхнувшись, выпрямился и хлопнул Кэтони по плечу. — Так что, братец, с тебя причитается. Нынешний год ни у кого такого урожая нет, как у тебя! — Ладно! — засмеялся Кэтони и бросил взгляд на Токхо. Лица Токхо нельзя было разглядеть, но по его спокойному поведению ясно было, что он доволен. Когда урожай плохой, Токхо не устоит на месте — бегает туда-сюда, шумит, что поле, мол, не удобрили, что съели часть урожая! Ю-собан подкатил телегу и взвалил на нее мешок. Остальные тоже взялись за мешки. — Ух, тяжеленек! Правда, отчего это один мешок риса, а такой тяжелый? — говорили они нарочно, чтобы Токхо слышал. Токхо стоял в сторонке и в темноте лишь попыхивал своей трубкой. — Кэтони! — подал он наконец голос. — Давай-ка мы с тобой прямо здесь произведем полный расчет, а потом ты опять можешь брать сколько надо... А? Как? Ты мне деньгами-то сколько задолжал? Токхо ждал ответа. У Кэтони весь день сердце было не на месте: неужели не отсрочит долга? Теперь же, когда он услышал требование Токхо, не оставлявшее ни малейшей надежды, у него словно оборвалось что-то внутри. Токхо вроде бы с сочувствием смотрел на онемевшего Кэтони, размышлял: «Парень, как видно, платить не собирается!» Если сейчас не схитрить, потом с него долга не получишь!» — Не ты ли взял в январе пятнадцать иен? Прошло уже десять месяцев, и теперь с процентами за тобой двадцать иен. За это ты должен мне четыре мешка риса. Разве дадут тебе где три-четыре иены за мешок? Надуют, не иначе! К ним надо присчитать, конечно, за удобрения и рисовую ссуду... — И оглянулся на Ю-собана. — Тащи на телегу еще семь мешков! Да, значит, за тобой еще останется около десяти иен, — снова обратился он к Кэтони, — но что поделаешь, надо же и вам на прокорм оставить; полмешка из моей доли[46], да полмешка из твоей... Сложим их, и будет целый мешок, и я оставлю его тебе, понял?! За то, что хорошо потрудился в этом году, хо-хо-хо! Ю-собан с трудом поднимал мешки, ковылял к телеге и сваливал их туда. Усталость, о которой все забыли в радостном возбуждении, с новой силой навалилась на людей, и они попадали без сил на снопы соломы. Чотче вспомнил папашу Пхунхона. У того отняли рис прямо на корню, и он, обезумев от горя, кинулся в ближайшую деревню и приставал к каждому встречному с одним и тем же вопросом: — Послушайте, разве есть такой закон, чтобы еще до жатвы рис... Дальше он не мог говорить. Чотче, догадавшись, в чем дело, отправился с Пхунхоном на его поле. На расставленных по углам поля дощечках было что-то написано. Пхунхон указал на таблички. — Их воткнул человек в европейском костюме, назвался судебным исполнителем, кажется, сказал: «Запрещается!» — и не велел жать рис... — Он с тоской смотрел на желтеющие колосья. — Кому и сколько вы должны? — спросил Чотче. — Кому же еще, как не Токхо? Просил его подождать немного, так ведь вот до чего додумался! Вчера почтальон вот эту штуку принес. Что там такое, думаю. Взял, а оказалось такое, что и во сне, наверное, никому не снилось. Пхунхон вынул из кармана конверт и показал, но Чотче тоже не мог прочитать ни одного иероглифа и, повертев в руках, вернул письмо. — Что же в нем такое? — добивался Пхунхон, всматриваясь в листок. Чотче поскреб затылок. — Кабы я кумекал в этом... — Как бы это дело поправить? — С Токхо не пытались поговорить? — Не пытался!? Ночью вчера ходил и на рассвете просил, умолял, все напрасно. Что теперь делать? Может, ты поговорил бы с ним? А? Сколько мольбы было в его глазах! Чотче отвернулся. У него возникло страстное желание пойти к Токхо и, ни слова не говоря, дать ему как следует! Но что пользы от этого? Чотче огорченно вздохнул и загляделся на колышущееся перед ним поле. Колосья уже созрели и сгибались под собственной тяжестью. Оставалось только сжать их, обмолотить, превратив в драгоценный рис. — Ладно! Я попытаюсь уломать его! — пообещал он. — А чье это поле? Наверное, какого-нибудь горожанина? — Да, одного уважаемого человека из уездного города по имени Хан Чхису. Пхунхон тяжело вздохнул. — Неужели есть такой закон? Раньше такого не бывало... Сколько ни думаю — нет, не припоминаю. Завтра пойду в город, к этому Хан Чхису, попробую еще его спросить... последняя надежда... Чотче тоже не слыхивал о таком законе, чтобы рис на корню отнимать. — Попробуйте, — посоветовал он. — А что, если я прямо сейчас пойду? Пойду! Он направился к дороге и, даже не оглянувшись, решительно зашагал в город. Чотче долго смотрел ему вслед и, лишь когда Пхунхон скрылся за выступом горы, вернулся в деревню. Не встречая Пхунхона несколько дней, Чотче стал спрашивать о нем у соседей, но Пхунхон словно в воду канул — никто не знал, где он. Рассказывали только, что он отправился неизвестно куда вместе с женой и детьми, в чем был, прихватив с собой лишь несколько черпаков... Все это живо припомнилось теперь Чотче, но скрип телеги вернул его к действительности. Он вдруг остро осознал, что Токхо, выжив папашу Пхунхона, собирается теперь выжить Кэтони, потом не пощадит и его, Чотче. — Послушайте, неужели я не уплачу вам долга? Слова Кэтони были как вспышка молнии в грозном небе. Ведь это все, все, что он наработал за год! Хоть бы сложили сначала этот рис перед дверью его маленького, под соломенной крышей дома, прежде чем вот так забирать, — и то, верно, легче было бы... К тому же сейчас цена на рис пять иен за мешок, а чуть подождать — будет шесть, а то и все восемь. И вот все это забирают почти задаром! Не помня себя, Чотче сорвался с места и сбил Ю-собана с ног. — Да что же это делается? Эй вы, все сюда! — закричал он товарищам. И в ярости они ринулись к телеге, не думая о том, в свое ли дело вмешиваются или в чужое, и начали стаскивать мешки. Стали было искать Токхо, но тот успел скрыться. — Попробуй только отобрать этот рис! — угрожающе закричал в темноту Кэтони. Вдруг в стороне вспыхнул фонарик, вот он все ближе и ближе. «Полиция!» — смекнули парни и бросились врассыпную. То тут, то там слышался лай собак и топот, топот...* * *
На рассвете следующего дня мать Кэтони пошла к Токхо. Ворота были еще на запоре. Не раз уже подходила она ночью к этим воротам и возвращалась ни с чем; подумав, шла опять и опять безмолвно стояла перед закрытыми воротами. Заглядывала в щели, надеясь увидеть кого-нибудь там, внутри, но хоть бы тень промелькнула — никого. Так целую ночь и бродила она от своего дома к дому помещика и обратно и все твердила то, что собиралась сказать Токхо. Вот и сейчас она усиленно пыталась вспомнить слова, придуманные ночью, но они вылетели у нее из головы, едва она подошла к помещичьей усадьбе. Кто-то тяжело шагал по двору. Она немного отступила и прислушалась. Загремел отодвигаемый засов, и дребезжа открылись ворота. Прихрамывая, вышел Ю-собан. — Зачем явилась? Она напомнила ему о ночном происшествии, и лицо его исказила злоба. Мать Кэтони понурилась. — Натворил мой беды-то. Вы уж простите. По дурости, видно, он, по недомыслию... Пощадите его! — По недомыслию, говоришь? Эти сукины сыны — несмышленыши?! А? Ты погляди, как они мне ногу покалечили. — И, ухмыльнувшись, пошел назад. Мать Кэтони следовала за ним по пятам. — Господин волостной начальник проснулись? — Зачем тебе волостной начальник? — оглянулся Ю-собан. — Так вы сами поможете, да? Выручите, пожалуйста! Старуха всхлипнула. — Да что я-то могу! Проклятое отродье... Понятия не имеют о человеческой благодарности, совести у них нет. Настоящие скоты, право! — разразился Ю-собан бранью и пошел прочь. Мать Кэтони все не уходила. В это время из дома донесся голос Токхо: — Кто там? — Мать Кэтони, — ответил Ю-собан. — Мать Кэтони? Зачем? — Почем я знаю! Подойдя к двери, старуха остановилась в нерешительности. — Господин волостной начальник, на этот раз простите! Парни без разума совсем. Токхо, видимо, еще не встал с постели. — Мамаша Кэтони? Заходи сюда, старая, холодно, наверно? Чего там стоишь? От этих неожиданно приветливых слов у бедной женщины в глазах помутилось. — Заходи, заходи, — подтолкнул ее Ю-собан. Мать Кэтони вошла и опустила голову. — Простить, говоришь, а? Ну на первый раз рискну, пожалуй, пощажу... — Токхо кашлянул и продолжал: — Да, выходка этих негодяев возмутительна. За это их в тюрьме бы следовало сгноить,но, поскольку я теперь ответственный за всю волость, могу ли я допустить, чтобы страдали старые люди вроде тебя? Мать Кэтони готова была разрыдаться. — Так уж, пожалуйста, ради меня, старой!.. — Гм, сегодня как раз в волостном управлении не работают. Попробую-ка обратиться прямо в полицейский участок. Однако, сколько бы ни кормились эти негодяи моим хлебом, а платят только неблагодарностью, да еще вон какие штуки выкидывают. Но у меня сердце мягкое, люблю их, как родных детей; не я ли только вчера, пожалев твоего, дал целый мешок риса даром, а эти черти не понимают благодарности. И всегда вот так, и в прошлый, и в позапрошлый год было то же самое. — Об этих разбойниках и говорить не стоит. Нас вот, стариков-то, пожалейте. — Гм, ну ты пока иди, а я, так и быть, схожу, попытаюсь. Мать Кэтони поклонилась до земли и вышла. Токхо же, ворочаясь в постели, прикидывал, что стоило бы проучить этих мерзавцев, да ведь холода надвигаются, нужно до снега обмолот закончить. Как их не выпустить? К тому же ходят слухи, что с этой осени войдет в силу законопроект о контроле над зерном, а если так, то цены на него непременно поднимутся. Надо бы ликвидировать долги этих шалопаев по низкой цене. И как только осенила его эта удачная мысль, он сразу же вскочил с постели.* * *
Крестьяне ничего не понимали. Только вчера ночью забрали их в полицейский участок, а утром пришел Токхо, выслушали они строгое наставление начальника полиции, поклялись, что больше такого не повторится, и были отпущены. Позавтракав наспех, они поспешили на ток. Собрали разбросанные снопы соломы, смели в кучу рассыпанный рис и завертели молотилку. Руки и ноги у них ныли от побоев, спины еле сгибались. И все думали об одном и том же: хорошо бы хоть немного отдохнуть! Появился Токхо с трубкой в зубах, с тросточкой, в очках... В шелковой рубашке под шерстяным жилетом. Крестьяне помрачнели. Но он был, похоже, настроен вполне мирно, чем сбил их с толку окончательно. — О, вы уже работаете! Это похвально... Человек ведь таков: хорошо поест, хорошо и поработает, а у нас в волости народ крепкий. Хо-хо-хо! Вы, конечно, на меня в обиде? За вчерашнее. Но вы и сами понимаете, что поступили нехорошо. Тем не менее, раз я занимаю такую почетную должность в волости, разве не главный мой долг заботиться о вашем благе? Токхо громко откашлялся и продолжал говорить, а они слушали его, понурив головы. — Взять хоть вчерашнее; ведь то, что я забираю долг зерном, целиком и полностью в ваших интересах... По-вашему, лучше продать зерно, а долг погасить деньгами. Но дело не только в том, что вы нарушите срок. А вдруг не получите за рис настоящей цены или — еще хуже — не сумеете продать в подходящий момент? И если после этого я возьму долг зерном, то потерплю убытки один я... А зачем мне терпеть убытки? Ведь ясно, что в самом скором времени, и вы сами в этом убедитесь, цены на зерно падут. Зачем же дожидаться этого? Я же за всех вас болею душой, как за родных детей, а вы не понимаете. Хотя вы вчера и набезобразничали — будь на моем месте другой, он бы вас прогнал, — но я пекусь не только о вас, но и о ваших семьях. Известно вам или нет, что я лично ходатайствовал перед начальником полицейского участка? Смотрите же! Каждый может допустить ошибку раз, но в другой раз — берегитесь! Токхо торжествующе оглядел крестьян и усмехнулся. Похоже, речь его произвела на них впечатление. Теперь он окончательно убедился, сколь сильна власть полиции над этими невежественными олухами: побывали в каталажке и поникли, будто трава, прибитая морозом. Значит, лучшая управа на бунтовщиков — порка! Токхо удалился. Крестьяне облегченно вздохнули. Все, что он наговорил им сейчас, их ничуть не утешило. Они снова взялись за работу. Каждую из пяти молотилок обслуживали три человека. Двое брали со скирды снопы, развязывали их и подавали по очереди с двух сторон пучки колосьев третьему, стоявшему посередине, крутившему барабан, затем связывали в снопы обмолоченную солому и складывали в стороне. — Эй, ты, подавай живее! — закричал Карлик, выхватывая у Чотче пучок риса. — Из-за этого олуха нас вчера чуть до смерти не забили, — повернулся он к Оглобле, вспомнив, как били их этой ночью. Оглобля проворно вертел пучок. — Ни гроша за душой, а туда же — с гонором. Какая уж там спесь, коли нечего есть! Прикажут умереть — притворишься мертвым! Слушая ропот озлобленных людей, Чотче с трудом подавлял в себе закипавшую ярость. Лицо его побагровело. Еще вчера на току они были заодно, минула страшная ночь — и они возненавидели Чотче. Горький комок подступил к горлу. Случайно посмотрев на скирду, он увидел приближавшегося к ним полицейского. Чотче испугался. Не поднимая головы, он принялся старательно связывать снопы. И только когда позвякивание сабли несколько отдалилось, он успокоился и оглянулся. Сабля, постукивая по ноге полицейского, ослепительно сверкала на солнце. — Эй, ты, поди-ка поверти! — крикнул ему Карлик. Чотче торопливо подошел, поставил ногу на педаль молотилки и, приняв от Карлика пучок риса, стал обмолачивать его; но вдруг он заметил, что в волостном управлении, как раз напротив, сидят Токхо и полицейский и сквозь стеклянную дверь смотрят прямо в его сторону. Внезапно его осенила догадка: Карлик умышленно попросил Чотче сменить его у молотилки, не желая быть у них на виду! Он весь как-то съежился. Ему казалось, что они наблюдают за ним и спорят: взять его или нет. Осыпающиеся зерна риса легонько ударялись о его щеки и отскакивали. Он почувствовал озноб — не от ветра ли, вызываемого вертящимся барабаном? Раньше от такого ветра ему бывало только легко и приятно... — Курить охота! — проговорил Карлик. Чотче тоже сразу захотелось курить, он глянул на Карлика, и все товарищи, как по команде, переглянулись между собой. Каждый видел по глазам другого, что всем хотелось курить, но никто не решался передохнуть, опасаясь обратить на себя внимание тех, кто сидит и оживленно беседует в волостном управлении. И снова всколыхнулось в них недовольство. Сейчас всюду вокруг них рис — им засыпан уже весь ток, а он все сыплется и сыплется. Его желтые чешуйки, похожие на мелкие перышки, летят в небо и медленно оседают на землю. И этот рис поступит в амбары Токхо и будет смолот прежде, чем они успеют ощутить как следует его вкус! А дома почти каждого ждут с нетерпением ребятишки: «Папа белый рис несет! Будем белую кашу есть!» А что им ответить? Летом каждый обещал по обычаю: «Осенью белую кашу поедим». А теперь что они скажут? Каждого одолевали эти тревожные мысли, и рисовые зерна казались теперь уже не зернами, а острыми стрелами, и каждая из них впивалась в грудь. «Еще немного, — думали они, — и гора Пультхасан покроется снегом... Что мы будем есть тогда?» А в ушах Чотче звучали слова начальника полицейского участка: «Мы научим вас уважать закон!» «Закон, закон... Наверно, есть и такие законы, что позволяют убивать за нарушение закона?» О том, что такое закон, он всегда имел весьма смутное представление, как о чем-то, что испокон веков считается святым и непреложным. Нельзя сказать, чтобы теперь он думал иначе, но вчерашний случай заронил в его душу сомнение, он стал задумываться над смыслом слова «закон». Ему хотелось во что бы то ни стало постичь: что же такое закон? Этот клубок вопросов и сомнений крепко опутал его сердце, в них необходимо было разобраться. «То, что мы вчера взбунтовались против Токхо, наверное, нарушение закона? Закон... закон...» — повторял Чотче, не замечая, что говорит уже вслух. Он тряхнул головой: лишь нагнал на себя тоску, а где тут разобраться? — Эй, Медведь! Ты чего там бормочешь? — окликнул его Карлик. Чотче вздрогнул, испугавшись, что невольно выдал себя.* * *
Стояло начало зимы — пора, когда кончается уборка урожая. Жителей деревни известили, что приехал начальник уезда и хочет держать перед ними речь. Собрались все, знали: раз прибыл начальник — бросай все, даже самые спешные дела, и иди на сходку. Не пойдешь — штраф. На небольшой площади перед волостным управлением столпились крестьяне. В центре ее на возвышении сидели начальник волостной канцелярии и начальник уезда, по сторонам — волостные писари. Крестьяне во все глаза смотрели на нового начальника уезда — тучного японца в европейском костюме. Вот поднялся волостной начальник и коротко представил крестьянам начальника уезда. После этого поднялся он сам и, откашлявшись, начал: — Э... волостное управление, вероятно, уже известило вас, и вам должна быть ясна цель, с которой я прибыл сюда. Я — вновь назначенный начальник уезда и должен наблюдать за положением дел в уезде. Именно об этом я и хотел поговорить с вами. В Корее, — продолжал он после короткой паузы, — э... свыше восьмидесяти процентов населения составляют крестьяне. Совершенно очевидно, что от подъема или упадка крестьянского хозяйства зависит расцвет или упадок государства. И недаром говорят с давних пор, что земледелие является основой основ. «Если земледелие — основа основ, так почему же так плохо живут люди, которые занимаются земледелием, а такие, как Токхо, которые и мотыги в руках не держали, живут хорошо?» — пронеслось в голове Чотче. — Не следует дважды говорить о том, что мы должны прилежно заниматься земледелием, э... но наша великая Японская империя присоединила теперь Маньчжурию, и милостию божией нет в мире страны, равной Японии. Поэтому крестьяне должны еще усерднее обрабатывать землю и, производя как можно больше продовольствия, отдавать его государству. Корейский крестьянин беден из-за неопытности в ведении сельского хозяйства. Как же сделать, чтобы собирать с полей богатый урожай? Как сделать, чтобы даже с маленького поля собирать большой урожай? Иначе говоря, заниматься земледелием нужно, зная способы ведения сельского хозяйства. Э... например, э... один человек вырастил большой урожай, — надо перенимать его опыт, его успешные методы работы. Важно, кроме того, знать, как сеять зерно и на каком поле что лучше растет. Если на поле, на котором хорошо растут бобы или гаолян, посеять просо или рис, ясно, что небольшой урожай соберешь. На каждом поле следует сеять то, что дает лучший результат. Э... силос... перегной... Его нужно заготавливать как можно больше. Весна подойдет — нужно хорошенько удобрить поле. Каждый должен усердно работать, а в свободное время косить траву и складывать в копны — на перегной. Весной это послужит прекрасным удобрением. Не надо будет ехать в город и тратиться на химические удобрения. Все это было давным-давно известно крестьянам. Этот человек словно с луны свалился. — О-хо-хо! — широко открыв рот, протяжно зевнул какой-то старик, белая борода и усы которого совсем закрывали нижнюю часть лица. Все с испугом посмотрели на него. Токхо подозвал осмелившегося зевнуть старика и выбранил. Уездный начальник еще больше выпятил живот, как бы подчеркивая этим свое достоинство, и продолжал прерванную речь. — Э... Вы должны носить цветную одежду. Причина того, что корейские крестьяне плохо живут, во-первых, в том, что они ленивы, а во-вторых, в том, что носят белую одежду. Так что быстрее меняйте свою одежду на цветную. Белую нужно часто стирать. Во-первых, вы тратите время, а во-вторых, от частой стирки одежда быстрее изнашивается. Э... не стоит также носить резиновую обувь. Носите соломенную. Плетите ее в свободное время. Следовало бы также сократить расходы на обряды. Если вы последуете моим советам, скоро сделаетесь богачами. Не так ли? Чотче вспыхнул от ярости, услышав, что крестьяне-де плохо живут от лени, и что-то проворчал... Сидевший рядом Оглобля толкнул его в бок и предостерегающе замигал. — Да, э... — продолжал начальник уезда, — в заключение я хочу сказать, что учреждение, именуемое волостным управлением, заботится о том, чтобы вам жилось лучше. Нехорошо, что вы слабо поддерживаете волостное управление. То, что вы платите земельный налог, подворный и прочие налоги, — все это предназначается и используется для вашего же блага. Вы непременно должны аккуратно платить эти налоги. Пользуясь случаем, скажу заодно: уважайте руководство волостного управления. Начальник уезда кончил свою речь и опустился на стул. Поднялся волостной начальник, не скрывая довольной улыбки. — Сегодня господин начальник уезда прибыл к нам и произнес прекрасную речь. В доказательство признательности и уважения народ нашей волости торжественно обещает следовать советам господина начальника уезда. Ну, встаньте же! Крестьяне, переглядываясь, нехотя поднимались и склоняли головы. Начальник уезда, выпятив грудь, принимал знаки уважения. «Волостное управление печется о нашем благе?» — горько усмехнулся Чотче, уходя с площади.* * *
А через несколько дней у Чотче отобрали поле. «Если послушать начальника уезда, у волостного управления одна забота — чтобы крестьянам жилось лучше... А разве я не крестьянин этой волости? Как же так? Начальник волости отнимает у крестьянина землю — разве это законно? Или это за то, что я нарушил закон? Опять закон! Но почему закон делает Токхо волостным начальником, а у меня отнимает последнюю возможность жить?» С каждым днем все больше возникало у него вопросов. Они не давали ему покоя. Чотче ни в коем случае не хотел нарушать закон, но почему-то получалось так, что проходил день, и он с сожалением обнаруживал, что опять нарушил его. Подойдя к дому, Чотче остановился у калитки. Что же теперь делать? Из дома слышалось шуршание соломы: может, это Ли-собан не пошел сегодня за милостыней и сидит дома? Чотче быстро вошел в дом. Он не мог сразу разобрать, кто находится в комнате. В темноте не прекращалось шуршание соломы, и он догадался, что это мать вьет соломенные веревки. — Вернулся? Зачем тебя вызывали? Когда за Чотче пришел волостной писарь и сказал, что его вызывает начальник волостной канцелярии, и мать, и он сам почти не сомневались, что это по поводу того ночного бунта. Скорее всего — хотят землю у него отнять. — Поле отобрали, да? — снова спросила мать. — Да... Он сел спиной к матери и тоже принялся сучить веревки. Мать взорвалась: — Ишь, головорез! Притих теперь! Ты что же думал, когда разбойничал, что тебя по головке за это погладят, да?! Или у кого-то в нахлебниках прожить думаешь? Куда как любо! Насидишься теперь голодным... Небось поумнеешь! Пока земля была, можно было хоть в долг попросить! А теперь? Кто даст тебе теперь хоть горстку зерна?! Чотче молча сучил веревки. — Так-то вот! С малых лет дрался со всеми. А теперь вот из-за твоего нрава совсем пропадем! Он не выдержал и выскочил вон. На дворе сыпал град. У деревянной калитки скопилось много градинок, и стук их слышался здесь более явственно. Градинки напомнили ему о рисе, и опять у него тоскливо сжалось сердце... Пойти, что ли, нарубить дров, продать да достать немного рису... Но эти проклятые лесники запрещают рубить лес... Закон? Чотче топнул ногой. Некоторое время он стоял неподвижно. «А не пойти ли к кому-нибудь из приятелей?» — подумал он и, взвалив на спину чиге, вышел со двора. Град освежил его разгоряченное лицо. Сквозь частую сетку града виднелись поля. Чотче вздохнул. Бывало, отправляясь на работу с мотыгой на плече, он любил помечтать. Не раз воображал, как будет трудиться еще усерднее и сытно есть, а излишки богатого урожая будет продавать и откладывать сбережения. Потом построит дом, женится на Сонби, народятся у них сыновья и дочки, и заживут они припеваючи! Теперь он горько усмехался, вспоминая свои глупые фантазии. Сам не зная как, Чотче оказался у озера Гневного. Он прислонился к стволу ивы и загляделся на озеро. И тут невольно пришла ему на ум легенда о Гневном. «И они нарушали закон, и их или убивали, или избивали до полусмерти», — подумал он. Но ведь те крестьяне жили давным-давно, сколько тысячелетий, сколько веков прошло с тех пор, а ему теперь так же худо, как и им. Это открытие поразило его, и он снова вгляделся в голубые воды Гневного. Послышались шаги. Но ему не хотелось поворачиваться. Шаги приближались. Чотче догадался, что идет не один человек. Он спрятался за иву. К озеру подходили две женщины. Кровь бросилась Чотче в голову, сердце бешено заколотилось, перехватило дыхание. Он стоял, боясь шевельнуться, и смотрел, смотрел. Неужели одна из женщин с тяжелой ношей на голове — Сонби? Ее лицо, выглядывая из-под низко надвинутого белого платка, сияло, словно очищенное зернышко риса. Глаза влажно поблескивали. Женщины опустили корзины, выложили белье на камень и застучали вальками. Вот Сонби отбросила валек и, полоща белье, случайно глянула в его сторону. Он отшатнулся. В глазах потемнело, голова закружилась. Он судорожно ухватился за палку. «В моем-то положении думать о Сонби!» — горько усмехнулся он про себя и побрел прочь. Стук валька становился все слабее. Взвалив чиге на спину, он посмотрел на подножие горы, и вспомнилось ему, как в детстве прибежал он на эту гору за травой, повстречал Сонби и стал отнимать у нее щавель. С тех пор в каждом уголке его души жила Сонби. И чем дальше, тем острее становилось это чувство. Однако ему даже ни разу не удалось поговорить с той, о которой он так тосковал. А теперь ему нельзя и мечтать о встречах с Сонби! Он поднял палку, изо всей силы стукнул себя по ноге и подскочил от боли. Град пошел еще сильнее. Над далекими домами поднялись вечерние дымы. Не вернулся ли Ли-собан? Он повернул к горе, накосил сухого бурьяна и поспешил домой. От жилья потянуло запахом вареного риса. Ему вдруг страшно захотелось есть. Вспомнив, что вчера вечером он поел немного рисовой каши, а сегодня утром — лишь жидкой похлебки, он еще сильнее ощутил голод. А может, Ли-собан ждет его с полной сумкой еды? Чотче прибавил шагу. Возле дома он сбросил вязанку и, гадая, вернулся старик или нет, открыл дверь. Мать лежала на теплом полу. Услыхав скрип двери, она живо приподнялась. — Ли-собан? — Но, увидев сына, со стоном повалилась обратно. У него все так и поплыло перед глазами. Значит, Ли-собана еще нет! Чотче повернулся и, хлопнув дверью, вышел из дому. «Где же старик? — Он вглядывался в густеющий сумрак. — Может, ему тяжело нести свой мешок, а ведь дороги занесло снегом, и ни единой души не встретишь». Чотче подождал еще немного, затем двинулся по дороге в город. Некоторое время он шел понурясь, затем остановился: вдруг Ли-собан появится там, вон за тем поворотом? Но не увидел даже человеческой тени. Лишь бесчисленные снежинки кружились и кружились перед ним. Вскоре стемнело настолько, что ничего нельзя было разглядеть. «Уж не замерз ли он по дороге? А может, ему стало худо и он прилег где-нибудь у водяного жернова?» Ветер не стихал. Град вперемежку со снегом больно хлестал по лицу. Поняв наконец, что Ли-собана не дождаться, Чотче побрел домой. Они не спали в эту ночь. Все ждали: может, хоть под утро вернется Ли-собан. «Не иначе с ним что-нибудь стряслось», — решила мать Чотче. — Сходи в город, узнай, не случилось чего с Ли-собаном. Чотче поднял на мать глаза. — Разве туда дойдешь голодным? Добудь хоть немного еды. Еще вчера он был уверен, что без еды не так уж страшно, и он мог еще довольно бодро передвигаться, но сегодня утром голод свалил его, и ему казалось, что он не сделает и шага. Мать тоже теряла последние силы. Она глядела на сына с беспомощной жалостью. Решив раздобыть где-нибудь хоть ложку каши, она все же поднялась и вышла, захватив с собой черпак. Чотче закрыл глаза. В воображении перед ним замелькала еда на бесчисленных блюдах. Это было невыносимо! Он снова открыл глаза, и первое, что он увидел, был глиняный кувшин, в котором обычно хранился рис. Почти машинально он встал, подошел к кувшину и заглянул в него. Пусто. «А прошлой осенью кувшин был полнехонек!» — с горечью подумал Чотче, и минувший год представился ему теперь таким благополучным. Тогда Токхо вычел только долг и рисовую ссуду, а за удобрения, за рис на питание и прочие мелкие долги обещал вычесть в другой раз. Он снова заглянул внутрь. Вдруг хоть несколько зернышек пристали к стенкам? Он встряхнул кувшин и заглянул опять: на дне ни единой рисинки! Он глубоко вздохнул, стукнулся лбом о кувшин и заплакал. На дворе послышались шаги, он взял себя в руки. Дверь распахнулась, и вошла мать. — Я думал, это Ли-собан! — Что, совсем оголодал, беспутный малый? Мать протянула ему черпак с желудевой кашей. Чотче стал с жадностью хватать кашу и набивать в рот. — Да не торопись так! Подавишься! Мать и сама надеялась съесть ложку-другую, но, когда увидела, как набросился на еду сын, не смогла поднести ко рту хотя бы горсточку. — Ешь, мама! — спохватился он. — Да я уже съела несколько ложек, а это тебе принесла, — солгала она. Чотче опорожнил посуду и вышел.* * *
Вернулся Чотче только поздней ночью. — Мама! — тихо позвал он. Приняв его сначала за Ли-собана, мать вскочила, но, услышав голос сына, молча легла снова. Он подошел и что-то вложил ей в руку. Она почувствовала запах риса, поняла, что это мешочек с рисом, проворно встала и пошла на кухню. — А ты разведи пока огонь! Чотче разводил огонь в очаге, мать промывала рис. Мельком взглянув на освещенную фигуру сына, она ахнула: одежда на нем была изодрана в клочья. Но уже в следующее мгновенье она сделала вид, будто ничего не заметила. Чотче прислушивался к шороху промываемого риса и не знал, радоваться ему или огорчаться. Он глотал слюни, глядя на заманчиво сверкавший в воде при свете очага белый рис, и, не вытерпев, подошел, зачерпнул черпаком воды и выпил. Наконец рисовая каша была готова. Едва они вошли в комнату, хлопнули ворота. У Чотче испуганно округлились глаза, он выскочил в заднюю дверь, а мать торопливо спрятала миски с кашей и прислушалась. — Спите?.. Чотче, ты спишь? Мать бросилась к двери. — Скорей открой... — послышался хриплый, прерывистый голос. Мать вышла в прихожую, но у нее тряслись руки, и никак не удавалось отодвинуть засов. Она побаивалась, не притворяется ли кто-нибудь, выдавая себя за Ли-собана. — Да открой же, сынок... О-ох!.. Мм... — Ли-собан, ты, что ли? — Она прильнула к дверной щели. Из последних, верно, сил старик стукнул головой в дверь. Убедившись, что это Ли-собан, она отодвинула засов. — И правда — он! Скорее, скорее, сюда! Ли-собан с трудом вполз в комнату. — Куда же ты костыль-то подевал? — О-о, — только простонал он, бессильно повалился на пол и страшно вскрикнул от боли. Мать Чотче достала спрятанную было миску с кашей и, лишь опорожнив ее, пришла в себя. — Что болит-то у тебя, Ли-собан? — спросила она, чувствуя, что с ним творится что-то неладное. Ли-собан молчал. Это напугало ее, она потянулась к нему и, только когда нечаянно коснулась его головы, сообразила, что в комнате темно. «Хорошо бы огонек засветить... масло-то еще есть, кажется», — пробормотала она. Ли-собан снова застонал. — Чотче... Чотче... Услыхав, что Ли-собан заговорил, она немного успокоилась. — Где болит, что стряслось с тобой? — Простыл, наверно... — Простыл... Чего же ты вчера не пришел? Задняя дверь медленно приоткрылась. — Ли-собан пришел? — просунул голову Чотче. — Это ты... — только и мог сказать Ли-собан, и им показалось, что он всхлипнул. Окончательно успокоившись, Чотче вошел в комнату. Мать сходила на кухню и подбросила дров в очаг. После бессонной ночи они поднялись только к полудню. В дверь заглядывало яркое солнце. Чотче приподнял голову и посмотрел на Ли-собана. Он и так-то был кожа да кости, а теперь и вовсе походил на скелет. — Ли-собан! — позвал Чотче. — Что? — тот мигом открыл глаза. Ночь в тепле немного подкрепила его. — Где ты пропадал столько времени? — с легким укором спросил Чотче. — Заболел я, чуть на тот свет не отправился... да знал, что ты ждешь, вот кое-как и дотащился... Но эти вредные чертенята утащили все-таки мой костыль и не отдали... — Он вздохнул, и глаза его, обращенные на Чотче, выражали обиду на весь мир. У Чотче сжалось сердце. Вдруг он вспомнил о том, что натворил в отсутствие Ли-собана. Каких-нибудь четыре-пять дней прошло, а показались они целой вечностью. Мать внесла жаровню. В комнате сделалось теплее. Ли-собан показал на свою потрепанную суму: — Чотче, возьми там хлеб, разморозь. Рот у Чотче наполнился слюной. Он сел на постели. Мать достала из сумы кусочек хлеба, протянула сыну. Тот с жадностью набросился на него. — Осторожней, жуй как следует! — заворчала мать и поднесла кусочки к огню. Старик молча наблюдал за ними. Разные чувства одолевали его. Все-таки он донес этот хлеб! Когда он полз по снегу с драгоценным мешком, привязанным к шее, вконец измученный, еле дыша, он не однажды готов был бросить непосильную ношу, но при мысли о голодных Чотче и его матери приказывал себе донести хлеб любой ценой. И вот он принес его! Надо было видеть, как они едят этот хлеб, склонив головы, сосредоточенно глядя на жаровню! Ради этого стоило испытать то, что испытал он. Ли-собан затаил дыхание и, пожалуй ничего больше не желал в этот миг. Он и умер бы спокойно, если бы знал, что они всегда будут сыты. Ведь теперь ему трудно даже ходить за подаянием. Он по привычке потянулся к костылю, но вспомнил, что его отняли злые ребятишки. — Вот ведь проклятые щенки! И к чему им костыль? — Кто же у тебя его отнял? — Да налетели какие-то чертенята, когда я грелся в крупорушке, схватили его и убежали! Ух, проклятое отродье! — И ты ни одного не поймал? Головы бы им отвернуть за это! — свирепо сверкнул глазами Чотче. Мать укоряюще посмотрела на него. — Эх, оставил бы ты свои замашки! Чуть что — «шею сломаю», «голову отверну»! Что за разговоры такие? — А таких вредных щенят стоило бы проучить! — Ты представляешь, что было бы на свете, если бы каждый делал, что ему захочется? Эх, ты!.. И одновременно оба подумали об одном и том же — о том, что произошло в отсутствие Ли-собана. Чотче опустил голову. Несколько мгновений он задумчиво глядел на жаровню, потом вскинул голову: — Ли-собан, что такое закон? Ли-собан не нашелся что ответить на столь неожиданный вопрос. — Закон? — повторил он. Чотче видел, что Ли-собану не понятен вопрос и следовало бы объяснить ему более толково, но он не находил подходящих слов. — Закон, а что тебе до него? — смущенно переспросил Ли-собан. — Зачем только существует этот закон? — словно ни к кому не обращаясь, сказал Чотче. — Ничего не пойму, скажи толком! — попросила мать. Чотче нахмурился. — Не знаете, так и ладно, — тихонько проговорил он, разгреб угли в жаровне, вытащил кусочек хлеба и принялся есть. Мать выбрала кусочки помягче и подала Ли-собану. — Закон — что же тут непонятного? — проговорил Ли-собан. Чотче живо обернулся. — Тоска смертная! Ну почему, например, если нарушил закон, хватают и тащат в полицейский участок? — Он попытался говорить спокойно, а у самого мурашки бегали по коже. И вдруг он совершенно ясно осознал, что вчера он тоже преступил закон. Сердце его дрогнуло. Он вспомнил, как мать сказала однажды: «С голодухи на что не решишься». Но он ведь тоже сделал это от голода. А оказалось — это преступление. Но если помышляешь только о том, как бы раздобыть еды — хлеба или каши — все равно, лишь бы утолить голод, на любое преступление решишься. Ли-собан смутно слыхал о законе, но внятно растолковать не мог. — Собственно говоря, закон он и есть закон, что тут еще объяснять? С незапамятных времен есть такое, что люди называют законом... — С незапамятных времен?! — Закон-то? Как же! Закон всегда был. Ли-собан сказал, что закон не людьми придуман, а существовал в мире еще до появления человека. Чотче ощутил вдруг такую безысходность, что не выразить словами. Если так — значит, от него не избавиться, не укрыться? Но почему же он, Чотче, не может утерпеть, чтобы не нарушить закон? Да только ли он? А Ли-собан, измученный жизнью, мать, которая делает вид, будто не видит ничего и не слышит, — разве они не соучастники его преступлений? «А что теперь в доме, из которого исчез рис? Заявили, конечно, в полицию о пропаже... Те не знают, где искать. А вдруг полицейский как раз и стоит сейчас за дверями?» — подумал Чотче и покосился на дверь. Он потерял покой. Подует ли ветер — почудится, что идет полицейский, заворочается ли Ли-собан — кажется, будто кто-то открывает дверь; Чотче замирал от страха и устремлял взгляд на дверь. Но наступала ночь, и он опять скрывался из дому. Ли-собан и мать молчали, но, едва начинался день, беспокойство овладевало ими. Когда однажды ночью, как обычно, Чотче вернулся домой, Ли-собан подсел к нему: — Чотче! Уходи из деревни! — Почему? — настороженно спросил тот. — Почему, почему! Надо уходить. Как будто только тут люди живут... Говорят, в Сеуле и Пхеньяне есть заводы. Голытьба, вроде нас с тобой, идет туда, зарабатывает деньги и живет неплохо. Может, и тебе в большой город податься? — Днем приходил полицейский, и Ли-собан боялся, что этой ночью Чотче обязательно схватят. — Я уже калека... Инвалид я, и податься мне некуда, — продолжал Ли-собан, — а будь я таким здоровяком, как ты, разве сидел бы в этой дыре? Чотче чувствовал, старик прав. — А ты верно знаешь? Что эти... как их... заводы есть, верно знаешь? — Откуда же мне верно-то знать?.. Приходили люди из Сеула, Пхеньяна, рассказывали! Они тоже молодыми еще на завод поступили, а состарились — ушли с завода и живут сейчас на то, что заработали. — Коли так, пойду и я, попытаю счастья! — решительно заявил Чотче. Он ощутил, что на мрачном его пути вновь ярко вспыхнула заря. Не захотелось и часу больше оставаться здесь. Он порывисто встал. — Тогда я ухожу, Ли-собан. Попытаюсь добраться либо до Пхеньяна, либо до Сеула! Ли-собан сам посоветовал ему уйти, боясь, как бы его не схватили полицейские, но, когда увидел, что Чотче вот-вот покинет его, затосковал. — Как же это... так сразу и пойдешь? — Пойду! Да... Жаль, я раньше не знал, мучился здесь. — И уже на ходу проговорил: — Счастливо оставаться, Ли-собан! Если будет все хорошо, я заработаю много денег и вернусь... С матерью бы попрощаться, да спит, наверно, не стоит будить... Ли-собан схватил костыль, который сделал ему Чотче, и заковылял за ним следом. — Послушай, я ведь хорошо не знаю, есть там эти заводы или нет. Ты зайди в уездный город, разузнай хорошенько, тогда и ступай. А то вдруг зря проходишь? Чотче шагал вперед, не оглядываясь. Ли-собан изо всех сил спешил за ним. Чотче! Увидит ли он его когда-нибудь? Он хотел хоть руки его коснуться в последний раз. С трудом доковылял он до околицы. Но Чотче уже скрылся из виду. Над вершиной горы выплыл золотой серп молодого месяца.* * *
Утром двадцать пятого декабря бесшумно закружились крупные, мягкие хлопья снега, и все дома в деревне Ёнъён — и высокие, и низкие — покрылись снежинками, словно лепестками цветов. Звонил колокол. Пробиваясь сквозь снежную завесу, звон замирал далеко-далеко. — Слышишь, колокол! — обратилась мать Окчоми к Сонби, помогавшей ей переодеваться, и начала поторапливать ее. Она сбрасывала с себя будничную домашнюю одежду и облачалась в праздничную, шелковую. Юбку она уже надела. Сонби подала кофточку. Мать Окчоми скинула старую, обнажив свои пышные, круглые плечи. — Ты молодец, дитя мое! Догадалась погреть кофточку. Хозяйка была тронута сообразительностью и заботливостью Сонби, заблаговременно согревшей для нее кофточку на теплом полу возле жаровни. Дверь открылась, вошел Токхо. — А вы не собираетесь идти? — спросила мать Окчоми. Токхо уселся на теплом полу и закурил. — Идти, а дела побоку? — Неужто и в такой радостный день нельзя отложить ваши бумаги? Ничего с ними не случится, — ответила она, сдерживая улыбку. С тех пор как Токхо прогнал Каннани, между супругами как будто водворились мир и согласие, во всяком случае, крупных ссор не бывало. — Сегодня, вероятно, будет проводиться сбор пожертвований... Дадим немного? Мать Окчоми, завязав тесемки кофточки, натягивала носки. — Какие еще пожертвования? — проворчал Токхо. — Сегодня для самых бедных... для нищих, одним словом... В общем, устраивается сбор пожертвований в пользу этих несчастных. Дают кто сколько может, а имена тех, кто подаст побольше, записывают особо и вывешивают на стену. Говорят, жертвуют не обязательно только верующие. Находятся желающие подать и из тех, кто просто посмотреть приходит... Вы зайдите и от себя тоже дайте ассигнацию в пять иен... Токхо усмехнулся: — Куда это столько? — Пусть знают! Как же иначе? Я ведь теперь не кто-нибудь, а жена волостного начальника... — Это я все понимаю, конечно, но зачем же так много денег? — Уж как хотите, но сегодня обязательно дайте, — мягко настаивала мать Окчоми. — Моя доля — две иены, да ваша — пять, вместе всего только семь иен! — Она заранее представляла себе, как рядом с именем ее мужа напишут ее имя и вывесят на церковной стене. Токхо бросил окурок в пепельницу. — В самом деле — этак разориться можно! Только и слышишь: деньги на то да деньги на это, и сколько ни старайся, на все не напасешься... Токхо ворчал себе под нос, однако полез в карман за бумажником. Супруга ждала с протянутой рукой. — Ты думаешь, куры, что ли, несут у нас деньги? — буркнул Токхо и, кривя губы, подал бумажку в десять иен. У него была привычка кривить губы, когда он делал что-нибудь хорошее. — Бабка, пойдем скорее! — крикнула хозяйка, пряча деньги в карман. Появилась старуха. Хозяйка оглядела ее и возмутилась: — Неужели ты так собираешься идти? Стыд какой! Сейчас же надень другую кофту. Что это такое? Ведь есть же у тебя, наверно, бумажная кофточка? Сонби незаметно выскользнула и быстро принесла кофту. Старуха берегла ее и ни разу не надевала с самой осени. Сейчас она торопливо натянула на себя новую кофточку, подхватила хозяйкину подушечку для сидения, платок с книгами и даже мешочек для обуви и вышла. — Так я пойду, а вы непременно приходите следом, — повернувшись к Токхо, проговорила мать Окчоми и пристально посмотрела на него в ожидании ответа, без чего, очевидно, не решалась уйти. — Ладно, — ухмыльнулся Токхо, — дела покажут! Может, приду, а скорей всего, нет... Уж больно не люблю я смотреть на этих молельщиков в христианской церкви. Потеха одна: глаза закатят... Не желая дальше слушать эти кощунственные слова, мать Окчоми повернулась и ушла. «А что, если и мне пойти посмотреть?» — подумала Сонби и стала собираться и складывать разбросанную хозяйкой одежду. — Ты подумала о том, что я тебе говорил раньше? — спросил Токхо, внимательно наблюдая за ее ловкими, проворными движениями. Сонби удивленно глянула на него и опустила глаза. После того памятного вечера, когда он пообещал послать ее учиться, Токхо ни разу больше не заговаривал с ней об этом. И Сонби решила, что он тогда спьяна наговорил, а потом забыл о своем обещании. — Я все собирался тебя спросить, Сонби, да за делами как-то забывал! Хо-хо! Хотя все равно зимой никуда не поступить. А весной поедешь в Сеул, так, что ли? Сонби! Слова его были мягки, а голос ласковый. Ей чудились в них родительская забота и ласка, которых она так давно была лишена. От нахлынувших чувств Сонби вся зарумянилась. — По нынешним временам неграмотная и замуж хорошо не выйдет. Я же тебя, почитай, вырастил, ты в доме свой человек. Так что если тебе чего-нибудь хочется, скажи. Чем смогу, помогу. Дочь-то выросла, а других детишек у меня нету... — Токхо постоянно сетовал на то, что нет при нем детей и внуков. Так, вроде бы невзначай. — Ну, что же ты молчишь? — Токхо подсел к Сонби и погладил ее по голове. Она чуть отстранилась. — Неужели ты не хочешь поехать учиться? — допытывался Токхо и, нагнувшись, заглянул ей в лицо. В сильном смущении она медленно поднялась. — Что же ты не отвечаешь? Хо-хо! Я-то ее за родную дочь считаю... Неужели это так трудно решить, а? Сонби! Присядь-ка вот, и потолкуем... Сонби хотя и сама не знала, зачем поднялась, но садиться снова не хотелось и уйти тоже нельзя. Она была сама не своя. Токхо глянул на часы и вскочил. — Спрошу еще после... А ты подумай и ответь. Эка трудность! Ведь ты у нас как дитя у своих родителей, так чего же дичиться-то, эх, ты! — Токхо погладил ее пылающие щеки. Она отшатнулась. — Ну, меня государственные дела ждут! — С этими словами Токхо открыл дверь и удалился. Когда его шаги послышались уже за воротами, Сонби с облегчением вздохнула всей грудью и стала обеими руками тереть лицо. Она снова ясно ощутила прикосновение руки Токхо. «Неужели он в самом деле хочет послать меня учиться? — Сонби в задумчивости села. — «Я поеду в Сеул!» Так? Нет, лучше: «Пошлите меня учиться!» Нет, нет. «Отец, пошлите меня учиться!» — только так!» Ей очень хочется учиться в городе. Но она должна будет назвать Токхо отцом, а этого слова давно-давно уже не произносили ее губы. Было отчего-то и неловко, и любопытно. «Но почему же он не говорит об этом при матери Окчоми?» — невольно возник у нее вопрос. Если называть Токхо отцом, значит, надо и хозяйку называть матерью. Но уж ей-то она не могла бы искренне, от всего сердца, не колеблясь, сказать «мама». Покойная мать живо представилась ее воображению, и невыразимая печаль и нежность охватили ее. Может быть, Токхо не заводит об этом речь при матери Окчоми потому, что знает заранее, как ей это не понравится? Но, предположив такое, она почувствовала легкое раздражение против Токхо. Мыслимое ли дело — держать такое в тайне от хозяйки! «Должно быть, он все-таки скажет ей, что пошлет меня в город? Если не заранее, то хоть накануне: завтра, например, день отъезда в Сеул, а ночью он сообщит ей?» — терялась в догадках Сонби, а сама уже ясно видела изумленные глаза и гневно сдвинутые брови хозяйки. «Может быть, и правильно скрыть это от нее? — подумала Сонби и покосилась на дверь. — Кто знает, что бы получилось, если бы отец давно сказал ей, что собирается послать меня учиться...» Ей казалось, что и остается-то она в этом доме до сих пор лишь благодаря заступничеству Токхо, и Токхо обязательно позаботится о ее будущем. С малых лет привыкла она называть его хозяином большого дома, потому что мать, указывая на Токхо, говорила: «Это хозяин большого дома», или: «Господин большого дома». А с сегодняшнего утра вдруг — отец! Она решила набраться смелости и впредь обязательно называть его отцом. Заскрипели ворота. Сонби быстро осушила слезы и выглянула в окно: Ю-собан несет соломенные туфли. Сонби вышла за дверь. Ю-собан смущенно улыбнулся: — Вот, примерь-ка! Сонби вся просияла и взяла туфли. Только вчера Ю-собан снял ниткой мерку с ее ноги, а сегодня уже обувь готова. — Примерь скорей. Если не подходят, сплету другие. — Ю-собан... — Сонби глянула на Ю-собана: она стеснялась примерять сейчас. — Да примеряй же... — Там примерю, — сказала она, юркнула в комнату и выглянула в окно. Ю-собан смеялся, глядя на разыгравшегося и скачущего по снегу Черныша. То ли радуясь веселому настроению Ю-собана, то ли просто тому, что идет снег, Черныш тыкался в свежий наст мордой, сгребал снег лапой, и скакал, и прыгал, и катался. Ю-собан хохотал от души и восклицаниями поощрял резвившегося пса: — Хорошо играешь! Ха-ха... Молодчина, ха-ха! Этот Черныш для Ю-собана был единственным другом. Да и для Сонби тоже. Черныш всегда бегал по пятам за Ю-собаном, Сонби и старухой. Очевидно, потому, что только они кормили его. Насмеявшись вдоволь, Ю-собан обернулся. — Подходят? Сонби посмотрела на лежавшие рядом туфли. — Да, спасибо! Ю-собан, видимо довольный таким ответом, направился к средним воротам. Черныш, взрыхляя ослепительно белый снег, бросился за ним. Сонби перевела глаза на туфли. Примерила — в самый раз. «Ах, как красиво сплел!» — любовалась она своими ножками. Она была бесконечно благодарна Ю-собану за его работу. Сплел ей такую хорошую обувь. А кто же потом будет плести ей туфли? И почему-то вспомнился Чотче. «Он куда-то ушел...» — подумала она с грустью. Как жаль, что перед его уходом не удалось хоть разочек взглянуть на него.* * *
В эту ночь все домочадцы из дома Токхо ушли в церковь. Сказали, что сегодня состоится какой-то интересный детский праздник, поэтому ушли все, даже Ю-собан и Токхо. Одиноко сидя в громадной комнате, Сонби трепала хлопок и все думала, думала. До неожиданного разговора с Токхо и она собиралась вечером в церковь, но потом раздумала, и ей захотелось побыть одной и помечтать о будущем. Поэтому она добровольно вызвалась домовничать вместо старухи, хотя мать Окчоми и звала ее с собой. Всякий раз, когда Сонби думала о школе, ей прежде всего представлялось, как она научится вышивать. Мечты ее не шли дальше того, что она наблюдала. Наверно, и ей, подобно Окчоми, придется пудриться, мазаться, красить губы и одеваться по-европейски; даже с мужчинами ходить без стеснения вместе, есть то же, что и она, учиться тому же... При мысли об этом она испытывала смущение, неловкость, но и какую-то радость. И все это кружилось в ее голове под аккомпанемент лопающихся коробочек. Тихонько отворилась дверь. В спину Сонби пахнуло холодом. Она испуганно встрепенулась. «Кто это?» — крикнула она и оглянулась: перед ней стоял Токхо. Краска залила лицо Сонби, выдавая ее смущение. — Испугалась? Токхо стряхнул снег, сел на теплый пол и погладил бороду. — Не на что там смотреть! И чего всякого сброду набралось! Не праздник, а тоска, да и только! Сонби, подхватив свою работу, встала. — Ну чего... чего... поднялась? — Пойду трепать в другую комнату. — Чего там, работай здесь... Не уходи, мне надо тебе кое-что сказать. Сонби поставила станок и села. «Может быть, об учебе в городе спросить хочет?» — подумала она. — Да брось ты цепляться за этот станок! Иди-ка сюда, ну? Но Сонби казалось, что если она оторвется от станка, то потеряет равновесие. Потому и не выпускала его из рук. Токхо придвинулся. — Ты в самом деле хочешь учиться? Сонби стало как-то не по себе, она не могла собраться с мыслями и молчала. — Ну, что не отвечаешь, детка? Когда старшие спрашивают, отвечать надо сразу.... — Он захихикал. Сонби через силу улыбнулась и опустила голову. Сердце ее испуганно заколотилось. — Так не поедешь, что ли? Токхо понемногу, будто невзначай, подвигался ближе. — Буду учиться... — прошептала Сонби, не отводя глаз от станка. Она хотела добавить «отец», но слово, которое она целый день повторяла, замерло на устах, едва она глянула на Токхо. Тот усмехнулся. Щеки ее, наполовину скрытые станком, пылали. Токхо совсем распалился. Он придвинулся к ней вплотную и как-то судорожно схватил за руки, а когда она попыталась встать, торопливо сказал: — Сиди спокойно! Тебя будто за веревочку дергают! Руки его так и горели. В лицо Сонби пахнуло сильным запахом здорового мужчины, смешанным с легким запахом вина. Она совсем растерялась, задрожала. Слезы подступили к глазам. — Пустите! Но желтая, будто старая тыква, жирная щека Токхо уже прильнула к ее щеке. — Будешьпослушной, не только учиться отпущу, а все, что ни пожелаешь, все исполню! Сонби отвернула лицо. — Отец, перестаньте! — Хо-хо-хо-хо... Отец! Отец! Милая ты моя, коли зовешь отцом, чего же боишься? Ах, какая же ты... — бормотал он, крепко обнимая дрожавшую девушку. Он был чуть-чуть под хмельком, но ей казалось, что он совсем пьяный. — Отец, вы же пьяны! — А? Да, пьян! От тебя пьян! Тяжело дыша, Токхо все крепче и крепче прижимал к себе Сонби, а она, извиваясь, вырывалась из его объятий, отталкивала его руками, упиралась ногами... Он отшвырнул ногой станок, обхватил и опрокинул ее навзничь. — Отец, отец, я ошиблась, как я ошиблась! — рыдая, твердила она. И вдруг, отчаявшись, изо всех сил оттолкнула Токхо. — Не утихнешь ты? Не сделаешь, как я хочу, убирайся отсюда, сейчас убирайся! — орал Токхо, свирепо выкатывая налитые кровью глаза. Казалось, он готов был убить ее. И это Токхо, которому еще днем она так верила, в ком искала опору! Надеялась, что он заменит ей покойных отца и мать, поможет в будущем. Не прошло и часу, а он превратился в дикого зверя. Даже в страшном сне она его не видела таким! С отвращением Сонби закрыла глаза. Тихо доносился церковный звон...* * *
Вернувшись поздно вечером, Синчхоль тихонько открыл дверь и вошел в дом. За дверью своей комнаты он услыхал шепот и остановился. — А что... у Синчхоля, видно, есть возлюбленная? — донесся до него голос Окчоми. — Ну что вы, возлюбленная у такого ребенка! — отвечала мачеха, словно бы оправдываясь в чем-то. Кашлянул отец. Украдкой заглянув на женскую половину, Синчхоль снял ботинки и распахнул дверь своей комнаты. Дамы изумленно раскрыли глаза. Синчхоль вдруг обнаружил, что Окчоми похожа на его мачеху. — О, как вы бесшумно подкрадываетесь! Синчхоль с улыбкой посмотрел на Окчоми. — К нам пожаловали?.. — Он снял пальто и повесил. — Куда это вы ходили? Наверно... И Окчоми многозначительно усмехнулась. Мачеха подхватила усмешку. — Окчоми с самых сумерек тебя дожидается. — Вот как? Прошу прощенья! — Синчхоль сел на прохладный пол. — А у нас довольно свежо. Он пересел на циновку, предложенную мачехой. Окчоми посмотрела на покрасневший кончик носа Синчхоля. — Из дому письмо пришло. — Письмо?.. — В нем вспыхнуло любопытство: «Уж не пишут ли они, что собираются прислать Сонби?» — Все ли дома в порядке? — Да... пишут, что хотят весной прислать Сонби. У Синчхоля защемило в груди. — Конечно, поступит здесь в школу. Мачеха сказала: — Пойду пройдусь. Окчоми вскочила: — Всего доброго... Заметив, что мачеха Синчхоля прошла по двору, Окчоми вздохнула и задумчиво уставилась на электрическую лампу. Вдалеке слышались гудки такси и какой-то неприятно высокий металлический звук. — Куда вы все ходите? Видно, зазноба есть? — Девушка в упор посмотрела на Синчхоля. Расправляя складки брюк, он спокойно стряхивал пылинки. — Простите, вы меня спросили о чем-то? — Притворяясь, будто только что очнулся от раздумья, Синчхоль повернул к ней голову. — Ой, умрешь с вами!.. Разве я не понятно говорю? Почему каждый раз, когда... — В глазах ее блеснули слезы. Каждый вечер ходила она вокруг этого дома в надежде увидать Синчхоля. Ей хотелось высказать ему все, что у нее на сердце. Но, пожалуй, лучше все же молчать. Она поднялась. — Я ухожу! — Окчоми капризно склонила голову набок. — Уходите?.. Одна? — Синчхоль глядел на нее с улыбкой. — Неужели не дойду! Она повязала шарф, натянула перчатки. Она задыхалась, боясь, что вот-вот расплачется. — Посидите еще немного, а потом я провожу вас до дома, — предложил Синчхоль. Едва она собралась уходить, комната сразу показалась ему пустой и неуютной. — Правда? — с радостью и недоверием спросила Окчоми. Это «провожу» давало надежду. Быть может, разрешатся наконец все ее сомнения. — Честное слово! Окчоми на минуту задумалась. — Учитель увидит меня, неудобно. — Она бросила взгляд в сторону двери. — Пойдемте к нам, тогда я зайду в магазин, куплю что-нибудь. — Она стояла, склонив голову, и просила настойчиво, словно ребенок. Синчхоль поднялся, надел пальто, и они вышли. Оказавшись за воротами, Синчхоль и Окчоми зашагали в ногу. На улице не было ни автобусов, ни такси, и только ярко светил уличный фонарь, словно бы охраняя переулок. Они шли медленно, длинные тени тянулись за ними по тротуару. Пронизывающий зимний ветер трепал одежду. Некоторое время они оба молчали. Окчоми покосилась на спутника. — Сколько раз ходила я этой дорогой одна, не знаю... — проговорила она, глядя на возвышавшийся впереди перевал Паксок, и вздохнула. — Той... Сонби сколько лет? — спросил Синчхоль. — Восемнадцать, наверно. А почему вы спрашиваете? — Нужно знать. — Нужно?.. Зачем нужно? — Окчоми пристально посмотрела на Синчхоля. «Уж не потому ли спрашивает, что не может забыть Сонби?» — Зачем все-таки, скажите? — Да так, если она приедет весной, если собирается поступать в школу, надо же знать возраст, — отвернулся Синчхоль. — Ай, право... А я... «зачем»! Ха-ха... — засмеялась Окчоми. Рассмеялся и Синчхоль. — Если много лет, то в начальную школу не примут, придется устраивать в какое-нибудь специальное училище. — Конечно... Захочет, подучится немного и станет гейшей, к примеру. А еще лучше, как вы тогда советовали, если она какое-то время будет помогать мне по хозяйству, ознакомится с городом, а там, если хороший человек найдется, выдадим замуж. Жалко ведь оставлять девушку с такой внешностью в захолустье. Окчоми представила себе Сонби: да, в такой дыре быстро потускнеешь... — Это правда, что ваш двоюродный брат, о котором мы тогда говорили, собирается жениться на провинциалке? — Да! Этот мальчик и сам учился не слишком усердно... поэтому и в жены хочет взять простую деревенскую девушку. — Правильно, с неровней ладу не будет. Ну что ж, как-нибудь привезем ее в город, отдадим на некоторое время в школу, а выучится грамоте — отдадим ему. — Ну... это уже второстепенный вопрос... Вообще надо их познакомить, верно? Если придутся по душе друг другу, все в порядке, — весело промолвил Синчхоль. — Вот именно! — развеселилась и Окчоми. — Они должны понравиться друг другу — это главное. Говоря так, Окчоми теснее прижалась к нему. «А что, если я спрошу у него сейчас, скоро ли наша свадьба?» Незаметно и перевал Паксок остался у них за спиною. Вдруг ветер из рощи, темнеющей перед школьной больницей, привеял к ним слабый запах лекарств. Отчетливо проступили при ярких звездах очертания деревьев вдоль развалин старинной стены, свидетельницы пяти веков династии Ли[47]. — Послушайте, я вовсе не хочу проходить здесь одна, — заявила вдруг Окчоми. — Не хотите?.. Так не ходите! — Ой, умру! — Окчоми потянула Синчхоля за рукав. В этом страшном месте так хорошо было бы ощутить тепло мужской руки. Но Синчхоль казался совершенно бесчувственным. «Да мужчина ли он?» — возникло у нее подозрение. Тем временем они подошли к ее квартире. Синчхоль остановился. — Входите, вот ваш дом. Окчоми преградила ему дорогу. — Войдем вместе. «Ого! Да она так и пылает», — усмехнулся он про себя. — Поздно уже... Идите спать... Ведь в школу надо... — Высплюсь... — Окчоми чуть не обнимала его. Синчхолю это было скорее приятно, но это считалось неприличным. Как раз сегодня на лекции шла дискуссия по поводу отношений с женщинами. — Лучше я завтра опять приду. — Ну да, придете! Неправда ведь... Зайдите сейчас. — Окчоми потянула его за руку. Синчхоль колебался...* * *
Несколько дней спустя отец за ужином сурово спросил Синчхоля: — Это ты из читальни всегда так поздно возвращаешься? — Судя по всему, он полагал, что Синчхоль усердно готовится к экзаменам на высшего гражданского чиновника. — Конечно! — ответил Синчхоль, обнимая Ёнчхоля — своего младшего брата. А тот не мог усидеть на месте. — Дай конфету, — просил он, заглядывая брату в глаза. Синчхоль пошарил в кармане. — Забыл купить, завтра куплю... Ладно? — Опять обманешь, братец? Только все обещаешь! — Этот малыш целыми днями скучает дома один... со мной только... Мачеха ласково посмотрела на Ёнчхоля. — Завтра непременно куплю и принесу, — подтвердил Синчхоль. Малыш устремил на него свои темные глаза. Пожилая служанка принесла жаровню и поставила перед Синчхолем. Красноватые отсветы легли на его лицо, стал заметным пробивающийся пушок. Видя, что отец не принимается без него за еду, Синчхоль сел за стол. В нос ударил острый запах испанского перца. Покончив с ужином, Синчхоль встал. — Посиди немного, — сказал отец, запивая ужин рисовым отваром. «О чем он хочет говорить?» — заинтересовался Синчхоль и глянул на мачеху, стараясь по ее лицу догадаться, о чем будет речь. Мачеха ответила улыбкой. Отец отодвинул столик. — Пора тебе жениться... — без предисловий начал он и в упор поглядел на Синчхоля. У того дрогнуло сердце, в глазах мелькнуло смущение. Он опустил голову. — Тебе уже двадцать пять... Вот-вот закончишь учебу. Так что в самый раз жениться... Может быть, у тебя есть какая-нибудь девушка на примете? «Что ему далась моя женитьба?» — недоумевал Синчхоль. — Я как-то еще не задумывался о женитьбе, — ответил он. — А что ты думаешь об Окчоми? Она частенько приходит сюда. Синчхоль слегка поморщился, в который раз представляя недавнюю ночную сцену, когда он безжалостно отверг Окчоми, всеми способами старавшуюся удержать его, и ушел. Отец закурил сигарету. — Что ж, возможно, она как единственная дочка немного и избалована, но, на мой взгляд, сердце у нее доброе. Как ты считаешь? — Отец... я пока не хочу жениться, — объявил Синчхоль и встал. — Сиди спокойно... — многозначительно произнес отец. — Ты знаешь, что приехал отец Окчоми? Синчхоль опешил. — Не знаю. Когда? — Да только что был у нас. Говорит, сегодня приехал дневным поездом. Послушай-ка, ты что ж это, летом надоедал им там, а приехал он в город — и знаться не хочешь! Сходи к ним... Синчхоль сразу понял, что между Токхо и его отцом произошел серьезный разговор, и еще больше помрачнел. И в то же время у него стало радостно на сердце при мысли, что Токхо, быть может, привез Сонби. — Ладно, схожу, — отрывисто проговорил Синчхоль и вышел. — Купи конфетку, — приоткрыв дверь, выкрикнул Ёнчхоль. На полу легла полоска света и обозначилась круглая тень от головы брата. Синчхоль надевал ботинки. — Принесешь? — Обязательно принесу! — Купи каких-нибудь гостинцев для Окчоми, — сказал отец. Если б Синчхоль знал наверное, что Сонби здесь, он накупил бы чего угодно. Но сейчас, когда он не был в этом уверен, ему не хотелось идти туда с подарками. Он проверил, в кармане ли бумажник, и вышел. Сверкая красными и зелеными огнями, с шумом проносились автобусы. Мелькали знакомые лица кондукторов. Он хотел было сесть в автобус, но раздумал. «А ну его. Дойду потихоньку пешком», — решил он и зашагал по улице. Такси, автобусы мчались, обгоняя друг друга. Синчхоля обдавало клубами дыма и едким запахом бензина. Синчхоль шел не спеша и мысленно представлял себе Сонби и Окчоми. «А может быть, и в самом деле лучше мне теперь жениться? Обзавестись своим домом?» — размышлял он, припоминая доводы отца. Но по мере того как он приближался к дому Окчоми, вопрос о женитьбе, возникший перед ним впервые, отодвигался на задний план, а другой начинал волновать все сильнее: «А что, если Сонби приехала?» Он даже остановился при этой мысли. Сколько раз он уговаривал Окчоми привезти Сонби в Сеул, а теперь, ожидая увидеть ее, не знал, что предпринять. — Неужто Синчхоль! — кто-то хлопнул его по плечу, и Синчхоль удивленно оглянулся. Это был Инхо — однокурсник по университету. Он стоял в плотно надвинутом четырехугольном кепи и в очках, с неизменной сигаретой во рту. — Куда идешь? — полюбопытствовал он. — Я? Да решил повидаться кой с кем. — Кой с кем? Не иначе как к милой идешь! — И он блеснул очками. — Разумеется... — рассмеялся Синчхоль и двинулся дальше. Инхо последовал за ним. — На днях в кафе «Тариа» появилась красотка из провинции... Не хочешь ли зайти посмотреть? — Красотка из провинции... — пробормотал Синчхоль, представляя себе личико Сонби. Резкий запах табака раздражал его. Он оглянулся. Ну, конечно, Инхо курил неизменные сигареты «Пудо». — Так куда же ты все-таки? Скажи честно. — По отцовскому поручению иду, — придумал Синчхоль, чтобы отвязаться от Инхо, а рассудив про себя, решил, что так оно, пожалуй, и есть. — Поручение?.. — недоверчиво посмотрел на него Инхо. — Эх, эх!.. Шутить изволите, молодой человек. Вечно ты что-нибудь выдумаешь, криводушный... Тут Синчхоль уловил иной — легкий — табачный запах и увидал переходящего на другую сторону торговца печеными каштанами. — Ну, до завтра! Они обменялись рукопожатиями. Инхо швырнул недокуренную сигарету. Поглядев вслед устремившемуся к трамваю на Ёнсан приятелю, Синчхоль подумал: «Этот шалопай, как всегда, в кафе направился!... Красотка из провинции...» У дверей квартиры Окчоми он некоторое время собирался с духом, прежде чем войти. Успокоив бьющееся сердце, кашлянул. Раздались шаги. — Кто там? — выглянула Окчоми. Синчхоль вытянулся перед дверью. — Я. — О, Синчхоль! Узнали, что отец приехал? А он к вам пошел. — К нам пошел?.. Я его не встретил. — Ну, конечно, вы разминулись! Проходите, пожалуйста. Синчхоль вспыхнул, представив себе, что в комнате сидит Сонби. Снимая ботинки, он незаметно заглянул туда — никого. — Проходите, пожалуйста. Синчхоль стоял в нерешительности. Он словно только теперь увидел Окчоми. Ему хотелось лишь одного — уйти. Окчоми, с нежной улыбкой смотревшая на него, вызывала в нем досаду. Он насильно заставил себя переступить через порог. В комнате носился легкий запах лекарства, на утепленной части пола была разложена постель, с которой, по-видимому, только что встала Окчоми. Она подошла к зеркалу. — Я не умылась еще, сама себе противна! — проговорила она, приглаживая волосы, и потупилась. Синчхолю живо вспомнился потупленный взор Сонби, когда мать Окчоми ругала ее. «Ясно, что Сонби не привезли», — думал он, обводя взглядом комнату. — Я ведь болею до сих пор. — Что с вами? Окчоми покраснела. — С той ночи... Синчхоль улыбнулся. Но тут же вспомнил о разговоре Токхо с его отцом насчет женитьбы, и улыбка улетучилась. — Так отец прибыл один! Почему мать Окчоми не приехала с ним? — спросил он. Синчхоль видел, что Сонби нет, и все же не мог удержаться, чтобы не спросить хотя бы в такой форме. — Да... ведь я приглашала и маму. Никаких сомнений больше: Сонби не приехала. Синчхолю показалось даже, что сразу потускнел свет электрической лампочки. — Я уж думала, вы больше никогда не придете. Думала, так и умру, не повидавшись больше с Синчхолем... Окчоми вдруг опустила голову и заплакала. Синчхоль глядел на слезы, бегущие по ее зардевшимся щекам, и мрачнел все больше. «Не хватает еще мне зареветь... А может, помогло бы». И сейчас же подумал: «А может быть, она догадывается о моей любви к Сонби?» Он вспомнил, как отец спросил, есть ли у него девушка по сердцу. Словно очнувшись от забытья, Окчоми открыла корзину, стала вынимать яблоки, груши, хурму, каштаны, хлеб. — Кушайте... Это все папа привез... Он и вашим захватил в подарок. И она улыбнулась заплаканными глазами. Синчхоль задумчиво посмотрел не нее: — Значит, устроим маленький пир? — Что вы?! Просто скромное угощение! — говорила Окчоми, глядя на Синчхоля, а с губ ее готовы были сорваться слова: «Вот на нашей свадьбе попировали бы!» — Выбирайте, что хотите. Это? Это? — предлагала Окчоми, указывая пальцем то на одно, то на другое. Но Синчхолю ничего не хотелось. Он словно бы лишился чего-то, какой-то привычной и необходимой ему вещи. У него было такое ощущение, будто его здорово провели. — Может быть, это отведаете? — Окчоми вынула из письменного стола шоколад и аккуратно развернула плитку. — Ну-ка, откройте рот, а я отсюда брошу вам, — игривым тоном приказала Окчоми. — Дайте-ка сюда, — криво усмехнулся Синчхоль и протянул руку. Окчоми с укоризной исподлобья посмотрела на него и подала шоколад. Только что Синчхоль собрался разломить плитку, как послышались шаги. Он отложил шоколад. — Отец, должно быть, — пробормотала Окчоми. Дверь открылась, вошел Токхо. Синчхоль поднялся, склонив голову. — А, молодой человек! Вон вы где... А я к вам ходил... Ну, как занятия, успешно?.. Токхо снял пальто. Мельком взглянув на дочь, снова обратился к Синчхолю, собрав морщинки у глаз: — Дочка-то вот написала, что заболела, — пришлось мне бросить все дела и приехать... Эй, ложись сейчас же! — прикрикнул он на дочь. — Только что, казалось, вот-вот умрет, а теперь, посмотрите, сидит как ни в чем не бывало. Токхо прекрасно видел, что болезнь дочери не столь серьезна, однако не менее очевидным было для него и то, что необходимо как можно скорее решить с Синчхолем вопрос о женитьбе. — Так вы, кажется, кончаете в этом году? — Да. — А... позвольте нескромно полюбопытствовать... Я слышал, вы после окончания собираетесь еще какие-то экзамены сдавать?.. Синчхоль догадался, что у него был об этом разговор с отцом, и смутился. — Видите ли... еще ничего определенного. — Мм... во всяком случае, желаю успеха. Я тороплюсь и завтра уже уезжаю... Душа болит, я ведь все дела бросил... Синчхоль вспомнил, что отец Окчоми занимает теперь почетную должность начальника волостной канцелярии. Окчоми как-то сообщила ему эту новость. «И даже носит дорогой европейский костюм», — отметил он про себя. — Ну, а ты что будешь делать? — обратился Токхо к Окчоми. — Не так уж ты больна, как я погляжу... Может быть, поедем домой? Или здесь как-нибудь вылечишься? Говори прямо. Окчоми раздумывала, глядя вверх своими большими глазами. — Не съездить ли нам в деревню? — вопросительно глянула она на Синчхоля. «А что, если съездить?» — И Синчхоль подумал о Сонби. Но в тот же миг он осознал, какой бы это было оплошностью с его стороны. Ведь если он поедет теперь, не избежать ему женитьбы на Окчоми. — Ну я-то зачем же? Я уже достаточно обеспокоил вашу семью в прошлый раз, когда случайно встретил Окчоми по дороге в Монгымпхо... Токхо вслушивался в слова Синчхоля не без некоторой тревоги. Они тогда не сомневались, что молодые люди договорились обо всем, и сквозь пальцы смотрели на то, что они частенько оставались одни. Услышанное сейчас, похоже, опровергало их предположения. Но ведь решили же они сегодня с отцом Синчхоля: быть свадьбе. Поэтому он быстро успокоился. — Что ж, теперь и время неподходящее для поездки... Вот весной закончите учебу да потеплее станет... И девочка наша поправится. Вместе и приедете... Наши-то вас даже больше хотят видеть, чем ее. — Ну что вы... — Синчхоль сидел, понурив голову, сложив на коленях свои большие руки. У Окчоми бешено заколотилось сердце. Как хотелось ей жадно схватить эти руки, прижаться к мужественному, но такому грустному сейчас лицу! Не будь здесь отца, она бросилась бы к нему. Токхо внимательно разглядывал Синчхоля, и ему казалось — он не знал, почему именно, — что Синчхоль и Окчоми весьма подходят друг другу. «Достойный зять», — подумал он. Если верить словам Окчоми, то Синчхоль любит ее и лишь из-за чрезмерной деликатности и стеснительности до сих пор не открылся ей. Но тут что-то не то. Вот и сейчас: почему он выглядит таким подавленным и словно воды в рот набрал? А может быть, не в этом дело? Возможно, их отношения зашли слишком далеко и теперь они уже надоели друг другу? Во всяком случае, из этих двух предположений верным может быть только одно. Тревога все сильнее овладевала Токхо, и он подумал, что если они на этот раз официально не решат вопроса о браке, то он никогда не состоится. — Вы, очевидно, успели уже немного осмотреть город? — прервал затянувшееся молчание Синчхоль. — Хотели мы с вашим отцом погулять несколько деньков... Да обстоятельства-то таковы... Без меня волостные дела прахом пойдут. Так-то. Синчхолю пришли на ум слова, только что услышанные от Инхо: «Ты подыспортился, от тебя уже душок пошел!» Он усмехнулся про себя и встал: — Мы, наверное, еще увидимся...* * *
Пообедав в столовой, Синчхоль опять вошел в читальню и обвел ее взглядом — народу за это время как будто поубавилось. «Мне, что ли, тоже куда-нибудь махнуть?» — подумал он, достал из кармана часы и посмотрел: десять минут седьмого... Он опустился на стул и вдруг почувствовал, что не может больше сидеть — все болит. Целый день просидел он в читальне, даже на лекцию не пошел. Он встал, потянулся и снова сел. Достал из портфеля книгу, раскрыл, но голова, полная разноречивых мыслей, отказывалась что-либо воспринимать. Утром, перед уходом в университет, отец сказал ему: «Сегодня приходи немного пораньше...» Синчхоля передернуло. Дело ясное — они ждут его ответа. Видно, вчера вечером Токхо с отцом все обсудили и сегодня решили поднажать на него и потребовать определенного ответа. «Какая бесцеремонность...» — проворчал он, обхватив голову руками. Отец и разговаривать не хочет. Окчоми, мол, единственная дочка из богатого дома, чего тут еще колебаться. Деньги! Деньги! Из-за этих денег родной отец потерял голову и, кажется, готов загубить жизнь собственного сына. Синчхоль закрыл глаза и представил себе Окчоми, потом Сонби. «Ведь я же люблю Сонби!» Но едва он подумал о женитьбе на Сонби, душа его запротестовала. Почему — он и сам не знал. Тогда почему же он не может забыть ее? Это непостижимо! Ну, красивая, ну, трудолюбивая, скромная, но... и только! Ведь, прожив два месяца в одном доме, они даже и словечком не перекинулись! Конечно, если бы Сонби столь же ясно, как Окчоми, выказывала ему свою любовь, он, пожалуй, не смог бы так упорно сопротивляться ей. Однако и на Сонби он женился бы только при условии вынужденного выбора. Если он сейчас вернется домой, отец примется упрекать его за опоздание. Снова с ним заговорят о женитьбе! Интересно, уехал Токхо или еще здесь? Печальнее всего то, что если он откажется от брака с Окчоми, то отрежет себе все пути для встречи с Сонби. Вызвать же ее в Сеул до возникновения всех этих вопросов не удалось. Пройдет зима, а весной ее, может быть, выдадут замуж, и не узнаешь... Синчхоль машинально захлопнул книгу, в раздумье уставился на лампу. Внезапно он услышал какое-то бормотанье. Сокурсник его, по имени Пенсик, прижав к груди «Свод шести законов» и закрыв глаза, зубрил: «Статья сто тридцать первая...» Лицо Пенсика лихорадочно горело, как у чахоточного, необычно выпуклый лоб при свете электрической лампы казался еще более выпуклым. На губах его блуждала бессмысленная улыбка. Синчхолю внезапно опротивел читальный зал. Он схватил портфель и направился к выходу.* * *
Когда Синчхоль добрел до ворот, из читальни послышался звонок, возвещавший о ее закрытии. «Уже девять часов!» — отметил он про себя. Подойдя к своему дому, Синчхоль не услышал обычного покашливания отца. — Синчхоль? — Его словно хлестнули по затылку, когда он открывал дверь в свою комнату. — Да. — Почему ты явился так поздно? Разве я не велел тебе прийти пораньше? Живее ужинай! Синчхоль молча положил портфель на письменный стол, вынул из него книги, разложил по порядку. Сердце учащенно билось. Он прибрал на столе, вытер тряпкой пыль и прислушался: не позовет ли снова отец? В комнату заглянула мачеха. — Иди же скорее ужинать. — Я поел. — Где? — Да... у одного товарища. Мачеха пытливо посмотрела на него. — Почему ты не пришел пораньше? — А что, разве дело было? Мачеха улыбнулась и подсела к нему. — Твой отец и отец Окчоми тебя ждали. Наверно, хотели окончательно решить вопрос о женитьбе... Неужели ты так богат, что больше ничего тебе и не нужно? Синчхоль молча слушал ее. Он не мог вымолвить ни слова. — Решай сегодня же вечером, ладно? Сам подумай: разве есть люди без недостатков? Отцу девушка по душе пришлась... А ты кто такой? — Какой? — Иди скорее к отцу, сейчас, наверно, отец Окчоми снова придет, и, возможно... — Разве он не уехал? — Из-за этого, видно, и не уехал. Собирался вечером уехать, да целый день тебя прождал. Синчхоль усмехнулся. — Синчхоль!.. — позвал отец. Синчхоль помешкал с минуту, затем вскочил. — Послушай, отец сердит, — предупредила его мачеха, — не тяни с ответом... Он вошел в комнату. Отец снял очки. — Ну, ужинай. — И взглядом велел жене накрыть стол. — Я уже поужинал... у товарища был. — Гм... Отец, глядя на поникшую фигуру сына, некоторое время о чем-то раздумывал. — Ты, вероятно, особых возражений против брака с Окчоми не имеешь? Синчхоль вскинул голову. — Не хочу я жениться! — Почему? — При столь категоричном ответе лицо отца вытянулось. — Особо глубоких причин нет, просто не хочу. — Синчхоль снова опустил голову. Отец придвинулся к нему. — Не желаешь, не имея причин? Может быть, есть другая девушка, которая тебе нравится? Перед Синчхолем возникло видение — Сонби! — и сейчас же померкло. — Нет! — В таком случае решено! О чем тут еще толковать? Отец говорил, словно приказывал. Он знал характер сына и привык к тому, что тот всегда подчиняется ему, если даже в душе и не вполне с ним согласен. Но Синчхоля поражало поведение отца. Не настолько же он невежествен, чтобы, решая вопрос, касающийся всей жизни, пренебрегать мнением того, о ком идет речь. — Сейчас придет отец Окчоми, так ты не ломайся, соглашайся с охотой... Подумай, можно ли пренебрегать таким счастьем? Я знаю, ты сейчас упрямишься из-за пустой фантазии, а это уже вышло из моды. И у меня в свое время голова от фантазий распухала, да скоро до тюрьмы дофантазировался... Теперь я от таких соблазнов держусь подальше. Представь себе, если теперь мне придется уйти со службы, на что мы жить будем? Весной ты выдержишь, надо надеяться, экзамен на советника, и можно быть совершенно спокойным. При соответствующей помощи ты со. временем легко выдвинешься... Понятно? А состоится этот брак — перед тобой тем более откроются светлые перспективы. Ведь отец о твоем будущем печется, — понизив голос, увещевал он его. Синчхолю с самого начала были ясны соображения отца, но, слушая сейчас его доводы, он понял, что тот и не может рассуждать иначе. Сейчас отец думает о нем как о единственном наследнике этого дома. Есть еще младший братишка — Ёнчхоль, но он еще маленький, к тому же постоянно хворает... Итак, по словам отца, выдержать экзамен на высшего гражданского чиновника, стать зятем в зажиточном доме, да еще наследником этого дома, — и до конца дней своих не будешь знать ни печали, ни забот. А что не лежит душа к женитьбе, то это чистое ребячество! — Папа! Да как же можно жениться из одной только выгоды, не испытывая никаких чувств?! Отец, не ожидавший такого упорного сопротивления сына, удивился. — Мм... Никаких чувств? А чего ради ты поехал в дом Окчоми и пробыл там почти три месяца? Да еще чуть не каждый день разгуливал с ней? Синчхоль слегка смутился под пронзительным взглядом отца. — Хоть кого возьми: приехал в дом к девушке и пробыл не день, не два, а два-три месяца. Кто же будет иначе думать? Ну, что скажешь? Синчхоль растерянно молчал. — Не пойму, что это — легкомыслие? Столько времени провели вместе, вряд ли она тебе так уж противна... — настаивал отец. Синчхоль не выдержал. Не в силах подавить вспыхнувшего в нем протеста, он воскликнул: — Отец! Это слишком! Разве нельзя сколько угодно гулять вместе, нельзя проводить время, оставаясь просто друзьями? Это феодальные предрассудки: побыли мужчина с женщиной вместе — и уж связаны друг с другом какими-то обязательствами. Чушь! Я уважал Окчоми как воспитанницу моего отца... Они тоже сердечно принимали меня как сына учителя Окчоми, из почтения к тебе, не отпускали... Ну и так день шел за днем... У меня и в мыслях не было считать ее своей невестой. — Слушать тошно! При чем тут феодальные предрассудки? Для них, думаешь, тоже в порядке вещей, если мужчина и девушка так просто проводят время друг с другом? И если ты теперь откажешься жениться, мне первому нельзя будет нигде появиться! А... ты лучше скажи, что это у тебя за книжки на столе? Отец пачку табаку свободно купить не может, а ты всякие ненужные книжонки покупаешь. Начитался всякой ерунды, вот и твердишь: феодальный или еще там какой. Как ты с отцом говоришь?! — начал раздражаться отец. — Что за манеру завел? Паршивец, совсем от рук отбился, невежа! А еще университет окончил! Отец понял, что надежды, которые он возлагал на сына, рухнули, его охватило негодование, и с каждой минутой он распалялся все более. — Вместо того чтобы готовиться к серьезным экзаменам, накупил всяких сомнительных книжонок, почитывает... — Эти книги — мои учебники, — сдержанно возразил Синчхоль. — Отец, ты велишь сдавать экзамены на высшего чиновника. До сих пор я не говорил с тобой откровенно, но ответь мне: зачем сдавать экзамены на высшего чиновника? — Ого! Додумался... Да ты что? Что за вздор ты мелешь?! Убирайся вон! — Отец бросился к Синчхолю и отхлестал его по щекам, потом схватил за шиворот и вытолкал за дверь. — Между нами нет больше ничего общего, мы чужие! Чтобы духу твоего в моем доме не было! Вон! — не помня себя орал отец. — Опомнись! Что ты говоришь! — пыталась урезонить мужа мачеха. — Вон! Я тебе больше не отец, ты мне не сын! Синчхоль, пятясь, пробрался в свою комнату, положил в портфель несколько книг, какую-то одежду и выбежал на улицу. Мачеха бежала за ним следом. — Послушай, ты с ума сошел! Что с тобой сегодня? Отец выругал, что ж тут такого? — ухватив Синчхоля за рукав, она потянула его обратно. Отец, распахнув дверь, выскочил к ним и оттащил от него жену. — Уберешься ты наконец? И уйти-то не можешь, трус! Живо, живо! Снег валил хлопьями, и скоро Синчхоль весь побелел от снега. Когда послышались чьи-то шаги, он оглянулся — вдруг это его догоняет мачеха? Нет, это была какая-то незнакомая женщина. Синчхоль почувствовал, как он одинок. Вспомнил свою покойную мать и едва сдержал подступившие слезы. Он брел потихоньку, не зная, куда направиться. Погруженный в печальные думы, он не заметил, как добрел до Колокольного проспекта. Редкие прохожие, судя по виду, торопились по своим делам. Тишину нарушали только звуки джаза, доносившиеся из кафе. Возле парка Паккода он остановился. Вспомнил об одном знакомом, с которым встречался как-то вечером в этом парке. «Не пойти ли к нему?» Миновав фасад Корейского театра, он вошел в переулок Анкуктон и вдруг почувствовал твердую решимость: ноги его дома больше не будет!.. А все-таки мачеха выбежала за ним... У него потеплело на душе. Но все равно — пути назад отрезаны. Он не вернется... Даже если его будут умолять!.. Возле института Посон кто-то протянул ему руку. Синчхоль с удивлением вгляделся — тот самый товарищ, к которому он направился. — А я как раз к вам собирался... — Ко мне? — тот недоверчиво посмотрел на Синчхоля. Это был человек небольшого роста, тонкий и стройный, с бледным лицом, с ершиком жестких, топорщившихся, словно плюска каштана, волос. — Что случилось? — спросил он, оглядев Синчхоля с ног до головы. — Почему вы бродите среди ночи с этим баулом? — Я насовсем ушел из дома. — Насовсем? — Товарищу показалось, что он ослышался, поэтому он переспросил еще раз и недоуменно уставился на Синчхоля. — А что, разве нельзя совсем уйти? — Вы говорите... насовсем ушли из дома? — Да... — печально улыбнулся Синчхоль. — А куда вы идете? — Я?.. Рыскаю в поисках ужина! — И он повел плечами, отряхивая снег.* * *
Они съели суп и купили несколько хлебцев, после чего приятель повел Синчхоля к себе на квартиру. — Пожалуйте! Хлеб и гости, — смеясь, проговорил он, открывая дверь и входя впереди Синчхоля. Какие-то люди, усевшись возле чахлого светильника, так что в двух шагах ничего нельзя было разглядеть, собрались, сняв рубашки, заняться ловлей насекомых. При виде незнакомца они спешно набросили на себя рубашки и с удивлением воззрились на него. Спутник Синчхоля протянул им хлеб, и они тут же принялись есть. Попав в это жилье, Синчхоль будто опустился в погреб: в нос ударил смрад, темно так, что ничего не разглядишь, — от светильника никакого толка, да и холодно, как в леднике. — Это товарищ Ю Синчхоль. Не переставая жевать, обитатели квартиры приветствовали гостя. — Мы тут втроем делим нужду, — засмеялся знакомый Синчхоля, тряхнув густой шевелюрой. — Теперь и вы с нами будете лихо хлебать! Синчхоль смотрел на них, съежившихся от холода в одном нижнем грязном до черноты белье. — Сегодня нам не придется голодать... Странные вещи случаются! Этот товарищ искал меня, оказывается, — объявил спутник Синчхоля. — Интересно, что мы завтра будем есть... — проговорил круглолицый человек по имени Кихо. — Зачем беспокоиться о завтрашнем дне?.. Живуч человек!.. — отозвался другой. — Будет день, и будет пища! А Синчхоль все глядел на них и не знал, как решиться ночевать здесь: в этой комнате, похожей на пещеру, и местечка-то свободного не было. Да и как вытерпеть этот холод, пронизывающий, казалось, до самых костей. А с завтрашнего утра портфель Синчхоля и даже его пальто... Он понимал, что ему придется снять с себя все и отнести в ломбард. Какая-то пелена на миг застлала глаза. Действительность куда страшнее, чем он представлял ее, сидя дома, за письменным столом. Синчхоль провел тяжелую ночь без сна. Утром он вытряхнул бумажник и протянул содержимое товарищу. Тот купил рису и дров. Один промывал рис, другой разводил огонь, и так общими силами приготовили кашу. — Э! Сегодня у нас вполне подходящая жизнь! — Памсон[48] снова тряхнул усыпанными пеплом волосами. Синчхоль улыбнулся, глядя на довольных товарищей, и твердо решил: «Ладно, перенесу и я!» После еды и недолгого пререкания по поводу мытья посуды каждый вымыл свою миску и присоединил ее к другим в углу на кухне. — Слушайте, сегодня, видимо, не выходила? Ильпхо подмигнул, указывая взглядом на дверь. — Вчера не работала в ночь... значит, пойдет сегодня с утра. Вот увидите, — возразил Кихо. Приятель посмотрел на Синчхоля и, понизив голос, сказал: — Это они о соседке из комнаты напротив — красавице с текстильной фабрики. Дурни потеряли покой и жаждут посмотреть на нее, когда она будет выходить из дому... — Эй, ты, кто это покой потерял?.. Уж если правду, не сам ли ты накалился до ста градусов? Все ответили дружным смехом. На другой день товарищ Синчхоля, рассудив, что вчетвером тесновато, решил переселиться в другое место и обещал приходить сюда по мере надобности. Синчхоль стал привыкать к самостоятельной жизни: и кашу готовил, и белье себе стирал, и дыры штопал на носках. Более того: человек добросовестный и аккуратный, он принял на себя роль хозяина. Ильпхо и Кихо, как люди, уже прошедшие через тюрьму, только посмеивались и не очень-то спешили помогать ему. Целыми днями они злословили и высмеивали кого попало: этот так-то сделал, другой этак. А уж если заводили разговор о женщинах — доставалось бедняжкам. — Слушай, Синчхоль! Ты вчера ночью не встретился с этой красавицей?.. Она... — И они принимались рассказывать о красавице работнице.* * *
Побренчав на пианино, Окчоми подошла к окну, полюбовалась на лунный свет, на мгновение о чем-то задумалась и вдруг спросила Сонби: — Сонби, тебе Синчхоль в ту ночь ничего не говорил? Сонби под окном перебирала собранные днем огурцы. Она с недоумением поглядела на Окчоми: что бы это могло значить? Окчоми вспылила. — Ты все время притворяешься непонимающей! Куда как хорошо! Словно дурочка! — засмеялась она, не давая Сонби опомниться. Сонби ничего не могла припомнить. Не может быть, чтобы она чего-то не расслышала. Она терялась в догадках. С некоторых пор она сама замечала, что голова ее переполнена, как эта корзина огурцами, чем-то таким, что трудно выразить словами. Вот и сейчас она никак не могла понять Окчоми. Во всяком случае, не помнила ничего ясного и определенного, оно словно убегало от нее. Она разрезала ножом огурец и прерывисто вздохнула. — Ну что, еще не вспомнила? Сонби помедлила и подняла голову: — Нет. — Ай, какая ты! И откуда такие дурочки берутся? Право, умереть можно! Слова господина, который из Сеула приезжал прошлым летом... — Какие слова господина? — Да что же это такое! Ты что, взаправду дура? Ох, не могу. С тобой разговаривать — все равно что корове молитву читать! Окчоми отвернулась, вновь ударила по клавишам и запела какую-то печальную песню. Сонби пристально глядела на нее и слушала. Эта песня словно смеялась, глумилась над Сонби. Ее руки, белые как мел от лунного света, слегка задрожали. — Эй, Сонби! Зажги-ка лампу! — закричала мать Окчоми, входя в дом. Сонби вздрогнула и встала. Теперь голос матери Окчоми постоянно заставлял тревожно сжиматься ее сердце; она вся съеживалась: вдруг хозяйка начнет браниться? Вдруг скажет: «Ах ты, тварь, убирайся вон!» И тревога ни на минуту не оставляла ее. — Не надо, мам, мне так больше нравится, достаточно лунного света... — попросила Окчоми. — Что делать при лампе-то?.. Ах, мама, лучше бы мне умереть! Мать зашаталась, услышав эти слова. Ее дочь хочет умереть! — Что это ты говоришь? Как могут такие слова срываться с губ ученой девушки? Чтобы впредь я не слышала ничего подобного! Матери еще многое хотелось высказать, но у нее перехватило дыхание, и она смолкла. — Ты что, все еще огурцы перебираешь? — накинулась она на Сонби. — Бросай-ка это, зажги в моей комнате свет да приготовь постель, и в этой комнате тоже! Ну?! И до чего ж девчонка неповоротлива да ленива! Хочешь, чтоб тебя выгнали, как и старуху? Окчоми, окончив школу, вернулась, и Сонби пришлось перебраться в комнату старухи. А старуху Токхо прогнал. — Мама! Право... будь добра, верни бабушку! А то заплачу. Жалко ведь! — Ну вот! Это твой отец с чего-то надумал прогнать ее. Мне тоже жалко... Оставить бы надо бабку. Мать Окчоми покосилась на Сонби, которая вернулась в комнату, отнеся на кухню корзину с огурцами, и пламя ревности, давно вынашиваемой в глубине души, обожгло ее. «И все из-за нее!.. Жила бы старуха и жила... Зачем понадобилось гнать ее? Что-то твой отец мудрит!» — вот какие слова рвались у нее наружу, но она сдерживалась. Окчоми закрыла пианино. — Странно!.. — проговорила она и схватилась за грудь. Мать Окчоми, мучимая ревностью, испытующе посмотрела на Окчоми: — Ты тоже находишь это странным? Не знаю, что со стариком. Неужели все еще забавляется? — Мама, ну что ты говоришь? Какие могут быть забавы? Умора, право! — расхохоталась Окчоми. Мать поняла, что дочь ни о чем не догадывается, и разозлилась. — Чего ты смеешься? — Мама, да ты о чем? Мать смутилась и отвернулась. Из женской половины донеслось чирканье спички, и вслед за тем ярко загорелся свет. Мать Окчоми пошла туда. Сонби, расстилавшая постель, испуганно оглянулась. — Стели ровнее! У Сонби екнуло сердце. Руки задрожали. Не смея поднять глаз, она приготовила постель и вышла. Окчоми по-прежнему сидела на стуле, опустив голову. Задремала она или задумалась? Зажигать свет или не надо? Окчоми только что просила не зажигать, и Сонби присела у двери, не зная, как поступить. Ей хотелось спросить, но Окчоми шептала что-то про себя и, казалось, усмехалась. Сонби сидела как на иголках. — Поехать, что ли, завтра в Сеул? — встрепенувшись, пробормотала Окчоми, словно пробудившись от сна. Порывисто встала и опрокинула кувшин с водой. — Ах, что-то пролилось! Зажигай свет! — закричала она. — Чего сидишь? Полюбуйся на дуру! Сонби вскочила и зажгла лампу. На полу блестела лужа. — Вместо того чтобы зажечь свет, ты сидела сложа руки, и видишь, что получилось? Умереть можно! Душа ноет, а тут еще такое безобразие... Живо убери все! Окчоми скрылась на женской половине. Мать с дочерью о чем-то оживленно заговорили. Сонби вытерла тряпкой пол, подняла пустой кувшин и ушла в свою каморку. Она сидела тихо, не зажигая огня. За день так набегаешься, что и голова, и ноги гудят. Сонби смотрела на лунный свет, льющийся в окно, и только одна мысль сверлила ей мозг: как бы оставить этот дом, уйти куда-нибудь. Каждую ночь смотрит она в окно, сколько раз решала уйти из этого дома, но соберет узелок, выйдет, — а идти-то некуда, и волей-неволей остается. А что, если сегодня уйти? Взять узелок и пойти. Но куда? А вдруг она встретит людей еще более страшных, чем Токхо? И она отодвинула узелок. Но и оставаться здесь нет уже никакой возможности. Надо уйти, пока не вернулся Токхо. Сонби выглянула во двор посмотреть, не в гостиной ли он. Нет, там темно, только по дверям скользят лунные блики. Она облегченно вздохнула и вернулась в комнату. Пора! Она взяла узелок, напряженно прислушалась и вышла за дверь. Нет ли кого во дворе? Вышла за средние ворота, в комнате Ю-собана — свет. Постояла и, словно опасаясь погони, прокралась за главные ворота. Огляделась — ни души кругом. Медленно-медленно пошла вперед, прижимаясь к земляному валу. Как страшно! Хоть бы никто не встретился да не спросил: «Эй, девушка, куда идешь?» А так хотелось, не таясь, шагать свободно. Пройдя немного, она остановилась. Вновь проложенная дорога в уездный город была видна при лунном свете как на ладони. Вот по этой безлюдной дороге придется ей в одиночестве брести. Но что, если там, где дорога исчезает в темном сосновом лесу, в бесконечном лесу, ожидает ее, сверкая глазами, кто-нибудь пострашнее Токхо? Мурашки пробежали у нее по коже, и она остановилась как вкопанная. Обернулась — перед ней деревня Ёнъён! Там, прорезая темноту, возвышается ненавистный ей дом Токхо. Вернуться туда? Нет! Она снова посмотрела на дорогу, теряющуюся в сосновом лесу, сделала несколько шагов. «Что я делаю? Куда иду?» Глянула на луну, все так же спокойно лила она свой свет. «Каннани!» — мелькнуло вдруг в голове у Сонби. Правда, раньше она считала Каннани нехорошей женщиной, но однажды, уже после того, как с ней самой случилось то же самое, она увидела Каннани во сне, будто они обнялись и даже плакали вместе. И каждый раз, когда она задумывала уйти и не решалась, ей вспоминалась Каннани. «Где-то она? Хорошо ли зарабатывает? Хоть бы узнать, пишет ли она?» — всякий раз думала Сонби, а ноги сами несли ее к дому Каннани. Сколько раз собиралась она зайти узнать о Каннани. Сколько раз лунными ночами стояла она у плетня ее дома, не осмеливаясь войти в калитку: вдруг мать Каннани отнесется к ней с недоверием? «А, ладно! Узнаю завтра!» — решала она и брела обратно. «Каннани!» — не раз звала она про себя, вспоминая, как они вместе играли в детстве. Почему не сумела она проникнуть в ее душу, когда Каннани была здесь? Почему ни словом не выразила доброго отношения к ней? Сонби не заметила, как опять очутилась возле дома Каннани. Она остановилась и твердо решила войти, расспросить оКаннани. Прислушалась, нет ли у них кого из соседей? Может быть, отец Каннани во дворе? Тишина. Лишь тусклый огонек освещал дверь. Послышалось чье-то покашливание. «Спят, видно, все. Придется завтра днем прийти». Сонби собралась было уходить, но в доме, очевидно, услыхали ее шаги. — Кто там? — донесся голос матери Каннани. Сонби в нерешительности топталась на месте, но дверь открылась, и волей-неволей пришлось войти. — Ты? — удивленно уставилась на нее мать Каннани. — Я-то думаю, кто там бродит! Ты чего, к нам? Взяв Сонби за руку, хозяйка провела ее в комнату. «Зачем это она? Уж не подослал ли ее Токхо, этот живодер, узнать, хорошо ли зарабатывает Каннани в городе?» Это предположение сменилось другим: «Уж не случилось ли и с этой девочкой того же, что с Каннани?» — И она во все глаза смотрела на Сонби, пытаясь угадать, что привело ее к ним в дом, да еще в такой час. — Сколько же мы не встречались? Да почитай, со смерти твоей матери я и не видела тебя... Как ты похорошела! А Сонби сидела ни жива ни мертва, не в силах вымолвить ни слова, — ей так и казалось, что за дверью стоит мать Окчоми или Токхо, что едва она выйдет отсюда, набросятся на нее, заорут: «Зачем сюда приходила?» И она не могла собраться с духом и произнести хоть слово, а лишь безмолвно поглядывала на дверь. Мать Каннани, с удивлением наблюдая за ее странным поведением, припомнила, как сказала со вздохом ее дочь в ту бессонную ночь перед уходом в город: «Мама, мне кажется, Токхо собирается-таки взять Сонби... Меня прогнал...» Не прогнал ли он и эту девчонку, как нашу Каннани? И поделом ей — за Каннани!» — подумала она было, но тут же отогнала эту мысль. Она смотрела на Сонби, такую жалкую, подавленную, и ей казалось, что перед ней сидит собственная ее дочь. — Где теперь Каннани? — спросила наконец Сонби. — Зачем тебе знать это? — в свою очередь, спросила мать Каннани, которой все казалось, что она спрашивает лишь по наущению Токхо. У Сонби не хватило духу повторить вопроса. Она снова притихла и только крутила тесемку платья. — Зачем ему знать, где она? Загубил жизнь девчонке, и все мало ему? Да? — запричитала мать Каннани. Сонби словно ударили по лицу. Острая боль пронзила ее, и она уже раскаивалась, что пришла сюда. И вдруг словно прозрела: ее жизнь тоже загубил Токхо. Он же убил и ее отца, это правда. Но у Каннани хоть есть родители, они ненавидят его вместе с ней, а у нее нет никого, кто бы позаботился о ней, пожалел бы ее, кому могла бы поведать она о своей беде, о своей ненависти. Глаза ее вдруг наполнились слезами. — Мама! — крикнула она. Мать Каннани вскинула голову и ждала, что скажет Сонби. Но Сонби молчала. Она и сама не знала: свою ли мать позвала или эту? Задумчиво смотрела она на колышущийся от ветерка из двери огонек лампы. В ее глазах блестели слезы. Да, матери Каннани без слов стало ясно, что Сонби постигла такая же беда, как и Каннани. Как же страдает ее душа! «О! Этот кровопивец! И как только гром не поразит его... Бог-то, право, чего смотрит!» — мысленно поносила она Токхо. — Сонби! Почему ты такая грустная?.. Конец фразы застрял у нее в горле. Она нагнула голову и подолом юбки вытерла глаза. Сонби, видя, что мать Каннани плачет, крепко закусила губы, стараясь удержать подступившие рыдания. — Мама, Каннани... Каннани где? — спросила она сквозь слезы. — Или ты тоже собралась уйти? — Да. Мать Каннани встала, открыла комод, вынула конверт с письмом и подошла к Сонби. — В Сеуле, что ли, или еще где, я слышала, да забыла. Вот почитай, что тут дочка пишет... Отомстите проклятому кровопийце! Если бы твоя мать жива была, как бы она горевала! Ах, вся душа изболелась! — Мать Каннани ударила себя в грудь. Сонби поняла, что она догадалась о ее связи с Токхо, и вместе с ненавистью к Токхо ее охватил стыд. Дрожащей рукой взяла она конверт и внимательно стала разглядывать. Но сколько ни гляди, ничего не разберешь даже и при ярком свете. Она встала. Мать Каннани испуганно посмотрела на Сонби. — Ты, наверное, уже все прочитала... Дай сюда! Сонби замялась. — Мама, можно мне взять это? — Нельзя. А что, если Токхо увидит? Ведь жизни не даст! — Мама, разве я допущу до этого... пожалуйста... — упрашивала Сонби. — Ну, ладно, только верни, когда соберешься уходить, да этому прохвосту — ни-ни! Провожая Сонби, мать Каннани несколько раз повторила свою просьбу. Сонби спрятала было конверт на груди, но, вспомнив, как руки Токхо гладили ее грудь, сразу вытащила обратно. Даже маленький конверт спрятать некуда; всюду обнаружит его старый хрыч! И такая досада взяла ее, что хоть ложись и помирай... Все так же крадучись, прижимаясь к стенам, добралась Сонби до дома Токхо. Как же быть с конвертом? Поколебавшись, она засунула его в носок и тихонько открыла ворота. Кругом — мертвая тишина. Сонби, бесшумно заперев ворота, прошла по двору и юркнула в свою каморку. Она замерла на секунду, ей показалось, что тут, дыша перегаром, лежит Токхо. Первым ее побуждением было бежать куда-нибудь. Конверт, спрятанный в носке, не давал ей покоя. Наконец, убедившись, что в комнате никого нет, Сонби вошла. Решив сегодня ни за что не открывать дверь, она сильно потянула ее на себя, заперла и, даже не разобрав постели, бросилась на нее ничком. Мысли, обгоняя одна другую, проносились в голове. Но что это? Снаружи дергают дверь. Вот опять... «Эх, опять лезет!..» — простонала она и крепко зажмурила глаза. Сердце ее бешено колотилось. Снова дверь — дерг, дерг... Токхо отлично знал, что она не спит. Ясно, что, если она не откроет, Токхо отомстит ей. «Ну, выгонит вон, а что еще сделает?» — успокаивала она себя, притаившись. Дверь содрогалась. И вдруг послышался скрип расходящихся створок — дверное кольцо было снято. Сонби притворилась спящей. Токхо, тяжело дыша, закрыл дверь и пнул Сонби ногой. — Ты чего, чертова девка, дверь не открываешь? Слишком я ласков с тобой, избаловал... Совсем от рук отбилась... Смотри у меня! Сонби медленно приподнялась, делая вид, будто только что проснулась. — Ты слыхала, что я велел открыть дверь? — Нет, не слыхала, — сделала удивленные глаза Сонби. — Вредная девчонка! — проворчал Токхо и облапил Сонби. Как обычно, от него несло водкой. Каждый раз, когда он обнимал Сонби, этот отвратительный запах ударял ей в нос, и она невольно отворачивала лицо. И сейчас ей так хотелось вырваться от него! Сжавшись в комок, она попыталась отодвинуться, но Токхо прижал ее еще крепче. — Чего рыпаешься? Противен, видно, я тебе... Не поискать ли другую девчонку? А? Что скажешь? — прижав губы к самому уху Сонби и обдавая ее тяжелым дыханием, шептал Токхо. У Сонби защекотало в ухе, она отшатнулась. — Смотри, баба, может, у тебя другой есть? Иначе разве могла бы ты позволять себе такое? Когда приходит мужчина, девчонка не должна спать, она должна подобострастно трепетать, чтобы расположить его к себе! А ты что делаешь — развалилась и спишь, как дура! Раз я к тебе благоволю, ты брось эти привычки... Кстати, были у тебя в этом месяце? Сонби не слушала бормотанья Токхо. Ей все время казалось, что мать Окчоми стоит за дверью, и ее маленькое сердечко трепетало, как пойманная птичка. Так было каждый раз, когда приходил Токхо. — Да отвечай же! — Токхо погладил Сонби по животу. Ее передернуло. — Не было еще, — насильно выдавила она из себя. — Гм... Может быть, на этот раз... Может быть, тебе захочется чего особенного съесть, сразу скажи, не скрывай да не ломайся... Хочется чего-нибудь? — прильнув слюнявыми губами к щеке Сонби, шептал Токхо. Сонби еле сдерживала подступавшую тошноту. — Сонби... как?.. а? — Ай, право же, тошно слушать! — Ого! Тебе уже слушать противно стало! Ты должна думать о моем сыне вот тут! Обнимая Сонби, Токхо впился губами в мочку ее уха. Потом вдруг вынул из бумажника деньги и протянул Сонби. — Вот возьми и распоряжайся ими по своему желанию, а захочется съесть чего-нибудь, увидишь меня, — скажи! Сонби вспомнила о конверте в носке и скрепя сердце взяла деньги. Она не знала, сколько здесь, но сообразила, что они пригодятся на дорожные расходы, когда она пойдет к Каннани. — Уходите скорее, хозяйка может прийти! — А хоть и придет — что из того? Ты здесь главная, в тебе мой сын. Что мне эта развалина? А ты будь спокойна: через два месяца будет уже определенно известно, и если действительно носишь моего сына, прогоню ее, а тебя сделаю настоящей женой. Поняла? — Тише, тише! — взмолилась Сонби. — Кто-нибудь услышит! — И услышит — не беда, — разошелся Токхо. — Ты теперь в этом доме главная, так-то! Если забеременела, на что-нибудь особенное потянет... Не чувствуешь такого? Токхо совсем помешался на ребенке. И от этого стал Сонби еще противнее. Однако она не на шутку встревожилась: почему в самом деле задержка? Уж не верна ли догадка Токхо, не беременна ли она? Как же она осквернила свое тело: понесла ребенка от Токхо, да еще спокойно остается жить в этом доме! Сонби почувствовала, как к горлу опять подступает тошнота. Впрочем, это случалось с ней и раньше, почти всегда, когда ей приходилось быть рядом с Токхо. Но сегодня ей было особенно тяжело. Вдруг началась рвота. Токхо испугался и прижал руку к ее губам. У Сонби и так болела голова, а тут еще эта рука, пропахшая водкой: у нее все поплыло перед глазами. — Беременна, так и есть. С чего же может быть рвота? — с уверенностью заявил Токхо. Сонби оттолкнула его. — Уйдите, пожалуйста, мне совсем плохо... Прошу, хоть сегодня уйдите! — умоляла Сонби. — Мм... плохо... определенно понесла, беременна! Каши не хочешь, фруктов надо купить... — Ничего не хочу, только уйдите скорее! — Ладно, раз такое дело, уйду. Береги свой живот. Завтра к тебе приду... А?.. Ах ты, милашка! Неужели принесешь мне сына? Токхо еще раз крепко обнял Сонби и вышел. Сонби наконец вздохнула свободно. Ей не терпелось узнать, сколько он дал денег. Но она все еще прислушивалась. Вот Токхо, скрипнув главными воротами, входит в средние. Он проделывал это всякий раз после того, как бесшумно выбирался из комнатки Сонби. Вот он, запирая ворота, громко кашлянул и, топая, направился в женскую половину. Сонби облегченно вздохнула, и в то же время в ней вдруг шевельнулось чувство, похожее на ревность. Дверь на женскую половину открылась и вновь закрылась. Тут Сонби вспомнила, что в руке у нее зажаты деньги. Сколько же, сколько их? Она пошарила под лампой, нащупала спички и зажгла одну. Кажется, десять иен. Такую сумму ей приходилось видеть только в кошельке Окчоми. Сонби загляделась на гаснущий язычок пламени. «Если к этому прибавить то, что он дал при жизни матери, — задумалась она, — сколько же это получится? Пятнадцать иен!» Впервые в жизни пришлось ей держать в руках так много денег. Разве с такими деньгами нельзя пойти в город? Сонби крепко зажала в кулаке деньги.* * *
Был летний вечер. Поглядев на небо, которое целый день хмурилось, Сонби пошла на кухню. Мать Окчоми, видимо, о чем-то догадывалась. Всю прошлую ночь она ругалась с Токхо. Даже не завтракала, а на обед послала работника купить куксу[49] и лежала, обвязав голову, с видом тяжело больного человека. Не спала и Сонби всю ночь напролет. На душе ее было сумрачно, как на этом небе, что виднеется сейчас в кухонную дверь. В непрерывной тревоге она не могла усидеть на месте. Перебрала рис, ссыпала в котелок, а что делать, дальше, не соображала. Походила немного, подошла к кадке, зачерпнула рису и опять задумалась. Потом глянула в котелок и тут только сообразила, что второй раз насыпала туда рис. Она остановилась в замешательстве. «Что это со мной?» Сонби ухватилась за перекладину, чтобы хоть немного прийти в себя. Но это не помогло. «Не иначе как мать Окчоми узнала! А может быть, нет... Нет, еще не знает. Если бы знала, разве стала бы она меня терпеть? В ту же ночь выгнала бы...» Что-то хрустнуло. Вздрогнув, она наклонилась посмотреть. Оказывается, она уронила черпак с рисом на чашку для мытья посуды, и та разбилась. Полилась вода. Черпак тоже треснул, и рис посыпался на пол. Затаив дыхание, Сонби стала собирать рис. Послышались быстрые шаги. — Ты чего тут натворила, негодяйка? — влетела в кухню мать Окчоми. Увидав беспорядок, она затрясла головой, подскочила к Сонби и вцепилась ей в волосы. — Ах ты, чертова девка, надоело жить в нашем доме — убирайся! А посуду бить не смей! Грязная тварь! Убирайся вон! Она как будто только и ждала этого момента: кричала, вцепившись в волосы Сонби, рвала их, а Сонби и не думала защищаться и с искаженным от боли лицом оставалась безмолвной. Прибежала Окчоми. — Что вы тут... Вот ужас-то, — расхохоталась она, глядя на промокшую и вымазанную в земле одежду Сонби. День-деньской одно и то же: ест, бренчит на пианино да спит; при таком однообразии и скандал — развлечение, и Окчоми пришла в возбуждение, испытывая чрезвычайное удовольствие. Тем более что причиной скандала явилась Сонби, на которую она всегда смотрела с ревнивой ненавистью. Она не была в этом уверена, но порой ей казалось, что Синчхоль думал о Сонби больше, чем о ней. И у Окчоми появилось желание подбежать и тоже ударить ее. Мать Окчоми разъярилась и, осыпая ударами, катала по полу покорную, словно овца, Сонби. Сначала Сонби чувствовала боль и стыд, а потом уже не ощущала ничего, и в помутившемся сознании ее сохранялось только одно: скорей бы умереть, избавиться от этого позора, от этих мук, покинуть этот страшный дом! Боль в душе ее как будто уменьшилась от этих побоев. Мать Окчоми, устав наконец, отступилась и привела в порядок голову. — Эй ты, убирайся сейчас же! Я тебя за родную дочь считала... Если бы имела хоть каплю разума, то должна была ценить, а ты... Я хоть и молчала, а все твои проделки знаю! У-у, беспутная! Убить тебя мало! — Мама, стыдись! Неужели отец мог себе позволить такое? И у этой на уме другое... Тогда с Синчхолем ночью зачем встретилась?.. Зачем?! — подступила Окчоми к Сонби. — Сговорились, не иначе! Наверняка у нее с Синчхолем что-то было! С виду глупенькая, тихоня тихоней, а себе на уме... — выпалила она в конце концов. Окчоми тщетно старалась забыть Синчхоля, но тем сильнее его ненавидела, и каких только догадок не строила о нем! Она подскочила к Сонби и ударила ее по багровой, словно окровавленной, щеке. Забившись в угол, Сонби думала только об одном: хоть бы пришла смерть. И тут неожиданно в кухню вошел Токхо. — Что происходит? — Папа, — заговорила Окчоми, — я хоть и молчала до сих пор... Эта дрянь, кажется, имела с Синчхолем связь. — Что? С Синчхолем? — выпучил глаза Токхо. — Ты точно знаешь? — Наверняка! Тогда ночью эта девчонка встретилась с Синчхолем, и они о чем-то оживленно беседовали. Мало того, даже когда мы в Сеул поехали, разве он не старался взять туда эту тварь? Тогда я не догадывалась, что между ними что-то было, а теперь мне это яснее ясного! Окчоми снова набросилась на Сонби. — Ну говори, спала с Синчхолем? Не скажешь — прибью! Токхо свирепо уставился на Сонби. Досаднее всего ему было, что он-то, полагая, что она с весны носит в себе его дитя, только и думал о том, чем бы ублажить да повкуснее накормить ее. Сонби посмотрела на Токхо, и в ее до сих пор сухих, горячих глазах сверкнули слезы: ведь только он знает, как они несправедливы к ней. Токхо подступил к Сонби: — Ты в самом деле спуталась с Синчхолем? А?.. Дали девчонке волю, а потом меня, непричастного, виноватым делают, ха-ха! Мать честная! Меня подозревала, — обратился он к жене, — а ты вон у нее спроси. А-а, раз она давно уже с этим хлюстом Синчхолем спуталась, да из-за Синчхоля и в Сеул-то хотела уехать, стала бы она со мной-то? А ты человека без оснований подозреваешь... Что теперь скажешь, а? Да вы ели сегодня что-нибудь? Куксу кушали? — поспешил он переменить разговор. Токхо было неловко стоять лицом к лицу с Сонби, он взял жену за руку и потащил в комнату. — Сейчас же убирайся, чтоб духу твоего не было в нашем доме! — крикнула Окчоми и последовала за родителями. Сомнений не оставалось: она должна уйти. Даже Токхо, единственный, кто мог бы заступиться за Сонби, так явно лгал сейчас. Она знала, все это только для того, чтобы избавиться от нее. «Хорошо же!» — подумала Сонби, направляясь в свою комнату. Ее душила злоба, она дрожала, но ни единой слезинки не выкатилось из глаз. Сонби повалилась на узелок и стала ждать темноты. Ночью с узелком под мышкой вышла она из дома Токхо. Кругом — непроглядная тьма. Дождь, зарядивший с полудня, теперь прекратился, подул свежий ветерок. Сонби шла по дороге, ведущей в уездный город, легкий ветерок приятно холодил ее пылающие щеки. На восточной стороне неба сверкнула молния и на мгновение ослепительно ярко озарила горы. И вслед за вспышкой молнии загремел гром. Прежде Сонби обомлела бы от ужаса, а теперь она даже не испугалась. В ней созрела решимость, и она презирала смерть. По обеим сторонам дороги, колеблемое ветром, шумело густое просо, гаолян. Словно сквозь сон слушала она шум набегающих волн, и ей чудились звуки пианино. Эти звуки жалили сердце Сонби. Она представила себе, как Окчоми играет, и заткнула уши. Неожиданно послышался визг, и что-то метнулось под ноги Сонби. Она испуганно остановилась. Но сейчас же разглядела Черныша, которого всегда кормила кашей. Сонби порывисто обняла Черныша и заплакала. Черныш завилял хвостом, заскулил и лизнул ее в щеку. — Черныш! — Сонби прижалась к нему щекой и опустилась на землю. А вдали в деревне мерцали огоньки. Они отражались в ее глазах, словно цепочка, порванная на мелкие звенья. Огоньки напомнили ей свет лампы, при котором смотрела она на умирающую мать. — Мама! — невольно позвала она и повернула лицо в сторону горы, на которой погребена ее мать. И вдруг ей живо вспомнились корни дерева сотхэ, которые Чотче принес тогда, и глаза — его большие, круглые глаза. Сверкнула молния и тотчас погасла.* * *
— Эй, приятель! Ну и здоров же ты, спать! В спячку, что ли, впал? Синчхоль, испуганно вздрогнув, проснулся. Товарищи уже встали и, видимо, даже умылись. Лица их блестели чистотой. Кихо посмотрел на Синчхоля. — Сегодня на завтрак ничего нет! Вставал бы хоть ты скорей, да, может, сообразил бы что-нибудь. — Тише вы, я еще немного посплю. — Вставай, вставай! Солнце-то уже — вон оно, над. головой. Без завтрака мы, пожалуй, обойдемся, однако без обеда и ужина вряд ли долго протянем, — со смехом теребили его товарищи. Синчхоль встал. На середину комнаты падал яркий луч солнца. Он сбросил белье и начал выбирать вшей. — Загрызли совсем... Ильпхо присел у двери, свернул из оставшегося от лучших времен табака цигарку, жадно затянулся и выпустил дым через ноздри. Сизая струя взвилась к потолку. По тому, как Ильпхо поглядывал на комнату напротив, можно было догадаться, что красавица соседка сегодня дома. Этого благодушного толстяка не сильно угнетала такая жизнь. И хоть ему частенько нечего было есть, никто не видел его с унылой физиономией. Он встает, спозаранку усаживается у дверей, и если не курит, то занимается чисткой собственного носа, и нет-нет да и взглянет на комнату напротив. Кихо, заставая его за этим занятием, ворчал: — Опять ты за свое! Так и будешь бездельничать? Тот притворялся, будто не слышит, и продолжал усердно курить самокрутку. Охотно он разговаривал только о красавице из комнаты напротив или же обсуждал чьи-либо недостатки. К предложениям приготовить рис или достать дров оставался глух и лишь ухмылялся, делая вид, что это его не касается. Ильпхо улыбался, наслаждаясь табаком. Синчхоль уже оделся и теперь силился вспомнить: нет ли чего-нибудь, что можно было бы заложить? Однако все, даже книги — самое дорогое для него, — все было заложено! Теперь ничего не осталось, кроме собственного тела. «Пойти, что ли, попросить еще у Памсона», — подумал Синчхоль. На днях Памсон устроился разносчиком газет, и поэтому у него водились гроши. Иногда Синчхоль брал у него десять или пять сэн[50] и покупал пакетик риса. Синчхоль надел свой европейский костюм, служивший выходной одеждой для всех троих, и направился к выходу. — Постарайся обязательно что-нибудь раздобыть... А уж совсем ничего, так, может, заглянешь к себе домой, да прихватишь какую малость... Живот подведет, тут уж не до самолюбия, не так ли? — напутствовал Кихо. — Разумеется, так! — подхватил Ильпхо, явно оживившийся при этих словах. Синчхоль улыбнулся и вышел за дверь. Он представил себе круглую физиономию Ильпхо и его многозначительные взгляды, направленные на противоположную комнату, вспомнил его комическую, круглую, с выпяченным животом фигуру да его неэстетичные привычки и не удержался от горькой усмешки: «Тоже мне интеллигент!» Сам он тоже, видимо, причислен к этой прослойке, но за последнее время он проникся глубокой антипатией к подобного рода интеллигентам. Подсознательно он чувствовал, что именно такие, как Ильпхо, своим поведением, манерами самым низким образом порочат это звание. Занятый размышлениями, он не заметил, как дошел до бассейна. Там уже собралось много пловцов и стоял невообразимый шум. Перед его глазами в сверкающей на солнце воде мелькали красные и зеленые шапочки. Он вспомнил, как прошлым летом развлекались они в этом широком западном море вместе с Окчоми. И вслед за тем взору его представилась деревня Ёнъён... и милый облик Сонби.* * *
Солнце жгло спину Синчхоля, а в животе у него урчало. Он медленно начал спускаться по горной тропинке в местечко Самчхон. Если и там ничего не раздобудет, куда еще идти? Слишком многим он уже задолжал, занял несколько десятков сэн, и теперь смелости не хватало просить. Сейчас рано, и он не так еще проголодался, но скоро голод заставит его пойти на поклон к какому-нибудь из товарищей. Вот и дом Памсона на Кванчхольдоне, но товарища нет. Синчхоль постоял в раздумье, проглотил голодную слюну и побрел дальше. Но на Колокольном проспекте остановился. Подняв серую пыль, промчался автобус по направлению к Восточным малым воротам. Синчхоль вдруг ощутил тоску по родному дому. «Дай конфетку», — вспомнил он, и таким милым показался ему Ёнчхоль с протянутыми ручонками, а еще милей — обычное в доме блюдо: красный перец, начиненный соевым творогом, мясом и чесноком. Размышляя об этом, он брел и брел не спеша. Сосало под ложечкой. «И куда он запропал?» — удивлялся Синчхоль. Утренний выпуск уже должен быть доставлен, вечернего еще нет... Куда он пошел? Синчхоль обогнул Колокольный проспект и направился к Золотому Гонгу. Трамваям, бегущим туда и сюда, не было конца. Бесчисленные автобусы, такси мчались один за другим, словно наперегонки. Синчхоль, глотая пыль, уныло брел по асфальту. Солнце сильно припекало, а Синчхоль все еще носил зимнюю фетровую шляпу. Опасаясь случайной встречи со знакомыми, а тем более с отцом или мачехой, он глубже надвинул шляпу и шагал, уставясь себе под ноги. Бывало, отправляясь в школу, он привычно начищал ботинки до блеска. И никогда не думал, что это имеет такое значение. В запыленных ботинках с ободранными носами как будто и ноги-то стали другими, отяжелели, — куда легче шагалось в начищенных ботиночках. — Ну, как ты поторговал сегодня? — Да с тысчонку трепангов сбыл. А ты? — Да и я, видимо, около того. Синчхоль поднял голову. Двое мужчин шли с чиге за плечами и разговаривали. «А не пойти ли и мне в разносчики? — подумал он. — Сейчас, например, капусты много, можно капусту разносить, потом еще что-нибудь... да любой товар». Но, представив себе, как он, подобно этим парням, шествует по улице с чиге за спиной, понял, что не сможет решиться на это. Почему? По какой причине? Он прекрасно сознавал, что если он не сможет взяться за работу, например, носильщика, то, по существу, не будет никакой разницы между ним и Ильпхо, который предпочитает ковырять в носу и голодать, но не работать. «Другим товарищам это, может, и подошло бы, а я уж лучше бы, уподобясь провинциалу, стал копаться в земле, а что и как делать — живо научился бы у крестьян, — размечтался он. — Только вот для Сеула такое дело, пожалуй, не подойдет — слишком много знакомых. А отец, а мачеха? Столько знакомых женщин...» Неожиданно Синчхоль оказался перед универмагом «Мицугоси». «Зайти, что ли, туда?» — подумал он, сделал уже несколько шагов, но тут же отступил, испугавшись встречи со знакомыми, — мало ли их идет за покупками. Всякий раз, когда он проходил здесь, эта мысль заставляла его еще больше горбиться, а вид у него был и без того жалкий. Посетители «Мицугоси» всё люди из порядочного общества, одеты со вкусом и по сезону. Едва ли отыщется среди них хоть один в таком поношенном костюме и зимней шляпе. На всех давно уже легкие летние костюмы и летние шляпы. Но где еще можно дать отдых натруженным ходьбой ногам? Пойти на Южную гору? Но туда трудно добраться, да и жарко там. Все-таки лучше всего зайти сюда и отдохнуть... И он решительно вошел в универмаг. Поднявшись в лифте на третий этаж «Мицугоси», Синчхоль сел на стул и стал задумчиво глядеть на фонтан. По соседству сидела молодая пара. Они потягивали воду со льдом и оживленно беседовали, то и дело громко смеясь чему-то, и Синчхолю все время казалось, что они потешаются над его жалким видом. Уязвленный смехом, Синчхоль отвернулся, но чувствовал, что их взгляды устремлены на его спину и затылок. А тут еще нестерпимая духота. Синчхоль вынул из кармана платок и вытер лоб. Платок тоже был последним. Покидая дом, Синчхоль захватил с собой четыре или пять платков, но пришлось раздать товарищам, остался лишь этот, порядком уже заношенный. Он невольно прислушался к голосу непрерывно щебечущей и хохочущей соседки, и он показался ему очень похожим на голос Окчоми. «Вышла ли она замуж? Помнит ли еще меня?» — задал он себе вопрос, и, обжигая, словно палящие лучи солнца, потекли воспоминания. Он усмехнулся. Таким приятным казалось ему то время. Нет, оно было по-настоящему приятным! Только тогда он не понимал, насколько счастливой была для него та пора. Вдруг Синчхоль вскочил: эти мысли были куда грязнее нечистоплотных привычек Ильпхо. Пытаясь отогнать их, он стал смотреть на бегущие туда и сюда трамваи, бесконечной вереницей мчащиеся автобусы, такси. Смотрел, пока не зарябило в глазах. Смотрел, смотрел, и вдруг до него дошло, что и эти трамваи, автобусы, такси теперь недоступны для него. Пробовал думать о чем-нибудь — ничего не шло на ум, кроме воспоминания о том, как прошлым летом ездили они с Окчоми на реку Ханган. Разумеется, он и после этого не раз ездил на трамвае, но те случаи не оставили следа в его памяти, и ярко запечатлелись лишь поездки в трамвае или такси с Окчоми. Синчхоль опять упрекнул себя за эти мысли. А все из-за этой женщины, которая пьет воду со льдом! Это она навела его на такие неприятные, нет, подлые размышления! Он медленно отошел от окна, вынул из кармана газету, которую вчера вечером дал ему Памсон, развернул и уставился на страницу, где говорилось о политике. Просмотрев ярко выделенные заголовки, Синчхоль поморщился. Голод все настойчивее давал о себе знать, в голове гудело. Глянул краем глаза — молодая пара направилась к цветочной витрине на противоположной стороне. Он снова уселся на стул. Завыла сирена: значит, сейчас три часа или половина третьего. Люди непрерывным потоком поднимались на третий этаж и спускались. Синчхоль не мог уже спокойно наблюдать за ними — слишком он был голоден. Во рту пересохло, живот, казалось, прирос к спине. Закрыв глаза, он застыл на стуле. Если б жива была мать, она упросила бы его вернуться тогда, пошла бы за ним следом и воротила домой. «До сих пор... нет, если так голодать, я скоро и передвигаться не смогу... К черту все!» «Однако это малодушие...» — снова упрекнул он себя. Ему бы всего только пять сэн, и он утолил бы голод. Пять сэн, пять сэн! Перед его глазами отчетливо рисовалась никелевая монетка — такая серенькая, немного поменьше, чем десять сэн... Пять сэн! Их нет — и вот он так голоден! Синчхоль невольно оглянулся: не уронили ли, на счастье, эти мужчина и женщина, платя за воду, пять сэн? Он поискал глазами, но ничего не обнаружил. Молодые люди купили попугая и направились к выходу. — Попугай, скажи-ка что-нибудь... — насмешливо проговорила женщина, разглядывая его, и залилась смехом. «Сколько таких монеток по пять сэн отдали они за попугая?» — попытался прикинуть в уме Синчхоль. Молодая пара теперь, вероятно, отправилась домой. «Женился бы я на Окчоми, вот так же прогуливались бы вместе», — промелькнуло у него в голове. «Надо и мне идти, вдруг Памсон уже дома. Разнес вечерний выпуск и вернулся», — подумал Синчхоль, когда пара скрылась из виду. Спустившись на лифте вниз, Синчхоль чуть не столкнулся с одной из прежних знакомых. Растерявшись, он свернул к столовой и принялся разглядывать образцы блюд на витрине. Вот рис с кэрри[51], яйца суси[52]. Но созерцать эти яства было выше его сил. Синчхоль отвернулся от витрины и вновь очутился лицом к лицу со своей знакомой. — Быть не может! Неужели Синчхоль? — воскликнула она. Синчхоль торопливо сдернул с головы фетровую шляпу и заложил руки назад. Стараясь скрыть потрепанные ботинки, он придвинулся поближе к витрине. — Да, действительно давненько не встречались, — пробормотал Синчхоль. — Почему не приходите гулять? — Да... Да... все недосуг... Стоять возле столовой было еще мучительней. Скорей бы она ушла, но она, видимо, не спешила. Он волей-неволей попятился. — Так я пойду... Женщина смерила его недоуменным взглядом с ног до головы. — До свидания... Так приходите же гулять. — Да... Да... Синчхоль, словно за ним гнались, выскочил за дверь «Мицугоси» и вздохнул. По спине струились капельки пота, это вызывало зуд и раздражало, а он не мог даже почесаться, опасаясь взглядов прохожих. Он вышел на главную улицу. Звуки музыки, льющиеся справа и слева из музыкальных магазинов, стук гэта[53] по асфальту, голоса торговцев и покупателей, доносившиеся из каждого магазина, — все это сливалось в непрерывный гул. Народу в это время — что сельдей в бочке. Все торопятся куда-то, шагают, выпятив грудь и энергично размахивая руками. Синчхоль же еще больше опустил плечи, ссутулился. Он ощутил запах помады — впереди шел молодой японец, одетый в юката[54]. Голова его блестела от помады, лицо сияло, словно он только что выкупался. Синчхоль сразу почувствовал неприятный запах собственного тела. Ноги отяжелели, будто к ним подвесили стопудовые гири. Он подошел к дому Памсона, но опять не застал его и направился в район, где тот разносил газеты. Наконец послышался звон колокольчика[55]: навстречу шел Памсон. Завидя Синчхоля, он подмигнул ему, кивком головы указывая на переулок. Синчхоль завернул туда. Памсон огляделся по сторонам и сказал, понизив голос: — Ты должен поехать в Инчхонь. Отправляйся хоть сегодня вечерним поездом, но не позже завтрашнего утра. — В Инчхонь? Хорошо... Я, конечно... Синчхоль вытер лоб и слабо улыбнулся. Памсон вынул бумажник и вручил ему три бумажки по одной иене. — Это тебе на дорожные и другие расходы. Приедешь в Инчхонь, сразу же иди на биржу труда... Да, в Инчхоне разыщешь вот эту квартиру... Он достал клочок бумаги и карандаш, черкнул несколько слов и показал Синчхолю. Синчхоль внимательно прочитал и кивнул головой. Памсон сунул бумажку в рот и проглотил, затем внимательно осмотрел переулок. — Ну, счастливо!.. — И торопливо зашагал дальше. Синчхоль держал три иены и чувствовал, что походка его стала значительно легче. «Прежде всего — хорошенько поесть», — подумал он и выбрался из переулка. Про себя он еще раз повторил прочитанное на бумажном клочке: «Инчхонь, улица Вери, номер десять. Ким Чхольсу». Он подкрепился двумя блюдами за пять сэн в клубе Уми и, выйдя на улицу, почувствовал прилив энергии. Когда он, купив пакетик риса и несколько хлебцев, пришел домой, Ильпхо и Кихо валялись, обвязав головы полотенцами, но при виде Синчхоля проворно встали, схватили хлебцы и принялись с жадностью их поглощать. — Раз ты купил еды, — проговорил Кихо, быстро покончив со своим хлебцем, — у тебя, может, еще остались деньжата? — Дай мне пяток сэн, выпью кружку неочищенной водки, а то что это за жизнь? — Ильпхо протянул руку, бледную, без единой кровинки, как у курильщика опиума. — У нас дров даже нет, а тебе лишь напиться? Давай-ка сюда деньги, дров надо купить да поесть приготовить. И к первой присоединилась вторая рука. Синчхоль дал десять сэн на водку и тридцать сэн на дрова, скинул с себя костюм, шляпу и швырнул на пол. Повеселевшие Ильпхо и Кихо ушли. Синчхоль снял влажное от пота белье и вывесил наружу. Больше он не позволит себе предаваться сомнениям. Покидая дом отца, даже еще раньше, разве не был он готов на все? А теперь — едва соприкоснулся с трудностями и уже затосковал по прежним дням! Так бранил он себя в душе и твердо решил: как только приедет в Инчхонь, сразу же преодолеет это свое малодушие и станет настоящим боевым товарищем рабочих. «Выехать не позже завтрашнего утра. Чхольсу. Улица Вери, номер десять», — повторял он, шагая по комнате. Скоро вернулся Кихо. Он купил дров и немного закуски. — Слушай, а как мы тебя дожидались! Совсем было умирать собрались. На Ильпхо просто смотреть противно: целый день сидел да почесывался! «Что они будут делать, когда я уеду в Инчхонь?» — подумал он. Чем так жить, вернулись бы лучше домой в деревню, занялись бы сельским хозяйством, как их жены, и куда больше было бы пользы. Так нет, они предпочитают ютиться по углам в Сеуле, невзирая на голод и нужду. Ради чего? Единственное их желание — пристроиться к какому-нибудь капиталисту и управлять журнальным или газетным издательством. Мнят, что только так могут добиться мало-мальской известности и влияния на массы. Когда животы подведет, они помалкивают, а только набьют желудки, начинают критиковать: эта газета такая-то! Этот журнал такой-то! Послушаешь иногда их споры, подумаешь, что это первейшие оппозиционеры. А на поверку — серенькие людишки, бездельники с затхлой мелкобуржазной психологией! В чем их героизм? Одна видимость! Синчхоль с горечью сознавал, что и он, особенно судя по сегодняшнему случаю, недалеко ушел от них. Утром, сказав товарищам, что идет побродить, Синчхоль пошел к Колокольному собору — проверить время на магазинных часах. Скоро его поезд. Как ехать на вокзал: на трамвае или на автобусе? И хоть только еще вчера монета в пять сэн казалась крупной суммой, сегодня, едва завелись гроши в бумажнике, ему уже не хотелось идти пешком. «Была не была, проедусь на трамвае, так давно не позволял себе этого!» Он бросился за проходившим трамваем и вскочил на ходу. Трамвай мчался. Вот торговый дом Хвасин, вот и Золотой Гонг. Тут в трамвай набилось полно служащих, направляющихся, видимо, к Драконовой горе. Синчхоля стиснули. Однако это было ничто по сравнению с тем, что он испытывал, ловя на себе чей-нибудь взгляд. Он все время боялся: «А вдруг среди них...» — и он отворачивался. Но вот взгляд его упал на рикшу, бегущего от Корейского банка. У женщины, сидевшей в коляске, был растерянный вид, словно она впервые пользовалась этим видом транспорта. Синчхоль внимательно пригляделся и ахнул от изумления. Он рванулся, желая протискаться к выходу, но не успел. На рассвете следующего дня Синчхоль надел спецовку, которую раздобыл ему товарищ Чхольсу, навертел обмотки, обул рабочие ботинки и вышел на улицу. Город еще спал в серой мгле. Лишь тут и там маячили редкие фонари. Синчхоль еще раз повторил наставление, полученное ночью от Чхольсу, и пошел в указанном направлении. Рассвет Инчхоня — рабочего Инчхоня! В обмотках, с платками на шее, рабочие торопливо шагали кто куда в поисках работы. Работницы в надвинутых на лоб платках, со свертками в руках, — очевидно, завтраками, появлялись и исчезали в свете фонаря возле, как он узнал потом, обдирочной фабрики. Синчхоль зашел позавтракать в ближайшую харчевню. Точь-в-точь как сеульская пивная. Рабочие торопливо ели, дуя на дымящийся суп. Некоторые стоя выпивали выдаваемую под проценты кружку рисовой браги. Поев и выпив, быстро уходили. То и дело входили новые посетители. Синчхоль сел на деревянную скамейку. Какой-то рабочий, не дождавшись, пока ему подадут, взял миску, отправился к котлу с супом и, получив порцию, вернулся на место. Синчхоль, похлебав супу, посмотрел на своего соседа-рабочего, который пришел вместе с ним. Тот уже доедал кашу. «Так вот заглатывать наспех — разве может пища хорошо перевариться?» — ужаснулся Синчхоль. А когда он опять оглянулся на соседа, тот залпом выпил брагу, утер губы кулаком и бросился к выходу, мельком взглянув на Синчхоля. Синчхоль не мог съесть всего, поднялся и тоже ушел. Во рту остался горьковатый привкус неочищенной водки. Он зашагал по направлению к павильону Чхонсок. Здесь строили большую текстильную фабрику и потому ежедневно набирали по четыреста — пятьсот человек. Шагая в этот предрассветный час по улицам Инчхоня и глядя на серое до горизонта небо, Синчхоль почувствовал прилив отваги. Но тут же вспомнил, как готов был выскочить на ходу из трамвая, увидев в коляске рикши застывшую от удивления Сонби, и кровь бросилась ему в лицо: какая безответственность, какая бесхребетность! Человек в его положении не имеет права гоняться за женской юбкой. Вот и павильон Чхонсок. Несколько сот рабочих уже окружили японского надсмотрщика и невообразимо галдят, выпрашивая номерки. Синчхоль присоединился к ним и с большим трудом получил номерок — маленькую дощечку с пометкой «№ 50». — Ну живее, живее поворачивайтесь! Под зычные окрики надсмотрщика рабочие, завладевшие номерками, принимались по его указанию за работу. А те, которым не досталось номерков, стояли понурясь и с завистью смотрели на «счастливчиков». — Эй, ко мне, тащите вот это туда, — командовал надсмотрщик. Синчхоль смешался с разнородной толпой. Велели переносить мешки с цементом. Рабочие по очереди взваливали на плечи мешки и рысью устремлялись к указанному месту. Синчхоль тоже подставил плечо под мешок. В плече что-то хрустнуло, а грудь сдавило так, что он не мог вздохнуть. Глядя, как наваливают мешки рабочие, он думал, что это не так уж тяжело, не тяжелее мешка с мукой. И, лишь взвалив на себя, понял, что это ведь камень, превращенный в муку, вот почему так тяжело. Ноги у него подкашивались. — Эй, ты, шевелись, шевелись, сукин сын! Окрик десятника явно относился к нему, и Синчхоль пошел быстрее. Невыносимо было дышать, грудь и плечи разламывало. Прижавшись щекой к мешку, Синчхоль прошел, шатаясь, около ста метров и со стоном рухнул на землю. С трудом поднявшись, Синчхоль поглядел на рабочих, которые лопатами размешивали цементный раствор. Казалось, они делали это без всякого напряжения. В мгновение ока разводили мешок цементной муки. Синчхоль смотрел на них с завистью. Нечего было и думать снова поднять мешок. Но он ведь получил номерок, надо как-то продержаться до конца дня. «Неужели не выдержу? Попробую еще». И он пошел, еле передвигая, казалось, стопудовыми ногами. В другой раз приказали перетаскивать кирпичи. Рабочие накладывали кирпичи в два ряда по тринадцати, а более сильные даже по пятнадцати и шестнадцати штук в ряд, и опоясывали их проволокой, связывая концы в узел. Затем приподнимали и, крякнув, взваливали на спину, покрытую мешком. Синчхоль побоялся сделать так и решил переносить кирпичи в охапке по одному десятку и вскоре в кровь стер руки. Подготовив очередную ношу, он почувствовал, как ноет все его натруженное тело. Он не мог притронуться к кирпичам — ему казалось, что они утыканы острыми каменными шипами. — Послушайте, так не годится — руки покалечите. Небось никогда такой работы не делали? Синчхоль взглянул — говорил тот самый рабочий, который сидел рядом с ним в харчевне. В его больших глазах, с двойным веком на одном, мелькнула улыбка. Он подошел и приладил к спине Синчхоля мешок. — Вот так держите, а теперь взваливайте на спину кирпичи, так гораздо удобнее, чем носить в руках. Ну-ка, попробуйте! Синчхоль взвалил, ноги у него подкосились, и он опять упал. Кое-как поднялся, дрожа всем телом, приложился губами к ушибленной руке и почувствовал, что вот-вот расплачется, словно ребенок. Собрав рассыпавшиеся кирпичи, он с чужой помощью взвалил их на спину. — Так взваливать трудно, на мешок — легче. Спину нужно сгибать вот так, поглядите. И Двойное Веко показал, как это делается. — Эй, вы, чтоб вам... давайте таскайте! — послышалось откуда-то сзади. — Вот еще, шумит! — заворчал Двойное Веко, шагая рядом с Синчхолем. — Вы, должно быть, на рисе разорились? На бирже труда то и дело появлялись люди, которые обанкротились на коммерческих операциях с рисом. Чтобы не умереть с голоду, они вынуждены были браться за любую, непривычную для них работу, и, конечно, как они ни старались, работа у них не спорилась. Этим самым они выделялись среди остальных, для кого тяжелый физический труд дело обычное и привычное. Синчхоль задыхался, обливаясь потом, и не мог даже ответить. Он чуть не падал. Двойное Веко помогал ему, поддерживая ношу сзади. Синчхолю же хотелось одного: сбросить этот груз и убежать. Проработав, не считая сорокаминутного обеденного перерыва, с шести утра до восьми вечера, Синчхоль окончательно выдохся. Вместе с Двойным Веком он отправился за получкой. Перед канцелярией, расположенной в бараке, сколоченном на скорую руку, толпились рабочие, спеша получить причитающийся им денежный квиток. Из канцелярии выкликали людей но номерам: «Такой-то номер, такой-то номер...» Прождав около часа, Синчхоль получил клочок бумаги, так называемую квитанцию, и пошел обменять его на деньги. И вот наконец он держит в руках свой первый заработок — сорок шесть сэн. Обычная плата за поденную работу пятьдесят сэн, четыре сэны вычли в виде комиссионных. Синчхоль вздохнул и огляделся. На улицах Инчхоня зажглись электрические фонари. Сновали продавцы рисового супа, стараясь уловить должников, и жены рабочих, разыскивающие своих мужей, чтобы купить что-нибудь на ужин. Синчхоль потерял из виду Двойное Веко. Поискал, поискал и остановился в раздумье, глядя на непрестанно мигающие фонари. Вот что такое эксплуатация чужого труда! Теперь он на себе познал тяжесть этой ужасающей эксплуатации чужого труда, о чем раньше он лишь читал в «Капитале», сидя за своим письменным столом. Добравшись до дома, Синчхоль упал на постель. Вернулся с биржи труда Чхольсу. — Ну, что, товарищ, очень тяжело? Синчхоль поднял голову: — А! Вы пришли! Да, я так намучился, что не могу с места двинуться! — Ну-ну, ничего... Да у вас нос в крови! — У меня? Тут только Синчхоль заметил, что у него из носа течет кровь. Чхольсу принес холодную воду и тряпку. Синчхоль хотел было приподняться, но не смог и шевельнуться.Он напряг все силы, как тогда, при переноске кирпичей, и тело его пронизала страшная боль. Пришлось предоставить Чхольсу ухаживать за собой. — Видно, эта работа не по вас, товарищ. И хоть тело Синчхоля словно онемело, все же замечание обидело его. Он крепко зажмурился, вздохнул и застонал. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним вставала страшная картина: он таскает кирпичи. Напрягаясь, взваливает он огромную тяжесть на плечи и шагает, шагает... — Вы ели что-нибудь? — Да, рисовый суп... — Так или иначе, товарищ, работу эту придется оставить, так... — И, запнувшись на полуслове, Чхольсу внимательно посмотрел на Синчхоля. Тот глядел на него в упор, затем перевел взгляд на стену. Чхольсу поднялся: — Я еще не ужинал, схожу поем. — Конечно, почему не сходить. А я раскис совсем, наверно, усну как мертвый. Хотя Чхольсу целый день проработал в порту, он, однако, не обнаруживал особых признаков усталости. Проводив Чхольсу взглядом, Синчхоль повернулся лицом к стене и вскрикнул: до того болели все кости. «Эксплуатация чужого труда!» Он дважды убедился, какой вес имеет этот термин. А перед глазами маячили кирпичи, кирпичи, кирпичи... Чтобы избавиться от страшного видения, он попытался переключиться на воспоминания прошлого. И опять перед его мысленным взором промелькнула Сонби на рикше. Сонби, затерявшаяся в лабиринте улиц Сеула. «Зачем она приехала в Сеул? Может быть, с мужем? Или вышла наконец замуж Окчоми и перебралась в Сеул, в дом мужа?» Синчхоль терялся в догадках. Окчоми, Окчоми! Судя по тому, что он постоянно думал о Сонби и так взволновался, случайно увидев ее на улице, он, должно быть, любит Сонби. Но он ведь ничего не знал о ней, она всегда оставалась для него неуловимой. А вот сейчас он так и видел перед собой Окчоми, ее лицо, веселые и задорные глаза, ее руки! «Окчоми! Неужели она вышла замуж? Или меня еще не забыла?.. Какой урок мне!» На глаза его сами собой навернулись слезы. Таким милым представлялось ему теперь лицо Окчоми, когда она, развернув шоколад, взглянула на него, велела раскрыть рот и покраснела. «Окажись я опять на том месте... — размечтался он и тут же оборвал себя: — Подлец!» Издалека донеслись гудки такси. Тан! тан!.. Комнатные часы пробили одиннадцать раз. Надеясь заснуть, Синчхоль закрыл глаза. И опять — кирпичи, кирпичи... Скоро вернулся Чхольсу, и Синчхоль заговорил о том, что снова попытается пойти на биржу труда. Чхольсу улыбнулся: — Если вы еще раз так наломаетесь, проболеете дней десять. Лучше уж оставьте! Ему нравилось стремление Синчхоля испытать труд, но его неприспособленность была очевидной и беспокоила его. Синчхоль хотя и улыбнулся в ответ Чхольсу, однако на душе у него было мрачно. Если сравнить его с Чхольсу по телосложению, он, пожалуй, ни в чем тому не уступает. Только он не закален в труде; лишь бы преодолеть первые трудности, а дальше не будет так тяжело. Что, он не справится с работой, которую делает Чхольсу, тысячи других людей? «Выполню! Умру, а попытаюсь! — решил Синчхоль. — Куда мучительнее сидеть на хлебе, заработанном трудом товарищей». Чхольсу угадал настроение Синчхоля. — Ну что ж, помучайтесь еще денек, завтра с утра пойдите в порт. Плата там ниже, зато гораздо легче, чем таскать кирпичи. Синчхоль слегка нахмурился, потом рассмеялся и покачал головой: — Нет, кирпичей больше не хочу! При одном слове «кирпич» его всего передернуло и зажгло пальцы. Любая другая работа, пусть еще тяжелее, только не таскать кирпичи! Он видеть их больше не может. Потолковав с Чхольсу о разного рода портовых работах, Синчхоль решил, что с рассветом он непременно отправится вместе с ним в порт. Когда они подошли к таможне, несколько десятков рабочих уже окружили человека в очках с никелевой оправой и кричали на разные голоса: — Десятник, десятник! Чхольсу протиснулся сквозь толпу к человеку: — Десятник! Примите его. Никелевые Очки глянул поверх очков на Чхольсу и помахал перед ним красным шнурком, который держал в руке. Чхольсу схватил его и вернулся к Синчхолю. — Этот шнурок — номер. Обвяжите его покрепче вокруг запястья. У Синчхоля сердце забилось при виде этого красного шнурка. — Я пойду на вокзал носить грузы... Ну, помучайтесь еще денек, — бросил Чхольсу уже на бегу. Синчхоль еще вчера слышал от Чхольсу о работе, которую выполняют «красные шнурки», но, оставшись без товарища, совершенно растерялся. Приглядываясь к людям с красными шнурками на запястье, он медленно побрел за ними. Это строительство порта Инчхоня — сердца Кореи — по масштабам было самым крупным в стране. Сюда заходят корабли водоизмещением в несколько тысяч тонн, набирают топливо. Вот и сейчас тут стоит большой пароход. Черный дым клубами вырывается из огромной трубы. На темнеющем вдали острове светит маяк, позади него пролегла линия горизонта. Рабочие все прибывали. За небольшой промежуток времени несколько тысяч рабочих заполнили место строительства и гудели, как рой пчел. Половина из них работала носильщиками с чиге, остальные — кто во что горазд: кто возил грузы на тачке, кто на себе бегом носил кули с рисом на склад, иные попарно переносили тюки на палке, положенной на плечи, а то и по нескольку пар на одну груду, суетились, сталкиваясь друг с другом. Никелевые Очки взошел на палубу парохода. — Эй, вы, живее настелите помост! «Красные шнурки» кинулись на зов, перебросили от пристани к пароходу бревно, на нем укрепили широкую доску, и помост был в момент готов. Один из «красных шнурков», стоя у подъемного крана, поворачивал ручку, и подъемный кран со скрежетом опускал крюк к складу с товарами. По палубе расхаживал японец-контролер и просматривал поступавший груз. Время от времени он делал повелительный жест, и человек, внимательно следивший за его знаками, поворотом ручки останавливал кран. Немного погодя контролер опять махал рукой, и кран снова скрежетал и нес дальше объемистые грузы. Рабочие, столпившиеся на пристани, следили за погрузкой и невообразимо галдели. Груз в несколько сот килограммов с грохотом опускался на пристань. Рабочие набрасывались на него, стараясь опередить друг друга, хватали, кто сколько мог, и передавали «красным шнуркам». Те торопливо подхватывали ношу крючьями и с трудом взваливали на чиге грузчикам. Синчхоль тоже хотел использовать крюк, который дал ему Чхольсу, но совершенно не знал, как его применить. И ему поневоле пришлось, закинув крюк за спину и стоя в паре с другим «красным шнурком», безостановочно поднимать груз руками. Грузы — чугунные плиты, громадные ящики, машины для очистки риса. Синчхоль изнемогал, руки у него вот-вот, казалось, оторвутся. — Эй, вы, пошевеливайтесь! — сверкнув глазами, крикнул Никелевые Очки. У Синчхоля из пальцев — видно чем-то ободрал их — сочилась кровь, и он не мог остановить ее. Вытер пальцы о свои летние брюки до колен и передал груз одному из непрерывно сновавших рабочих. — Эй, ты, послушай, надо крючком, зачем же руки калечить! — закричал, смеясь, его напарник. Синчхоль приподнял груз крюком и нечаянно задел грузчика по лицу. — Ты с ума сошел? Чего в лицо тычешь?.. Чуть глаза не выбил, дьявол! Гляди лучше! — яростно набросился он на Синчхоля. У того комок подкатил к горлу. Грубые речи и действия этих мужланов так же тяжело ранят, как чугунные плиты и гвозди, торчащие по краям ящиков... — Слушай, ты, поднимай живее! Синчхоль попытался было дрожащими руками поддеть большой ящик, но тот все время соскальзывал с крюка, и в конце концов он сам свалился на него. — Эй, что такое... Ты ж угробишься в такой спешке! Шел бы ты отсюда! Кажется, «красному шнурку», что стоял напротив, хотелось, чтобы Синчхоль поскорее убрался прочь — он не помогал, а, наоборот, сам был лишним грузом. Синчхоль, едва придя в себя, поднялся. Он и сам предпочел бы скрыться подальше, чем ждать, что тебя искалечит в любую минуту. Он осмотрел себя: кажется, все цело. Пыль из тюков, пыль от движения тысяч тел, не оседая, столбом стояла в воздухе. Солнце палило нещадно. У Синчхоля совсем иссякли силы, во рту пересохло, весь он был словно набит пылью. Пить! Но нельзя отлучиться ни на минуту. Среди бесчисленной массы окружающих его людей, казалось, не было ни одного столь беспомощного и слабого, как он. С лесозавода доносилось жужжание пилы. — Эй, ребята! Пошли туда, поборемся в свое удовольствие! — закричал «красный шнурок», стоявший напротив Синчхоля. Обернулся и Синчхоль. Не поделив ноши, схватились два парня. Воспользовавшись моментом, их груз взвалил и понес третий. Тогда драчуны и вовсе вошли в азарт. Три или четыре раза принимались с передышкой бороться. Одного из них — Двойное Веко — Синчхоль сразу узнал. Ему хотелось подойти и разнять их, но где там устанавливать порядок с его силами, тем более что не было человека, который бы не глядел с любопытством на эту борьбу. Наконец они встали, отряхиваясь. Вспыхнул электрический свет, и через некоторое время Синчхоль вместе со всеми «красными шнурками» отправился вслед за Никелевыми Очками получать деньги. Заслышав голос Двойного Века, он оглянулся. С чиге за спиной тот плелся, еле волоча ноги. Видно, и он порядком устал. — Товарищ! — позвал Синчхоль, когда Двойное Веко поравнялся с ним. Тот остановился и начал вертеть головой, не зная, кто позвал его. — Это я зову вас. Двойное Веко уставился на Синчхоля. — И вы здесь? — И зашагал рядом с ним. — Сколько денег заработали сегодня? — Какие там деньги! Только боролся! — А зачем вы боролись? — Да просто так! — Двойное Веко почесал голову. — Заходите как-нибудь ко мне в гости, — пригласил Синчхоль. — А где вы живете? — По дороге на базар есть католический костел... — Как вы сказали, не понял: католический — что? Синчхоль указал на перекресток. — Вон там высится дом с заостренной крышей. — А-а! Так это же христианский храм! Теперь понял! — Подальше будет общественная уборная. — Да, да. — За ней — склад, где продаются колотые дрова, а за ним — маленький домик, крытый соломой. — Понял. — В задней комнатке этого дома я и живу, — объяснил Синчхоль. — Да, да, как-нибудь зайду. — Непременно приходите. — Ладно! Двойное Веко, даже не попрощавшись, зашагал крупным шагом. Никелевые Очки забежал в какую-то японскую гостиницу. Следовавшие за ним «красные шнурки» остановились в ожидании, шумя и пересмеиваясь. Вспомнив, как они передразнивали и насмехались над ним за работой, Синчхоль с тоской ощутил свое одиночество. А он-то хотел стать их товарищем! Одни насмешки, и ни капли сочувствия! На цементной стене противоположного дома в свете фонаря сверкали золотые буквы: «Бар «Кинг». Легкой, танцующей походкой в его сторону направлялась Какая-то модница и с ней щеголь. Синчхоль встал и прислонился к стене. Мужчина и женщина прошли мимо, распространяя тончайший аромат. Перед его глазами тотчас же всплыла картина, как они с Окчоми любовались на морском берегу закатом солнца: взметнувшееся пламя озаряло лицо и одежду девушки. Он невольно глубоко вздохнул. Окчоми стала вдруг мучительно милой. Но он тут же одернул себя: «Опять подлые мыслишки!» Появился Никелевые Очки. «Красные шнурки», которые разбрелись было кто куда, окружили его и стали обменивать красные шнурки, зажатые в кулаке, на девяносто пять сэн, — с вычетом пяти сэн за обед. Получил свои девяносто пять сэн и Синчхоль. «Красные шнурки», не оглядываясь, расходились поодиночке. Как-никак, проработали вместе целый день, и Синчхолю хотелось бы попрощаться с рабочими, но они не обращали на него никакого внимания. Синчхоль медленно поплелся прочь. Он остро чувствовал, что от рабочих его отделяет какая-то невидимая стена. Это оставляло в нем горький осадок — ему представлялось таким важным достигнуть сближения с ними. Синчхоль съел порцию рисового супа в харчевне на краю дороги и пошел домой. После этого дня Синчхоль и думать перестал о бирже труда. И день за днем кое-как перебивался на то, что уделял от своего заработка Чхольсу. Как-то поздним вечером в дверь постучали. — Дома? — В комнату ввалился Двойное Веко. Синчхоль быстро спрятал письмо, которое он писал товарищу Памсону, и протянул руку. — А, вы! Очень рад. Я все ждал вас, не идете, думаю — забыли... Садитесь, пожалуйста. Синчхоль, радуясь от всего сердца, тряс его сильную руку. Двойное Веко улыбнулся, сел по приглашению Синчхоля и оглядел комнату. — Болеете? Синчхоль посмотрел на него испытующе: по-видимому, Двойное Веко спросил так, заметив, как он осунулся. — Нет! Двойное Веко приглаживал волосы, слегка наклонив голову. Его давно не стриженные красивые волосы посерели от пыли. Хоть он и не жаловался, Синчхолю нетрудно было догадаться, насколько он устал за день. Каждый раз при воспоминании о собственной попытке таскать железные плиты у него начинали трястись руки. Синчхоль вынул из-под изголовья несколько томов книг и отбросил их. — Прилягте здесь, вы, наверно, очень устали. Двойное Веко искоса взглянул на Синчхоля и даже немного отстранился. — Нет, нет... что вы... — Пожалуйста, прилягте. Синчхоль придвинулся поближе. На него пахнуло потом и еще каким-то неприятным запахом. Он невольно поморщился, но тотчас же изобразил улыбку. На одежде гостя он увидел засохшие разводы от пота. Двойное Веко смущался все больше и потихонечку отодвигался от Синчхоля, почесывая в затылке. — Ну что же вы, прилегли бы... Сегодня тоже, наверно, работали? — Да. — Где? Опять в порту? — Зачем же? Перед Вольми роют канаву, туда ходил. — А вознаграждение там какое? Двойное Веко недоуменно поглядел на него. «Может, он не понял слово «вознаграждение»?» — подумал Синчхоль, и ему стало ясно, что прежде всего ему надо усвоить язык, понятный рабочим. — Так... сколько платят за поденную работу? — повторил он свой вопрос. — Да... если хорошо работать — семьдесят — восемьдесят сэн, а нет — так сорок — пятьдесят. — Так, так... Усаживайтесь поудобнее, да поговорим по душам, кстати, ведь мы до сих пор не знаем, как звать друг друга. Мое имя — Ю Синчхоль, а ваше? — в упор посмотрел Синчхоль на Двойное Веко. — Мое?.. Чотче. — Чотче... «Первый». Хорошее имя. А родом откуда? Чотче колебался: назвать или нет? И потупился. — Да ниоткуда! — Ниоткуда? — пробормотал Синчхоль. Эти слова задели его за душу. Люди, подобные Чотче, пожалуй, не бросают их зря. При слове «родина» в памяти Чотче всплыли Ли-собан и мать. «Может быть, они уже умерли? А может, живы и ждут его возвращения с хорошим заработком?» И сердце у него вдруг заныло. Уходя из дому, он надеялся вернуться к Ли-собану и матери, заработав деньги, но расчеты его не оправдались. Вечно усталый, он и сам не заметил, как все реже и реже стал вспоминать о них. Синчхоль внимательно посмотрел на руки Чотче и сравнил их со своими. Им овладело смущение, и в то же время как позавидовал он Чотче, обладающему такими, словно литыми из чугуна, руками! А он до сих пор только учился и не приобрел ничего, кроме слабого тела и слабой души. — Вам очень трудно работать или нет? — спросил он у Чотче. — С утра еще ничего, а к заходу солнца трудновато. — Да? Даже вам? Вы с детства на такой работе? — Нет, раньше я только землю обрабатывал... Синчхолю очень нравились его простая речь и низкий голос. И сам не зная почему, он мало-помалу проникался к нему доверием. — Знаете, а я совсем не могу работать. Приходите почаще, научите меня. — А чему учить-то? Как начнешь работать, так и пойдет. — Чотче рассмешила просьба научить работать. К тому же ему вспомнилось, с каким напряжением таскал на днях Синчхоль кирпичи. Смех этот еще больше расположил Синчхоля. — А скажите... на пристани за переноску грузов, мешков с рисом, как устанавливают плату? — Да по весу. За мешок риса — от пяти до шести ри[56], за ящики — три ри, за другие грузы — пять ри. Так! Значит, перетаскав сотню мешков риса, получишь от пятидесяти до шестидесяти сэн... Синчхоль сдвинул брови, стараясь представить себе, как бы он перетащил сто мешков риса. Подумал о тысячах людей, работающих, взметая пыль, в порту, и невольно вздохнул. Теперь он совершенно ясно сознавал свой долг перед ними. — А вы в тот день сколько заработали? — Не знаю, забыл. — Я говорю о том дне, когда вы боролись. А зачем вы отнимали друг у друга груз? — Да так, не знаю. — Однако, товарищ, вы больше так не боритесь. Разве вы не рискуете повредить при этом друг другу? Разумеется, всякую борьбу интересно довести до конца. Но разве не бывало случаев увечья и кровопролития в результате такой борьбы? — Пустяки! Нечего ему было из под носа чужой груз выхватывать! Вот и получил... А скажите, — спросил вдруг Чотче, — почему вы на такой работе работаете? — Я-то? Приходится... Кусок хлеба зарабатываю!.. — уклончиво ответил Синчхоль. — Благородным людям, вроде вас, наверно, лучше работать волостным писарем или полицейским. Входя в комнату, Чотче видел, что Синчхоль писал, посмотрел на его одежду, развешанную на стене, на книги, сложенные под лампой, и решил: Синчхоль не похож на рабочего человека. Синчхоль не сдержал улыбки. — По-вашему, хорошо быть волостным писарем или полицейским? — Конечно, хорошо! — А я завидую вашему труду. Чотче засмеялся. Упомянув о писаре и полицейском, он вспомнил о тех, которых знал там, у себя на родине. Сердце его пронизала жгучая боль, и ему вдруг страшно захотелось порасспросить Синчхоля. — А... полицейский... — Чотче хотел что-то сказать, но замялся. Синчхоль внимательно посмотрел на него. — Так полицейский — что? — Да я... Что значит — нарушить закон? Растолкуйте мне хоть немного, как жить в ладу с законом?* * *
Каннани вернулась поздно ночью. Взглянула на полусонную Сонби и улыбнулась: — Клопы не заели? — Как же не заели? Заели... Ты куда ходила? — Я там... кой с кем встречалась. Каннани сбросила с себя выходную одежду, повесила ее и подсела поближе к Сонби. — Слышно, в Инчхоне большая текстильная фабрика открывается и будто много набирают работниц... Больше тысячи работниц требуется. От Сонби и сон отлетел. Искорки загорелись в заблестевших глазах. — А я не могу туда поступить? — Думаю, можешь. Я тоже собираюсь поехать! Поедем вместе, а, Сонби! — Каннани улыбалась. Она пригладила волосы и воткнула готовую вывалиться шпильку. Сонби задумалась, лицо ее зарумянилось. Фабричные машины, о которых слышала она от Каннани, мелькали у нее перед глазами. — Но я же ничего не умею! А если плохо буду работать — выгонят? Сонби заглянула Каннани в лицо. Она недавно приехала в Сеул, ничего не знает, всего боится, все ее смущает. — Зачем же? С тобой этого не случится. Подучишься и будешь хорошо работать. Дети и то поступают. Так что пусть это тебя не тревожит. Сонби облегченно вздохнула. — Знаешь, Сонби, я готова хоть сегодня поехать на текстильную фабрику, — заявила Каннани. — А когда же поедем? — В самое ближайшее время... но, понимаешь, есть важные дела и, видимо, придется отложить на день-два. Каннани снова подумала о задании, которое только что поручил ей Тхэсу, и повторила про себя: «Ю Синчхоль... Инчхонь, Сэчжон, дом пять». — Инчхонь — это в Сеуле? Каннани быстро взглянула на Сонби и рассмеялась. — Нет, отсюда около ста ли. На поезде ехать нужно. Сонби вспыхнула. Ведь вот Каннани не училась, а знает такие культурные слова, которые ей, Сонби, неизвестны, и нет ничего, чего бы Каннани не знала. В это время из другой комнаты раздался смех. Они замолчали, косо поглядывая на дверь. — Сегодня, видно, не голодные, раз так смеются... Сонби встала и расстелила постель. — А что это за люди? Сонби очень стесняли эти любопытные соседи: нельзя даже открыть свободно дверь, и в то же время ее интересовало, что это за мужчины — сидят целыми днями в комнате, никуда не выходят. Когда Каннани уходила на завод, она запирала дверь на замок. — Эти люди — безработные... «Безработные» — что это за слово?» — подумала Сонби и хотела было спросить у Каннани, но не решилась. — Они из благородных, образованные, да только в этом обществе не нашли места, где бы их знания пригодились... поэтому так... Каннани задумчиво смотрела на свет лампы и, стараясь не забыть, твердила про себя имя: «Ю Синчхоль». Она крепко запомнила слова, сказанные ей Тхэсу. Сонби казалось странным, что каждый раз, возвращаясь поздно, Каннани о чем-то глубоко задумывалась. — Сонби, ты уже давненько в Сеуле, а мне все некогда, я тебе ничего еще не показала; пойдем завтра в парк на Южной горе? — Парк на Южной горе? А что это такое? — Похоже на то, что у нас, вокруг озера Гневного. Такие же горы... Помнишь, мы пропадали там целыми днями, объедались щавелем... Ах, как хочется увидеть маму! При слове «щавель» Сонби ясно увидела руку маленького Чотче, ткнувшего ее в глаз, и ей вдруг так захотелось спросить, не приходилось ли Каннани встречать Чотче. Но Сонби не знала, в Сеуле ли Чотче, да и Каннани так замкнута. Сонби поникла головой. На следующий день они отправились в парк. — Вот там — синтоистский храм[57], — указала Каннани на возвышавшееся впереди сооружение. Сонби только кивала головой, хотя и не могла понять, что это значит. Ее испугала каменная лестница, голова у нее закружилась. — И по ней туда надо взбираться? — обернувшись, спросила Сонби. — А что? — Другой дороги нет? Поняв настроение Сонби, Каннани рассмеялась. — Э-э, да ты, видно, совсем деревенская! Убиться боишься? Тогда пойдем другой дорогой. Миновав храм, они вошли в сосновый лес и сели передохнуть. При легких порывах ветра с деревьев, слегка задевая края их юбок, медленно падали листья. Сонби поймала листочек. — Уже осень! Как быстро летит время! — сказала Каннани, глянув на листочек в руке Сонби. Та подняла глаза на Каннани и улыбнулась: она только что подумала о том же. Они засмотрелись вдаль. Величаво высился дом из красных и белых кирпичей, под горой Пугасэн красовалось белое здание, такое массивное, словно его строили на миллионы лет, а позади, словно крабики, сгрудились крохотные лачужки. Звон трамваев, гудки такси... Они перевели взгляд. Темнея, возвышались Южные ворота, напоминая собой о тайнах древности. Сеть проводов, переплетенных, как паутина, сбегалась к центру. Там и сям светились вывески магазинов. — Неужели во всех этих домах живут люди? — удивилась Сонби. — Конечно, люди, кто же еще может жить?.. Когда Каннани в первый раз случайно встретила Сонби в Сеуле, даже тогда она поразилась красоте девушки; теперь же, по прошествии нескольких месяцев, она поняла, что тогда у Сонби был изнуренный вид. Каннани радовалась, видя, что Сонби так поправилась с тех пор, как приехала в Сеул, хотя они питались одним рисом. «Нужно как можно скорее привить этому ребенку классовое самосознание», — подумала она. — Сонби, ты ненавидишь Токхо? Сонби вспыхнула. Она не рассказывала Каннани о связи с Токхо, но та, видимо, сама догадалась. Поэтому ей было неприятно и стыдно всякий раз, когда Каннани вспоминала о родине. — Мне о многом бы хотелось поговорить с тобой, да все как-то не удавалось... Ну, скажи... как ты относишься к Токхо? Начнем с этого. Сонби покраснела до ушей и опустила голову. Смяла листочек в руке и до хруста сжала пальцы. Каннани посмотрела на Сонби и подумала: неужели она не забыла Токхо? Каннани допускала это, судя по своему прошлому. Пока Каннани, встретив Тхэсу, не обрела в нем руководителя, она все не могла забыть Токхо. И, даже увидав его во сне, кричала: «Господин! У меня, наверно, ребенок будет...» — задыхалась, плакала и просыпалась. Перед самым отъездом в Сеул она поняла, что Токхо перенес свою страсть на Сонби. Ревнуя, бродила она среди ночи вокруг дома Токхо, со смехом убежала однажды от преследования какого-то типа... Теперь, оглядываясь мысленно назад, понимает она, какой же дурочкой была тогда! А сейчас и Сонби выглядит такой же несчастной. Сонби от стыда не смела поднять глаз, притихла, съежилась вся. Физиономия Токхо представлялась страшной до тошноты; скорей бы уж Каннани переменила разговор. Каннани тоже было противно даже думать о Токхо. Она отвела глаза от Сонби и загляделась вдаль. «А сколько даже в этом прекрасном городе таких Токхо?» — молнией пронеслось у нее в голове.* * *
Через два дня Каннани и Сонби приехали в Инчхонь. Прежде всего Каннани предстояло разыскать некоторых товарищей, связанных с фабрикой. При их содействии они должны были устроиться на фабрику и даже получить справку о благонадежности в полицейском участке. Им был известен железный закон текстильных фабрик компании Тэдон, не позволявший жить кому где вздумается: всех работниц размещали в общежитии. Завтра три подруги уже мечтали устроиться там вместе, а сегодня до заката бродили по острову Вольми и Международному парку. — Инсук! Я немножечко пройдусь. — Каннани посмотрела на Инсук, затем перевела взгляд на Сонби. — Куда ты?.. А-а, искать того человека, которого днем искала? — догадалась Инсук. Еще когда они шли в Международный парк, Каннани сообщила, что собирается, якобы по просьбе одного сеульского товарища, навестить его брата, и повела их по улице Сэчжон. Она сразу нашла дом Синчхоля, но скрыла это от подруг и сказала, что попробует найти вечером. — Одна пойдешь... как же ты найдешь, не зная даже номера? — Что же делать! Пойду и, если надолго задержусь, значит, разыскала. — Каннани улыбнулась. Вечером, оглядевшись кругом, она направилась прямо к дому, который отыскала еще днем. Дом номер пять. Она с опаской вошла в ворота. Пытаясь определить, в какой комнате живет Синчхоль, она внимательно осмотрела дом, но, кажется, здесь была всего одна комната. Каннани, решив, что ошиблась, пошла было обратно, но, поколебавшись, вернулась и постучала: — Разрешите спросить. На стук выглянула женщина. Каннани пришла в некоторое замешательство. — А комната жильца здесь... Не дослушав, женщина вышла к ней: — Сюда проходите, пожалуйста, — и указала на закоулочек позади кухни. Каннани, окунувшись в темноту, остановилась перед маленькой дверью. Сердце у нее почему-то забилось, перехватило дыхание. За тонкой дверью мелькнула тень, послышался шелест переворачиваемой газеты. — Послушайте! — окликнула Каннани. Дверь отворилась, и появился мужчина, которого она как будто встречала где-то, и не раз. — Товарищ Ю Синчхоль? Синчхоль удивился, обнаружив за дверью в столь неурочный час молодую женщину, назвавшую его по имени. Но в следующее мгновенье догадался, что это связная от Чхольсу. — Совершенно верно! Пожалуйста, проходите... Войдя в комнату, Каннани вспомнила наконец, что Синчхоль — это тот самый юноша, который бедствовал в комнате как раз напротив той, что она снимала в Сеуле. И Синчхоль узнал Каннани. — А ведь мы с вами частенько встречались! По-моему, мы были соседями. — Да! Забавно, правда?! Вот ведь как бывает: жили товарищи рядом и не знали друг друга. Когда приехали? В Сеуле он, пожалуй, не отличил бы ее среди других работниц-текстильщиц, но сейчас, при более близком знакомстве, она показалась ему смелой и боевой. К тому же ее лицо без всякой косметики пылало при электрическом свете ярким румянцем. — Сегодня днем приехала... Как вам живется, очень тяжело? Каннани пытливо смотрела на Синчхоля и ждала, что он скажет. — Да что там тяжело... Какая тяжесть? А вы здесь по делу или на жительство перебрались? Синчхоль, по-видимому, заранее решил не выдавать своего настроения. Каннани на мгновение задумалась. — Я приехала сюда, чтобы поступить работать на текстильную фабрику. Или вам уже известно?* * *
Три подруги были приняты наконец в общежитие при текстильной фабрике. В небольшой, побеленной известкой комнатке в один кан[58] подружки снова поселились вместе. Они осмотрели общежитие площадью примерно в сто канов и ознакомились с фабрикой. Шелкопрядильная фабрика за сеульскими Восточными воротами — просто игрушечная по сравнению с этой. Здесь есть общежитие, а таких машин и такого оборудования в Сеуле и не видывали. Конечно, динамо-машина и шелкопрядильные машины и тут и там одинаковы по устройству, но здешние гораздо крупнее. И котел для коконов в Сеуле будто обыкновенный таз для умывания, и катушек не больше двух-трех на работницу, а тут котел — в форме вытянутого прямоугольника — мог вместить несколько сеульских котлов. И катушек — каждая работница должна обслуживать около десяти штук. Сонби сначала ничего не понимала, а Каннани и Инсук только цокали губами. Каннани и Инсук сразу получили номера — пятисотый и пятьсот первый — и приступили к работе. И только Сонби, как начинающая, была прикреплена к пятисотому номеру — Каннани, и стала учиться выравнивать нити. Шум электростанции сливался с шумом вертящихся катушек и ошеломлял Сонби. Она стояла подавленная и смотрела, как Каннани разматывала шелк. За что бы Каннани ни бралась, все спорилось у нее в руках. Она быстро засыпала в котел с горячей водой коконы, которые заранее доставляли молодые работницы-помощницы, и била их в кипящем котле маленькой метелочкой до тех пор, пока не растворялся клей, склеивающий нити кокона. После этого концы нитей начинали приставать к прутьям метелочки. Вначале шли плохие концы. Каннани быстро набрасывала их метелочкой на шипы, справа и слева насаженные в котле, снова погружала метелочку и снова вытягивала нити, уже настоящие, светло-желтого цвета. Каннани захватывала в левую руку концы нитей, а правой прикрепляла каждый конец к фарфоровой игле. И, наматываясь, тянулась шелковая нить. В Сеуле таких игл было две, ну три, но не десять, как здесь. Пока Каннани еще не наловчилась, она использовала три иглы, но ясно, что позже мало-помалу она приноровится. Вся южная стена фабрики была застеклена до самого потолка. Машины стояли в два ряда, а в проходе между ними прогуливался надсмотрщик. В Сеуле надсмотрщиков насчитывалось пять-шесть, здесь же, пожалуй, больше тридцати. Каннани была пятисотой, но за этим номером следовало еще несколько сот. Глянешь с одного конца в другой — и все сливается. Сонби раскраснелась и внимательно следила за нитями, вытягиваемыми из котла. Каннани уже успела ошпарить руку кипятком. На ярко-красных пальцах вздулись белые водяные пузыри. — Каннани, дай я попробую! — Сонби прильнула губами к ее уху. Под ухом Каннани, словно капельки росы, проступил пот. Каннани с улыбкой посмотрела на Сонби и покачала головой, продолжая выбирать нити и прикреплять их к фарфоровым иглам. — Только пришла, а хорошо работаешь, — услышала она. Глянула — а это надсмотрщик стоит напротив и присматривается. Обратил внимание и на Сонби. — Скорее учись... Будешь работать быстро, хорошие деньги будешь получать. Слушая надсмотрщика, Сонби смущенно притихла, теперь же совсем растерялась. А надсмотрщик все стоял и искоса поглядывал на ее румяные щеки. В это время ярко вспыхнул электрический свет. Сонби испуганно посмотрела на лампочку, потом глянула вокруг и увидела множество разных машин и толпящихся возле них работниц. «Что ж я-то, совсем уж дикая, что ли?» — подумала она и почувствовала, что ее самолюбие задето. — Сонби, попробуй-ка! — предложила Каннани, будто угадав ее мысли. Сонби схватила конец нити, но руки дрожали и не слушались ее. — Тихонько! Нитка оборвалась! Каннани нажала на педаль, и машина остановилась. Она продела конец нити в иголку и скрепила с другим концом. — Если нить оборвется, вот так надо связывать. Смотри, Сонби! А чтобы остановить машину, нужно сделать вот так. Тут, словно вихрь налетел, раздался звук сирены. Сонби широко раскрыла глаза. — Сонби! Гудок сирены означает, что нам пора уходить, наше место займет ночная смена и продолжит работу. Не успела она договорить, как нахлынули работницы ночной смены. Каннани быстро остановила машину, вынула намотанные катушки и присоединилась к выстроившимся перед контрольным пунктом работницам. — Сонби, пойдем! Пора уже! На фабрике снова, словно ветер, зашумели, загудели машины. Сонби пошла за Каннани. Зазвенел колокольчик в столовой. — Пойдем скорей! Звонок обедать зовет, наверно. И Каннани тоже плохо еще знала жизнь общежития, не постигла всего. Когда они подошли, сотни работниц уже заполняли столовую, которая занимала весь подвал общежития. В прямоугольной комнате отовсюду поднимался пар. Во всю длину тянулись четыре ряда деревянных скамей. На них, радуя глаз, были аккуратно расставлены миски с рисом и пиалы. У подруг разыгрался аппетит. Взяли ложки, попробовали: рисовая каша, несомненно рисовая, но какая-то сухая и отдает чем-то вроде керосина. Каннани посмотрела по очереди на Сонби, на Инсук. Те тоже переглянулись. — Что это за каша? — раздались недовольные возгласы из дальнего угла. Если бы хоть соус был вкусный, еще можно было бы есть, так и он пересоленный и отвратительно пахнет свежей рыбой. У них сразу пропал аппетит, хотя в животах и урчало от голода. Многие из работниц съели для виду по нескольку ложек и с глазами, полными слез, отставили миски. Работницы же, которые работали на фабрике давно и уже привыкли к этой каше, заворчали: — Видно, не очень-то проголодались! Раз попали сюда, придется вам есть эту аннамскую кашу! Вот поголодаете деньков сто — посмотрим! Что бы стали мы делать без аннамского риса? Вначале, отведав этой тухлятины, они тоже дней десять страдали животами, а потом ничего, притерпелись. Постепенно желудки их свыклись с этой пищей, а запах свежей рыбы уже не казался таким неприятным. Теперь они знали, что голодный человек съест даже несъедобное! Не прошло и часа после обеда, как в общежитии вновь раздался звонок. — Это еще что значит? — удивленно обратилась Каннани к одной работнице. — Не знаешь? Это зовут в вечернюю школу... Скорей все на занятия! — А не пойти нельзя? — Ни в коем случае! Странно! А разве ты не хочешь учиться? Пошли, пошли! И она засеменила мелкими шажками. По губам Каннани пробежала улыбка, и она оглянулась на подруг. Хотя Сонби и проголодалась, но слова «вечерние занятия» заставили ее подняться. Сразу вспомнилось ей, как обещаниями послать учиться подкупил ее Токхо, а потом обесчестил. Уняв дрожь в ногах, она вслед за другими вошла в лекционный зал. За кафедрой стоял в темных очках тот самый надсмотрщик, который днем похвалил Каннани. У него постоянно дергалось веко, и очки он носил, по-видимому, для маскировки этого недостатка. Когда все заняли свои места, надсмотрщик объявил, что отменяет сегодня обычные занятия, а принимая во внимание наличие многих новеньких, поговорит о правилах внутреннего распорядка на фабрике. Откашлявшись, он оглядел зал и продолжал: — По сравнению с другими маленькими фабриками и заводами наша фабрика имеет много преимуществ. У нас действительно заботятся о будущем рабочих и об их удобствах. Вечерняя школа, система распределения различных видов предметов первой необходимости, общежитие, наконец! Разве все это не требует значительных издержек?.. Надсмотрщик откинул туловище назад, выпятил живот и обвел взглядом помещение. — Предположим, вы идете и покупаете в городе предметы косметики и парфюмерии, чулки и прочее такое. Что же получается? За дорогую цену вам могут подсунуть всякую дрянь, а фабрика предлагает вам все необходимое по себестоимости. Такая организация целиком в ваших интересах, фабрика же при этом терпит даже убытки. Напряженно слушавшие работницы вздохнули. — И... да... на этой фабрике заботятся о вашем будущем и потому установили систему сбережений. Сбережения — залог вашего счастья! Фабрика высчитывает с работающих за питание и предметы первой необходимости, из оставшихся же денег вы делаете сбережения. Конечно, вы не можете заработать сколько вашей душе угодно, но, когда через три года вы уйдете, разве не пригодятся вам эти сбережения? — По его губам пробежала наглая улыбка. Засмеялись и работницы. — Если проработаете, удержитесь на фабрике три года, сможете после ухода обзавестись семьями, жить припеваючи и растить детей. Поступая сюда, вы заключили договор на три года, но три года — совсем небольшой срок. Если по прошествии этого времени захотите еще поработать — милости просим. Через три года фабрика опять будет делать набор, вы заручитесь рекомендацией полицейского участка и снова поступите, не так ли? Посудите сами, разве вы не избранные из многих, разве это не великое счастье — работать здесь? Где еще найдется такое хорошее место? А мало ли ходит людей вовсе безработных? Очки надсмотрщика сверкали при свете лампы. Он погладил бороду. — На этой фабрике заботятся о будущем работниц и строго следят за их поведением, поэтому запрещаются одиночные отлучки. Но поскольку все вы очень любите развлечения, то каждый год, весной и осенью, устраиваются пикники. Захватив с собой еду, вы организованно отправляетесь полюбоваться горами. Этой весной вам выдадут по себестоимости новую обувь. В настоящее время в канцелярии утверждается план пикника на остров Вольми... Среди женщин пронесся ропот. Каннани вскочила, придя в такое возбуждение, что у нее перехватило дыхание, и хотела что-то возразить, но надсмотрщик невозмутимо продолжал : — Дальше. На фабрике раз в три недели, в воскресенье, выходной день. На стадионе устраиваются в этот день спортивные игры и развлечения. Это необходимо для здоровья каждой из вас. Право же, это привилегии только нашей фабрики. И последнее: считая фабрику своим предприятием, вы должны соблюдать чистоту. Повышая производительность труда, вы сможете получать не только заработную плату, но и премии. Ленивые же не только лишаются премии, но еще и штрафу подвергаются. Учтите это. По команде бригадира работницы поднялись, как одна, попрощались с надсмотрщиком и покинули лекционный зал. Снова задребезжал звонок. Звук все нарастал. Не зная, что стряслось, подруги погасили в комнате свет. Каннани, крепко заснув с вечера, вдруг вскочила. Кругом тишина. Только с фабрики доносится шум машин. Она подошла к окну и неподвижным взором уставилась во двор. Она храбрилась тогда перед Синчхолем, а сегодня вот ее бросает в дрожь при мысли, что ей придется впредь действовать самостоятельно. Она знала, что существует взаимная товарищеская поддержка, но сейчас чувствовала себя страшно одинокой. За черными каменными стенами — словно в заключении. За окном, окружая спортивную площадку, высоко поднималась стена. Это сразу вызвало в Каннани беспокойство. Она пыталась найти, на счастье, хоть какое-то отверстие. Но в стене, сложенной из кирпича с цементом, нельзя было отыскать щелочки даже с игольное ушко. Каннани потихоньку открыла дверь и вышла. При лунном свете ей показалось, будто в другом конце двора стоит человек. Она застыла на месте, потом с опаской огляделась кругом. Где-то скрипнула дверь. Каннани прижалась к стене, затаив дыхание прислушалась. Какая-то работница, беззвучно ступая, шла в сторону контрольного ночного пункта. Каннани взяло любопытство, и она, крадучись, последовала за ней. Перед контрольным пунктом работница остановилась в нерешительности, потом открыла дверь и вошла. Каннани пыталась догадаться, кто бы это мог быть, но, разумеется, напрасно. Несомненно одно: работница пошла на тайное свидание с надсмотрщиком. И Каннани снова вспомнила наставления Синчхоля прошлой ночью. Он говорил о том, что надсмотрщики злоупотребляют наивностью и простодушием фабричных девушек. Нужно как можно скорее открыть этим глупышкам глаза. Ее прямой долг, не теряя времени, сплотить воедино по меньшей мере тысячу работниц и повести борьбу прежде всего за свои экономические права, за уважение человеческого достоинства. Каннани пот прошибал, когда она вспоминала о том, как унижал ее Токхо и как она покорно сносила это. Каннани подошла и стала внимательно осматривать стену. Но сколько ни разглядывала, сколько ни шарила, всюду ее руки нащупывали крепкие кирпичи без малейшей щелочки. Только под стеной было несколько отверстий для стока воды. В эту дырку едва проходила рука и, разумеется, не мог пролезть человек. Кроме того, эти дыры у всех на виду и использовать их для связи очень рискованно. Но, с другой стороны, поскольку они видны всем, никто на них не обращает внимания. Каннани подумала и решила, что сначала попробует все-таки поискать что-нибудь более подходящее, и двинулась обратно. Часы в лекционном зале пробили три. Когда Каннани ложилась, Сонби повернулась к ней. — Ты куда ходила? — Гм... ты не спишь? — Нет, я спала... Проснулась — тебя нет. — Я во двор на минутку выходила. — А-а... — Сонби, ты всему поверила, что говорил надсмотрщик? — неожиданно спросила Каннани. Сонби в замешательстве не сразу нашлась, что ответить. — Почему ты об этом вдруг спрашиваешь? — Нет, постой... Слова надсмотрщика — правдивые слова? — Я не знаю... это... — Сонби, этого нельзя не знать. Послушай. Сейчас заставляют работать даже в ночную смену, а кормят лишь аннамским рисом. О сбережениях, вкладах толкуют лишь для того, чтобы заставить нас работать. Запрещают свободно выходить, словно заботятся о будущем работниц, продают здесь разные товары по низкой цене — все это делается не в наших, а в их интересах. Выдают новую обувь, устраивают развлечения, организуют вечернюю школу, даже заставляют заниматься спортом для укрепления тела — все это предпринимается с целью ослепить, закрыть нам глаза и выжать из нас как можно больше. Сонби не могла понять, для чего Каннани говорит все это. Если она знала об этом раньше, нечего было и поступать на фабрику. Зачем было покидать Сеул и ехать сюда, а на другой же день выражать такое недовольство? — Сонби! Надсмотрщики и люди, стоящие за ними, во много раз страшнее Токхо. Каннани хотелось рассказать про работницу, пришедшую в сторожку к надсмотрщику, но она решила немного подождать с этим. Сонби сразу показался противным и страшным этот надсмотрщик, который смеялся, кося на нее глазом, этот тигр с приклеенной бородой. Слушая Каннани, она так и видела его косые взгляды и с ужасом чувствовала, что надсмотрщик превращается в Токхо. — Сонби, может быть, сейчас тебе кажутся непонятными мои слова? Ну, позже все поймешь, — проговорила Каннани, обнимая подругу. Ей снова вспомнилась работница, крадущаяся в комнату надсмотрщика. Несколько дней спустя Каннани просунула наружу сквозь отверстие для стока воды в задней стене длинную палку с соломенной веревкой. И с тех пор работницы, просыпаясь, каждое утро обнаруживали под постелью или в углу комнаты какие-то листки. На них пункт за пунктом было записано все, что говорил на вечерних занятиях надсмотрщик, и очень понятно растолкованы его слова. Всякий раз, находя эти листочки, они, склонив головы, с интересом читали их. — Любопытно, ктоже присылает эти листки? Уж больно правильно здесь все написано! Помните, надсмотрщик обещал тогда премии по десять сэн в день? Где эти премии? Одни слова только — премия! — говорили, лежа в постелях, работницы четвертой комнаты в нижнем этаже общежития. — Вот ведь Хэёни хорошо работает, а премий не получает... Эх, да что там! — И все-таки та красивая из седьмой комнаты, новенькая, уже получила премию... — Получила премию? Кто же это? — спросила работница, хохотушка. — Эй, потише вы, услышит кто-нибудь! Смешливая работница захихикала, сунула руку под одеяло и больно ущипнула соседку. — Кто услышит, кто услышит? Ночью-то. — Ты что, не знаешь разве, что надсмотрщик каждую ночь обход совершает? — Ну и что ж из того? Никто не услышит голос из-под одеяла... Но все-таки кто же, кто?.. А-а! Не иначе как эта недавно прибывшая красавица! В общежитии Сонби прозвали красавицей. — Не та ли новенькая, которая как раз напротив Хэёни работает? Надсмотрщик прямо не отходит от нее и беспрерывно улыбается! — Однако, Хэсун, кто же и откуда приносит эти листки в комнату? И в других комнатах неизвестно как появляются... Работницы из нашего общежития ни за что не решатся на такое. Но как бы там ни было, все мы, работницы этой фабрики, согласны с тем, что в этих листках. — Брось! — возразила соседка. — Когда я работала на фабрике в Сеуле, надсмотрщики вели себя точно так же, за работу как следует не платили. Так мы, думаете, не подняли забастовки? Однако нашлись девчонки, которые выдали нас надсмотрщикам. И все пошло насмарку. К счастью, меня тогда не выгнали, но надсмотрщики так возненавидели, что у меня терпенье лопнуло и все равно пришлось уйти. Так что... — Убить бы надо этих девок! Чтобы другим неповадно было! Спутаются с надсмотрщиками... — Вы посмотрите, что у нас за жизнь: работаешь до полусмерти, а денег в руках не видишь. Черт знает что! У меня сегодня чуть руку не оторвало машиной. Когда поступали, разве кто думал об этом? Она прижала задрожавшую руку к щеке, словно видела перед собой эти вертящиеся катушки, которые чуть не лишили ее руки! — Хорошо бы встретиться с человеком, который эти листки приносит! Как ему удается попасть-то сюда?!* * *
Рабочие, накладывая булыжники в проволочные сетки, сваливали их в определенном месте на берегу, а потом засыпа́ли землей илистый край. Вместе с другими носил булыжники и Чотче. Он работал и все думал о споре с Синчхолем по поводу организации свободных рабочих. С тех пор как он встретил Синчхоля, мир словно прояснился для него. Все трудное и непонятное в прожитой жизни оказалось таким ясным, как эта новая дорога, что они мостили. И путь, по которому ему предстоит шагать вперед, так же ясно открывался взору, как эта дорога. Надежды, светлые, словно это сверкающее в лучах солнца море, вспыхнули в его прежде такой мрачной душе. — Послушай, взгляни-ка, какой сегодня день, что все ученицы высыпали? Чотче живо обернулся. В их сторону направлялось несколько сотен работниц, выстроенных в ряды. Тут Чотче вспомнил, как вчера вечером Синчхоль прочитал и пересказал ему сообщение с текстильной фабрики. «Неужели они? — подумал Чотче. — Наверно, в храм молиться идут, даже ботинки новые надели по такому случаю». Он медленно побрел к берегу. — Ну, вы! Работать, работать надо! Чего загляделись? Оживившиеся было рабочие, испугавшись окрика надсмотрщика, снова согнули спины. — А, чтоб тебе провалиться! Там же все девчонки... — недовольно заворчал один. — А ты захвати одну и беги, скройся куда-нибудь. Ха-ха-ха! — подхватил другой. Рабочие балагурили, а сами то и дело украдкой поглядывали на процессию. Все девушки, как одна, — в черных юбках, белых кофточках и черных ботинках. «Неужели это работницы?» — удивлялся про себя Чотче, согнувшись под тяжестью ноши. С необъяснимым трепетом он снова посмотрел на них и вдруг вздрогнул, встретившись взглядом с одной из них. — Сонби? — невольно вырвалось у него. Женщина приостановилась было в крайнем изумлении, потом неохотно пошла дальше, будто ее тянули насильно. Чотче захотелось немедленно, сейчас же сбросить свой груз, кинуться вслед за ней и удостовериться, Сонби ли это. Он уже сделал несколько шагов, но его остановил окрик надсмотрщика: — А ну, шевелись, шевелись, парень! Подавив невыразимую досаду, Чотче повернулся к надсмотрщику и почувствовал, как бурно колотится его сердце. «Сонби? — думал он, переставляя сразу отяжелевшие ноги. — Неужели Сонби смогла приехать сюда? А может быть, Токхо послал ее учиться? Кто знает, Сонби красива, и, возможно, для удовлетворения своего честолюбия послал он ее учиться...» Чотче снова посмотрел на них. Неужели это все-таки текстильщицы? И опять сопоставил с тем, что сказал вчера Синчхоль. «Если так, значит, Сонби работает на фабрике?» Одна догадка сменялась другой. Он подошел к берегу, высыпал землю и еще раз глянул им вслед. Процессия уже вступила на остров Вольми. «Сонби?.. Текстильщицы?.. Неужели это и в самом деле текстильщицы? Так или иначе я дождусь их здесь! Но пойдут ли они обратно этой дорогой?..» Чотче, хоть и был почти уверен, все же сомневался, что это работницы. Если судить по одежде, они не похожи на работниц. Отсюда были хорошо видны и остров Вольми, и красная крыша морского бассейна. Чотче смотрел в ту сторону, и два вопроса: «Неужели текстильщицы? Неужели Сонби?» — не выходили у него из головы. С нетерпением ждал он и надеялся, что процессия еще пройдет обратно. — Вот! И о чем ты только так задумался? Увидал работниц и растаял... — Работниц? — оживился Чотче. — Ты точно знаешь, что это работницы? — Сумасшедший ты, что ли? Кто же, как не работницы? — А не ученицы? — Вот дурень! Бредишь ты, что ли... Не видал, как прошел этот бородатый надсмотрщик Тигр? Ведь он своей жестокостью на весь Инчхонь прославился! «Работницы... Значит, это Сонби», — думал Чотче, глядя на остров Вольми. — Что, парень? Здорово за душу задело?.. Только напрасно... Отсюда за ними не побежишь! Чотче крякнул, взваливая на спину мешок, выпрямился и посмотрел на трубу текстильной фабрики. Из нее, как и всегда, клубами валил дым. Высоко-высоко подымается эта труба, словно пронзая небо. Поглядеть на нее — и то голова кружится. А сколько раз приходилось Чотче взбираться на нее еще до того, как была построена сама фабрика! Вначале, когда фабрика только начинала строиться, он не предчувствовал никакой опасности. Но труба! Даже сейчас страшно вспомнить, как возводили они эту трубу! Навалит, бывало, на спину штук тридцать кирпичей и лезет наверх. А гнущаяся доска того и гляди обломится. Глянет вниз — дрожь пробирает: земля далеко-далеко внизу; глянет в отверстие трубы — словно в бездонную пропасть или глубокое озеро окунется. Ноги трясутся, в глазах темно, волосы дыбом, но раз нанялся — надо карабкаться. Понемногу приходит в себя и поднимается выше. А то вдруг начнет казаться ему, что труба шевелится. Никогда раньше не испытывал он такого страха. И чем выше становилась труба, тем явственнее видел он, что она шевелится. Вот-вот рухнет труба, и он вместе с ней полетит вниз и убьется. Но, несмотря на явную опасность, Чотче снова и снова оказывался по утрам у трубы и опять по деревянным лесенкам взбирался на головокружительную высоту. «Эх, опять я сюда пришел, будто другой работы нет!» — спохватившись, с досадой ворчал он на себя. До конца дней своих не забыть ему этой трубы. Она и во сне не дает ему покоя. Чотче приснилось как-то, что он упал в эту трубу. «Да! Взглянешь на эту трубу, и то страх разбирает. А сколько жизней она пожрала?! Сколько товарищей разбилось насмерть, свалившись в нее?! За несколько жалких грошей в день мы вынуждены отдавать им не только тело свое, но подчас и жизнь!..» — с гневом и горечью думал Чотче. Он снова вспомнил о работницах, о Сонби. Сонби ли та, с которой он встретился взглядом? А может быть, и не Сонби вовсе? Уверенность сменялась сомнением, и опять все сначала! Закончив работу уже затемно, Чотче медленно тащился по улицам Инчхоня. Когда он пришел в харчевню, большинство его товарищей уже заканчивали свой нехитрый ужин, а некоторые, дополнив его кружкой дешевой рисовой водки, отдыхали за мирной беседой. Харчевня была единственным местом, где они могли получить некоторое утешение и даже своего рода развлечение. Выпьют горькой сивухи, языки немного развяжутся — и пошли балагурить! Залпом осушив кружку водки, Чотче быстро управился с рисовым супом. С тех пор как Чотче познакомился с Синчхолем, он стал очень осторожным, даже подозрительным, и, когда ему приходилось бывать в таких людных местах, его не покидало беспокойство: не затесалась ли в их среду какая-нибудь легавая собака? Выйдет на улицу, увидит человека в аккуратном европейском костюме — опять те же подозрения. Почти все, за исключением небольшой группы товарищей, состоявших вместе с ним и Синчхолем на бирже труда, казались ему сомнительными. Присмотревшись к наполнявшим харчевню рабочим, Чотче успокоился и пошел во вторую комнату. Ему хотелось отдохнуть и подремать тут, в тепле, прежде чем возвращаться в свою каморку. В комнате было жарко. Воздух пропитан резким запахом водки, словно едким дымом. Чотче лег на теплый пол, подстелив под голову циновку. Перед глазами снова возникла процессия работниц, изумленный взгляд Сонби. Пьяный голос приятеля, с шумом ввалившегося в комнату, вывел его из раздумья. — Вот, полюбуйтесь на него! Спящим прикидывается. Он пнул Чотче ногой, и тот открыл глаза. — Ну, ты! Потише! Я полежать хочу. Работяга еле держался на ногах. Он с обидой покосился на Чотче. — Ты, парень, никогда мне стаканчика не поднес! Есть деньги? Заработал ведь, так поднеси хоть кружку водки. Слышишь, ты! Денег дай, денег! Он замотал головой и плюхнулся на пол. Из складок его одежды посыпался мелкий песок. — Хо-хо... Прохвост ты, брат! Подлец ты... Хо-хо... — заплетающимся языком бормотал он и вдруг запел:* * *
Когда Синчхоль впервые встретил Чотче, он увидел в нем лишь самого обыкновенного простоватого рабочего. Порой он казался даже чересчур наивным, чуть ли не дурачком. Но за какие-то несколько месяцев он стал совсем другим человеком. В некоторых вопросах Синчхоль чувствовал даже превосходство Чотче над собой, и это его угнетало. Пристально глядя на безмолвно сидевшего Чотче, Синчхоль заговорил: — Так вот, товарищ! Будьте настороже — полиция, кажется, пронюхала о листовках. Так что необходимо соблюдать величайшую осторожность. Чотче пристально посмотрел на Синчхоля, потом отвел взгляд в сторону. Мысль, что все они в ближайшее же время могут быть схвачены, встревожила его. Если бы арестовали только таких, как он, — людей, от которых мало что зависит, — было бы еще полбеды. Но если схватят таких важных для общего дела лиц, как Синчхоль, то многочисленным рабочим Инчхоня, которым они старались привить классовое самосознание, долго еще придется пребывать во мраке. Кроме того, Чотче казалось, что такие, как он, смогут перенести в тюрьме любую пытку, а такие, как Синчхоль, — физически слабые и изнеженные, — разве они перенесут побои? Это больше всего беспокоило Чотче. В откровенных беседах с глазу на глаз Синчхоль говорил обычно: «Мы должны сделать то-то и то-то, так-то и так-то», подразумевая под «мы» рабочих. Но Чотче никак не мог поставить Синчхоля в один ряд с обыкновенными рабочими. Это был все-таки человек иного склада, чем-то отличавшийся от них. И это чувство, которого он не мог еще ясно выразить, крепло и превращалось в убеждение, когда он вспоминал, как Синчхоль в каждом разговоре подчеркивал: «Я думаю о вас, я стараюсь сбросить пелену с ваших глаз». — Отныне мы будем встречаться раз в месяц. В этом месяце приходите еще пятнадцатого числа. Только будьте осторожны. — Синчхоль пытливо посмотрел на Чотче. Весь его вид говорил, что он преисполнен решимости и отваги. — Ну, а теперь идите! Синчхоль поднялся и вслед за Чотче вышел во двор. Быстрым движением он вложил ему в руку пачку листовок. — Товарищ, осторожнее! Чотче проворно засунул пачку в карман и с силой потряс руку Синчхоля. Затем надвинул поплотнее кепку и вышел за ворота. После того, что он услыхал от Синчхоля, нервы его напряглись. Всюду ему чудились бесчисленные глаза и уши. С таким неспокойным сердцем добрался он до текстильной фабрики. Прежде всего обошел вокруг здания, осмотрел все закоулки с мыслью: «Не спрятался ли кто где-нибудь?» С фабрики доносился неумолкаемый шум динамо-машины. Дым, валивший из черной трубы, при лунном свете подымался в небо белыми клубами. Чотче завернул в один из переулков и стал выжидать. Кажется, все спокойно, тихо. Ползком пробрался к северо-восточному повороту стены. Прижимаясь к стене, вынул пачку, ловко просунул в дыру и огляделся. Затаив дыхание, он некоторое время смотрел туда, куда положил сейчас листовки, а перед глазами снова проплыла процессия работниц, которую он видел днем, и среди них — Сонби. «Она меня несомненно видела, но узнала ли?» —спрашивал он себя. А что, если и Сонби, читая листовки, которые он им доставляет, стала сознательным человеком? Что, если она из робкой и покорной, какой была раньше, превратилась в решительную и смелую женщину? О-о! Тогда он смог бы ей довериться, и зашагали бы они рука об руку! В таком настроении возвращался Чотче домой. Снова пришли ему на ум слова Синчхоля о том, что человек должен ясно и определенно знать, к какому классу принадлежит и что настоящие люди только те, которые ведут борьбу за прогресс человеческого общества.* * *
Возвратясь после вечерних занятий в третью комнату, Сонби, не раздеваясь, легла в постель. Когда она жила вместе с Каннани в седьмой комнате, они с вечера забирались под одеяло и до поздней ночи разговаривали, не замечая времени. А в третьей комнате, куда ее перевели, она до сих пор не сдружилась ни с одной из соседок, и приходила сюда, словно в чужой дом. «Что нужно этому надсмотрщику? Для чего ему понадобилось перетаскивать меня в эту комнату?.. Видно, все-таки неспроста. Уж не подозревает ли он в самом деле Каннани, как и предполагает она сама? Если же не в этом причина, то, не дай бог, не приглянулась ли я ему?» — мучилась Сонби в догадках. И снова возник перед ней образ Чотче. Это он взглянул, нет — так и впился в нее взглядом, когда они направлялись на остров Вольми! Неужели это был Чотче? С тех пор Сонби думала о нем каждую ночь. Снова припомнилось ей, как давным-давно ходила она на гору за щавелем, как там повстречался ей Чотче и хотел отобрать щавель, а она заплакала и убежала... А эти корни дерева сотхэ, которые принес он чуть свет, когда умирала мать от грудной болезни! Чем больше думала теперь Сонби о том времени, тем яснее становилось ей, что она не знала и совсем не ценила Чотче. Случись это теперь, какими дорогими показались бы ей эти корни, с какой благодарностью приняла бы она их! Как не сумела она понять тогда, что в этом поступке — вся чистота, чуткость и скромность Чотче? А она вместо благодарности забросила куда-то в угол собранные ночью, украдкой корни, на которых еще не обсохла земля! Сонби не могла простить себе этого и все больше возмущалась собой и стыдилась своего поступка. Хорошо бы еще хоть раз встретиться с ним! Неужели не удастся? Сонби повернулась и тяжело вздохнула. Собственное дыхание обожгло ей щеки. Она тотчас вспомнила, как обнимал ее Токхо, и вздрогнула от отвращения. Ей стало жаль себя. Токхо, эта старая тыква, этот мерзкий старик, безжалостно украл ее невинность! Ненависть душила ее. Тогда она еще не вполне сознавала меру зла, причиненного Токхо, теперь же, лежа вот так, с закрытыми глазами, она вдруг ясно поняла: он исковеркал ей жизнь. От этой мысли ее бросило в жар. Снова представила она лицо Чотче в тот миг, когда они встретились взглядами. Лицо его выразило такое удивление, что она почти не сомневалась в том, что он тоже узнал ее. Можно подумать, что Чотче нигде, никогда, ни на миг не забывал Сонби. Может быть, конечно, в глазах Чотче просто отразилось удивление, с каким Сонби на него посмотрела?! Но нет, все-таки он сразу узнал ее. Душа ее в тот миг наполнилась невыразимой печалью. Но потом она обрадовалась, чувства ее смешались, и сердце забилось сильнее. На его грубом, обветренном лице она успела разглядеть только блестящие, смеющиеся глаза — такие нее, как в тот момент, когда он уплетал отнятый у нее щавель. Эти глаза сверкали и теперь. Хотя от жизненных невзгод они и потеряли часть былой чистоты и живости, зато какая страшная сила светилась в них! Пожалуй, с не меньшей силой ненавидела она сейчас Токхо. И тут Сонби вдруг постигла смысл слов, которые постоянно повторяла ей Каннани: «На свете много наших врагов, таких, как Токхо. И если мы хотим бороться против них, нам необходимо объединиться». Осознав все значение этих слов, Сонби почувствовала в себе силу. Она представила, как по этому пути, который указала ей Каннани, повела бы она за собой Чотче. Спина Чотче, придавленная тяжелой ношей! Ее собственные руки в волдырях от разматывания шелка! Множеству таких спин и таких рук нужно объединиться на борьбу с бесчисленными Токхо. Она прозрела! Она видит свой путь! И этот путь для нее — единственный! Кто-то кашлянул. Это нарушило течение ее мыслей, она вся съежилась и замерла в испуге; когда кашлянули вторично, она уже не сомневалась, что это кашляет надсмотрщик в ночной дежурке. Едва она представила себе, что она и надсмотрщик лежат рядом, всего лишь через стену, ей сделалось не по себе. Снова вспомнила, что говорила Каннани об обманутых надсмотрщиками девушках. «Меня тоже, наверно, считают теперь такой, — думала Сонби, — хоть мне пришлось переселиться в эту комнату помимо воли, но все равно в глазах других я уже не прежняя Сонби, а такая же, как те несчастные». Но Сонби не собиралась сдаваться. Если ее попытаются одурачить, она будет сопротивляться и разоблачит происки надсмотрщиков. Она это твердо решила, однако недоброе предчувствие лишало покоя, тревожило. Если бы Каннани была рядом с нею, она посоветовала бы что-нибудь и сумела бы ее успокоить. Сонби очень хотелось спросить у Каннани, как поступить, как избавиться от домогательств надсмотрщика. Ей давно нужно было поговорить с подругой, но не так-то легко выбрать удобный момент. Днем загружена работой, через день — вечерние занятия. А и выберешь время, все равно кругом люди. Так что если ночью не представится случай, то пройдут, чего доброго, месяцы, годы, а не будет даже крошечной, с острие иголки, возможности перемолвиться словечком, хотя живут они совсем рядом. Вот и надсмотрщик кашляет, видно, еще не спит. Сонби боялась, что, едва она только скрипнет дверью, он непременно выйдет следом за ней. «Придется отложить разговор с Каннани на завтра! — решила она. — Не последний же день работаем вместе». И в это мгновение действительно что-то скрипнуло. Сонби повернула голову, прислушалась. Нет, кажется, это скрипнула дверь в дежурке. Послышались осторожные шаги. Сонби свернулась клубочком и почувствовала, что для нее наступает решительный час. Она натянула одеяло на голову и затаила дыхание. Но шаги затихли. Сердце Сонби гулко стучало. Ей казалось, что надсмотрщик стоит за дверью и гадает: спят или не спят в этой комнате, а потом войдет и начнет приставать к ней. Ей стало жутко. Хорошо бы разбудить товарок, да неудобно. Немного погодя Сонби высунулась из-под одеяла и прислушалась. Одна из соседок тоже подняла голову и посмотрела на Сонби: — Дверь, что ли, скрипнула? Сонби с радостью придвинулась к ней. — И ты проснулась? — Что это за скрип?.. Не дверь у надсмотрщика? — Кажется, она... — Все время так... — зашептала соседка на ухо Сонби. — Не спится ему, все ходит вокруг. А ты не видала этих странных листков? Сонби отлично понимала, о каких листках идет речь, но притворилась, что ничего не знает. — Не видела... Какие листки? — Как в других комнатах — не знаю, но в нашей последнее время, как ни проснемся утром, какие-то листки разбросаны, а в них — все дела нашей фабрики описаны. Помнишь, мы на остров Вольми в новых ботинках ходили? — Да... — Так и про эти ботинки... Ай, ладно, завтра расскажу! Подружка посмотрела на дверь и замолчала. Сонби слышала уже об этом от Каннани и потому не стала приставать с расспросами. Да и опасалась, не подслушает ли надсмотрщик их разговор. Сердце у нее забилось еще сильнее. Эти листовки — загадка для всех работниц фабрики. Но Сонби почему-то казалось, что распространяет их не кто иной, как Каннани. Она, разумеется, не признаётся, но некоторые ее поступки и слова волей-неволей убеждают в этом. Похоже, что за ее спиной какие-то люди. У Каннани не было от Сонби никаких секретов, и только тут она что-то скрывала. Что это за дело и кто руководит ею, Сонби не знала, а Каннани строго хранила тайну. Сначала это удивляло Сонби, но со временем она стала кое о чем догадываться. Она не могла еще точно сказать, что это за работа; это были еще только догадки, смутные предположения. Вдруг дверь медленно-медленно открылась и, щелкнув, вспыхнул электрический ручной фонарик. Они накрылись одеялами и притворились спящими. Дверь тихонько притворилась, шаги приближались. Сонби прижала руки к груди, засунула голову под подушку и замерла. Сердце так и прыгало. Больше всего она боялась, что он подслушал за дверью их разговор и пришел браниться. Вдруг Сонби почувствовала, что рука надсмотрщика шарит по одеялу, стягивает его; Сонби втянула голову в плечи. — Почему до сих пор не спите? — потряс комнату грозный голос надсмотрщика. Сонби безмолвствовала. — Вы должны хорошенько выспаться, чтоб завтра легче было работать. Дрожащей рукой надсмотрщик похлопал Сонби по щеке. Сонби оттолкнула его руку и потянула одеяло. — В эту комнату листки не попадали? Как только появятся, выбросить! И он пальцем слегка постучал Сонби по голове. Если бы соседки спали, она совсем бы струсила, но, зная, что они не спят, стала приходить в себя. И в то же время ей было стыдно и неприятно, что соседки были свидетельницами того, как он прикасался к ней. Будь ее воля, приподнялась бы она сейчас и так отхлестала бы его по физиономии. Но увы! Она могла это сделать только мысленно, а на самом деле не смела и пальцем пошевелить. Она снова вспомнила день, когда Токхо растоптал ее девичество, и содрогнулась. Надсмотрщик постоял, постоял, потом накрыл Сонби одеялом. — Всякие мысли прочь, спать! Повернулся и вышел. Только теперь Сонби наконец свободно вздохнула, положила голову на подушку и улеглась поудобнее. Но неприятное ощущение от прикосновения надсмотрщика не проходило, словно по ней ползало какое-то отвратительное насекомое. Через несколько дней Сонби вызвали в канцелярию. Надсмотрщик восседал за столом и внимательно разглядывал какие-то листки. Когда Сонби вошла, он бросил на нее взгляд. — Присаживайся... — И указал на стул рядом. Сонби не решилась сесть. — Это, очевидно, знакомо Сонби? Надсмотрщик, не мигая, уставился на нее, словно хотел пронзить ее насквозь. Сонби покраснела. — Нет. — Как нет? Не лги! В общежитии не найдется такой комнаты, куда бы их не подбрасывали. А к Сонби так-таки и не попали? Говори честно, — настаивал надсмотрщик. Сонби слегка наклонила голову, думая о листке, запрятанном в носок. «Неужели надсмотрщик проведал об этом?» — забеспокоилась она. — Подойди-ка сюда! Надсмотрщик пригладил зачесанные назад волосы и вместе со стулом придвинулся ближе. — Если и у Сонби есть такие листки, она должна их порвать и не прислушиваться к этим глупостям. Я хорошо знаю, Сонби у нас скромная и послушная... А скажи-ка, не замечала ты, что Каннани, твоя землячка, выходит по ночам? Сонби перепугалась. Как он догадался о том, чего не знала наверняка даже она, живя в одной комнате с Каннани? И неужели, на беду, Каннани начнут преследовать из-за этого и ей придется уйти? Нет! Сонби должна как-нибудь провести надсмотрщика, рассеять его подозрения. Догадываясь, что тот весьма расположен к ней, она была почти уверена, что ее заступничество сыграет роль. Ведь точных доказательств, возможно, и нет? — Этого не было! — набравшись смелости, ответила она. Надсмотрщик, изобразив улыбку, придвинулся еще ближе. — Защищаешь землячку?.. Присядь-ка. Гм... Ну... Сонби обуял страх. Она вся съежилась, сжалась в комочек, как в ту ночь, когда Токхо впервые овладел ею, и невольно отпрянула. Надсмотрщик, испытующе глядя на нее, курил сигару. — Сонби, сколько тебе лет? Он стряхнул пепел. У Сонби тоскливо заныло сердце, — уйти бы поскорее отсюда. Натолкнувшись на упрямство Сонби, надсмотрщик принял более грозный вид. — А ну-ка, присядь! У меня много вопросов к тебе. Вот сюда! Ну? — И он указал на стул. Сонби пришла в замешательство. Чувствуя, что надвигается новая беда, она думала только об одном: необходимо любым способом сейчас же уйти. Она судорожно вздохнула, словно воздух этой комнаты давил на нее и мешал дышать. Наученная горьким опытом с Токхо, Сонби прекрасно понимала, куда клонит надсмотрщик. — Ой, я ведь бросила работу и приш... и пришла, — пробормотала она. — Гм, какую еще работу? Покосившись на раскрасневшуюся Сонби, надсмотрщик ласково улыбнулся. — Ко... кофточку... — Кофточку?.. Это зарабатывая столько денег!.. Хо-хо-хо-хо, — рассмеялся надсмотрщик. — Ну так вот, в этих листках — большой вред. Они вводят вас в заблуждение. Наша фабрика заботится о всевозможных выгодах и удобствах для работниц, так что поверить написанному здесь могут только самые неблагодарные люди. Если завтра и к Сонби попадет такой листок, она принесет его мне. Гм, договорились? — Да, — быстро согласилась Сонби, обрадованная тем, что разговор переменился. — Это ведь пишут и распространяют безработные, чтобы подбить на забастовку тех, кто работает. Сонби им обмануть не удастся, и, если она послушается меня, завтра же получит премию или же я сделаю ее старшей в этом общежитии, и она сможет управлять работницами, как ей заблагорассудится, то есть сделаю ее своим помощником. Поняла? — Надсмотрщик самодовольно улыбнулся. Сонби смотрела себе под ноги. — Я к Сонби очень хорошо отношусь, и если она будет послушной, такие права ей дам!.. — Пойду, делом займусь, — повернулась она к выходу. — О! Вот ты как! — крикнул он ей вдогонку. Сонби сделала вид, что не слышит. Когда она вернулась в комнату, Каннани продолжала работу, начатую Сонби. Дверь в канцелярии с шумом захлопнулась, и надсмотрщик протопал в нижний этаж. Они облегченно вздохнули. Каннани пристально смотрела на Сонби и ждала, что она скажет. А Сонби было и радостно, и немного стыдно перед соседками. — Пойдем работать к нам в комнату, — предложила Каннани. — Пойдем, — охотно согласилась Сонби. Каннани быстренько свернула шитье, Сонби взяла свою работу и вышла вслед за Каннани. — Куда же все подевались? — спросила она, никого не застав в комнате Каннани, а про себя подумала: какой удобный случай поговорить. — Ушли все в ночную смену... Ну так что? Сонби покраснела и задумалась. — Надсмотрщик сказал... запретил дружить с тобой и потом... — Сонби прильнула к уху Каннани и что-то зашептала. Каннани кивнула головой. — Гм, я тоже догадывалась... Сонби! — сказала вдруг Каннани, и лицо ее стало очень серьезным. Сонби обратилась в слух. Наконец она все поймет, все узнает. Но Каннани колебалась. Как жаль, что Сонби до сих пор не стала ее настоящей соратницей. Если бы она полностью осознала свое классовое положение, сколько дел можно было бы сделать! Прибрав к рукам надсмотрщика, она могла бы обводить его вокруг пальца. Рано или поздно тайна Каннани раскроется, и очень важно поэтому ввести Сонби в курс дел. Тогда Каннани смогла бы со спокойной душой покинуть фабрику. Ведь она вряд ли сумеет долго продержаться здесь. Необходимо заранее посвятить Сонби, в свои дела и намерения. Для этого она и окликнула Сонби, но, посмотрев на нее внимательно, решила, что нужно еще немного повременить. — Ну что? Говори скорее! — не выдержала Сонби. У Каннани покраснели веки. — Завтра, да-да, завтра!* * *
Над Инчхонем брезжит рассвет. Предрассветные сумерки еще окутывают город. Тишина. Воздух напоен ароматом приближающейся весны. Пробуждался один из дней ранней весны. В порту уже собралось несколько тысяч рабочих. Они смотрели на постепенно светлеющий восточный край неба, и их решимость все крепла. Никелевые Очки с красными шнурками в руках привычно шнырял глазами во все стороны и диву давался, глядя на рабочих: какая толкотня, давка, драка бывала обычно за этими красными шнурками, а сегодня рабочие словно не замечают их, хоть шнурки и развешаны у него на руке, как напоказ. Никелевым Очкам это показалось странным, и мало-помалу в душу его начал проникать безотчетный страх. Но он притворялся, что ничего не замечает, и с равнодушным видом стал подзывать знакомых ему рабочих: — Иди-ка сюда! Дам шнурок! Никто не тронулся с места. Вдруг погас электрический свет. — Не будем работать! — раздались голоса. Никелевые Очки поскреб затылок. В гавань вошел пароход и причалил к пристани. Но рабочие пальцем не пошевелили и лишь молча наблюдали. Делегация рабочих отправилась в управление сухопутно-морского транспорта, чтобы предъявить свои требования. Остальные стояли тут, с нетерпением ожидая, какие вести принесут их делегаты. А пароход дымил в порту. Экипаж высыпал на палубу. Всех удивляло поведение рабочих. Раньше в такой момент они суетились бы, шумели и гудели, как пчелиный рой, выгружая товары, а сегодня порт словно вымер. Даже Никелевые Очки, обычно ни на минуту не остававшийся в покое, вращавший глазами, словно железными колесами, и тот сегодня с видом подбитой птицы стоял где-то в углу, опустив голову. Загоралось багряное солнце. Глядя на это солнце, рабочие еще острее сознавали, как велика их сила, когда они действуют сообща. Они объединились, и это заставило стоять в бездействии всех: от зазнавшегося надсмотрщика, по прозвищу Никелевые Очки, до подъемного крана и пароходного экипажа. — Ай, теперь у работниц обдирочной фабрики дела творятся страшные! Сирена взвыла; говорят, и они бунтуют. Страсти какие! — проговорил один рабочий, обращаясь к Чотче. Тот радостно заулыбался. — Мы тоже, — продолжал рабочий. — Пусть только посмеют не принять наших требований! Вот это они видали? — Он крепко сжал кулак и потряс им перед Чотче. Тот пристально посмотрел на него и подмигнул. И вдруг нагрянули полицейские. Часть из них оцепила управление, другая спешно окружила толпу. При виде полиции в рабочих вспыхнуло пламя протеста. Но они еще сдерживали себя в ожидании результатов переговоров их товарищей. Полицейские врезались в толпу и, сверкая глазами, зорко вглядывались в рабочих в надежде обнаружить зачинщиков. Из всех переулков высыпало население Инчхоня, привлеченное забастовкой портовых рабочих. Без конца подкатывали полицейские на мотоциклах. Явилась конная полиция. Грозной стеной окружили они порт. Атмосфера накалилась: это чувствовал каждый. Один за другим заходили в порт пароходы и замирали в неподвижности, вплотную друг к другу... Из управления сухопутно-морского транспорта вышли наконец рабочие делегаты, окруженные полицейскими. — Наших условий не приняли! — крикнули они. — Разойдись! — не дав им кончить, приказал полицейский чин со множеством знаков отличия. Возбужденная толпа загудела, началась невообразимая суматоха. Рабочие хотели организовать демонстрацию по улицам Инчхоня, но очень многих уже успели арестовать. Когда Чотче вернулся домой, его встретила старушка-хозяйка. — Тебя только что кто-то разыскивал! Чотче все еще не мог отдышаться. — Кто? Как одет этот человек? — спросил он, переводя дух, а в голове проносилось: «Сыщик? Синчхоль?» — Как одет, спрашиваешь?.. Да и не помню хорошенько. — Старушка виновато улыбнулась. — Все равно, он сказал, что непременно зайдет опять, и велел никуда не отлучаться и ждать. — Велел ждать? Чотче нахмурился. Беспокойство все сильней овладевало им. Старуха посмотрела на него, подождала, не спросит ли он еще о чем-нибудь, и поплелась к себе. «Кто же приходил? Синчхоль с каким-нибудь спешным делом?» — раздумывал Чотче. Вдруг дверь открылась. Чотче вздрогнул и уставился на вошедшего. Это был рабочий, с которым он познакомился в порту и встречался потом несколько раз у Синчхоля. — Вы Чотче? — спросил он. Еще ничего не понимая, Чотче широко раскрыл глаза. — Да... — И пожал протянутую руку. — Товарищ, большая беда! — Что случилось? — Только что, часу не прошло, схвачен товарищ Синчхоль! Глаза Чотче стали вдруг неестественно большими. — Схвачен? Где? — Дома был арестован. Теперь этот дом под сильной охраной. Вам тоже обязательно надо переменить место жительства. Я подыскал уже одну квартирку. Перебирайтесь пока туда, а потом поселитесь в более подходящем месте. Не будем откладывать — собирайтесь! Окинув взглядом комнату, он встал. Известие об аресте Синчхоля потрясло Чотче. Он твердо знал, что рабочим движением, помимо Синчхоля, руководят еще другие товарищи, неизвестные ему. Но именно Синчхоль открыл ему на многое глаза, направлял его действия, вот почему он горевал теперь о нем, словно малое дитя, потерявшее мать. Товарищ что-то прошептал ему на ухо и вышел. Чотче следом за ним направился в новое свое жилище. Вечерело. Чотче улегся, а в голове проносились события в порту, образ связанного Синчхоля... Отвлеченный печальными мыслями, он не заметил, как в комнату вступила ночь. Он поднялся. В это время тихо открылась дверь. — Что такое? Даже света не зажигаете?.. — Товарищ... Чотче запнулся, боясь принять постороннего за своего. Товарищ включил свет и подсел к Чотче с хлебцем, который купил по дороге. — Кушайте! Так вот, мы думали, почин портовых рабочих подхватят другие товарищи, но у них, видно, сорвалось! Чотче, с жадностью поедая хлеб, кивал головой. Горячая симпатия, понятная без слов, светилась в их взглядах, обращенных друг к другу. — Ну, кушайте на здоровье. Товарищ поднялся. Молча проводив его, Чотче погасил свет и доел хлебец. Он сидел задумчиво, мечтая о будущих победах портовых рабочих, и улыбался. Потом мысли его перенеслись на текстильную фабрику. «Почему у них тихо? Тоска! Если бы и Сонби стала сознательной!..» И снова вспомнил об аресте Синчхоля. Возвращаясь с ночной смены, Сонби ощутила легкое прикосновение к своей руке. Затем что-то оказалось в ладони. Она быстро оглянулась: Каннани с невозмутимым видом проходила мимо. Сонби сразу все поняла и крепко зажала в руке клочок бумаги. Взглянула на возвращавшуюся вместе с ней Хээ, стараясь уяснить, заметила та что-нибудь или нет. Хээ продолжала что-то рассказывать шепотом, но Сонби уже не слушала ее и лишь время от времени вставляла: — Да-да... Конечно... — Так завтра непременно. Ладно? — проговорила Хээ, скрываясь в своей комнате. Сонби не поняла, в чем дело, но переспрашивать не стала и стрелой помчалась на верхний этаж, в свою комнату. Подружки еще не вернулись. С бьющимся сердцем развернула маленькую бумажку, зажатую в кулаке. «В три часа ночи приходи к уборной». Опасаясь, как бы кто не увидал, Сонби разжевала бумажку и проглотила. На лестнице раздались шаги. Сонби начала разбирать постели. Дверь открылась, и вошли подружки. — О, как ты быстро, Сонби! Уже пришла! — смеясь, проговорила одна. — Вот спасибо! Даже мне постель приготовила! Вошедшая последней подружка внимательно посмотрела на Сонби. — Ну, сколько ты ниток сегодня намотала? — спросили со смехом подружки, раздеваясь и ложась в постель. Сонби промолчала и закрылась одеялом. «Наверно, опять какая-нибудь новость, — с досадой подумала она, вспомнив, как надсмотрщик все вертелся возле ее рабочего места и посмеивался. — Ух! Провались он совсем! Смотреть противно, как он все время возле меня крутится». Сонби задремала было, но при первом же ударе часов испуганно вскочила. Укрыв подушку на постели, будто тут спит кто-то, она юркнула за дверь. Спустившись вниз, бесшумно открыла большую дверь, выглянула и оказалась в яркой полосе света от лампочки над входом в общежитие. Вздрогнув, метнулась в темноту. Еще раз огляделась кругом: не притаился ли где надсмотрщик. Помедлила в нерешительности, но, ничего не заметив, двинулась дальше. Каннани уже была в назначенном месте. — Ждала? — прошептала Сонби. Каннани приникла к ее уху: — Только что надсмотрщик проходил тут. Сонби ахнула и обернулась. Несколько мгновений они стояли молча. — Я выйду посмотрю, а ты здесь побудь, — сказала Каннани. Сонби стояла, не шевелясь, и прислушивалась. Каннани скоро вернулась. Она часто дышала. — Надсмотрщик вошел в общежитие. Я видела... Итак, Сонби! Согласно указанию я все передаю тебе, а сама должна сегодня же ночью покинуть фабрику! Каннани схватила Сонби за руку и, не отрывая глаз, смотрела ей в лицо, освещенное тусклой лампочкой. Сонби ошеломили столь неожиданные слова. Она испуганно смотрела на Каннани. Громадная тяжесть ложилась на ее плечи. — Почему так вдруг? Сегодня же ночью? Послышался шелест. Они замолкли. Шум с фабрики доносился еще отчетливее. — Срочное указание... Что-то там случилось... У Сонби подкашивались ноги. Сердце готово было выпрыгнуть. А как подумала, что Каннани, ее мудрая подруга, покидает ее, у нее потемнело в глазах. — Сонби! Мы должны бороться, не щадя жизни! Ты ведь тоже клянешься? — Глаза Каннани лихорадочно блестели. Она прижалась щекой к щеке Сонби. — Не унывать! Но будь осторожнее! Сонби прижалась к Каннани. Та вытерла ей слезы. — Сонби! Что бы ни случилось, мы не должны падать духом, нужно бороться. Так слезы проливать не годится! Бодрее! Ну, я должна идти... Они вышли из своего убежища. Ползком добрались они до стены. Каннани подала Сонби канат. — Я заберусь к тебе на плечи, держись крепче и не выпускай каната. Подул ветер. Им померещились шаги, и они в испуге обернулись. Ветер все усиливался. Сердца их колотились, дыхание прерывалось. При каждом новом порыве ветра они холодели от страха — им казалось, что сзади подкрадывается надсмотрщик, хватает их... Сонби села, прижавшись к стене: Каннани забралась ей на плечи, и Сонби попыталась встать, держась за стену, но плечи у нее разламывались, и, сколько она ни силилась, не могла оторваться от земли. Наконец с великим трудом приподнялась. Каннани еле держалась на плечах подруги, так дрожали у нее ноги. Она ухватилась рукой за верх стены, но никак не могла подтянуться. Взяв в рот конец каната, Каннани обеими руками ухватилась за край стены, но вспотевшие руки скользили, казалось, вот-вот она сорвется. Она напряглась изо всех сил, но тут, пошатнувшись, упала Сонби. С шумомпокатилась и Каннани. Сонби, тревожно озираясь по сторонам, живо помогла ей подняться. По-прежнему слышалось только завывание ветра, будто он хотел оказать им услугу. — Когда я перелезу, ты перебросишь мне ботинки! Сонби кивнула головой и снова присела, упираясь в стену руками. Каннани опять забралась к ней на плечи и уже ухватилась за край стены. Вдруг ей померещился резкий свист, она замерла и, затаив дыхание, прислушалась, пытаясь уловить, откуда исходит этот звук: со двора или снаружи. А может, это просто ветер? Убедившись, что это ветер, подтянулась изо всех сил на руках, оторвалась от плеч Сонби, но забраться наверх не могла. Сонби, став на цыпочки, снизу руками поддерживала ее. Провозившись битый час, Каннани забралась наконец на стену. Сонби крепко держала канат. Канат несколько раз дернулся — и Каннани уже не было на стене. Сонби быстро привязала ботинки и перебросила канат через стену. Стук-стук — и ботинки вместе с канатом скрылись во тьме. Сонби вытерла пот со лба, осторожно осмотрелась и тяжело перевела дух. Беспокоясь, не ушиблась ли на бегу Каннани, она прильнула к стене, пытаясь расслышать шаги, а сама тем временем вглядывалась в темноту, не притаился ли кто-нибудь по эту сторону стены, наблюдая за ними. Но кругом спокойно. Только ветер, смешиваясь с фабричным шумом, выл, свистел и хлестал ее по пылающим щекам. И вдруг ее охватил такой страх, какого она не испытывала, даже когда Каннани перелезала через стену. Как ей вернуться в свою комнату? И уже казалось ей, будто из темноты уставились на нее глаза надсмотрщика, чудились его шаги. Больших усилий стоило ей оторваться от стены. Благополучно добравшись до своей комнаты, она легла, уткнувшись в подушку, и невольные слезы вдруг хлынули из глаз. Казалось бы, самое страшное позади, она в своей комнате, кругом спокойно. Однако дрогнет ли окно при порыве ветра, послышится ли шорох — ей уже чудится, что кто-то открывает дверь и сейчас на нее обрушатся брань и угрозы: такая ты, мол, и сякая, помогла бежать Каннани. А Каннани, борясь со страшным ветром, спешит теперь куда-то. «Каннани! Каннани!» — мысленно звала ее Сонби. Она боялась, что они больше не увидятся. Но еще больше ее тревожило другое — как она будет действовать одна, без Каннани?! На следующее утро в общежитии поднялся переполох. Надсмотрщик вызвал соседок Каннани по комнате, допрашивал, бранился, угрожал даже избиением. Он ходил из угла в угол и все бормотал, бормотал что-то. Сонби целый день дрожала в ожидании вызова к надсмотрщику. Работа валилась из рук, нити то и дело обрывались. Всех работниц, друживших раньше с Каннани, даже соседок по комнате, вызывали, а Сонби почему-то все еще не трогали. Это тревожило ее еще больше. Все общежитие знало, что она дружила с Каннани; безусловно, это хорошо было известно и надсмотрщику, он должен был бы прежде всего вызвать Сонби, однако вот уже день на исходе, а о ней как будто забыли. Это удивляло и пугало Сонби. — А молодец, хорошо сделала! Ничего тут доброго не дождешься! — Хорошо-то, слов нет, хорошо, но как она решилась на то, чего бы сам черт побоялся, — непостижимо! — Кто знает, может быть, возлюбленный был? Он и устроил это дело... — Хоть развозлюбленный, но куда ты пойдешь, как перепрыгнешь через эту высокую стену?.. — перешептывались работницы за обедом в столовой. Исчезновение Каннани всех поразило: для них это было необычайным, неожиданным, как гром среди ясного неба. — Сонби, а ты ведь, поди, все знаешь? Уж, наверное, она повидалась с тобой перед тем, как уйти? Не правда ли? — с усмешкой спросила сидевшая напротив Сонби девушка, большая насмешница. Сонби опустила голову, стараясь скрыть проступившую на щеках краску, и сделала вид, что выбирает камешки из каши. Ей казалось, что та спрашивает неспроста, что она уже все знает. Наконец она подняла голову и улыбнулась: — Каннани, уходя, меня с собой звала. А мне уж больно нравится работать на этой фабрике — отказалась идти с ней. Все захохотали. — Сказать правду, если бы можно было, я бы тоже ушла, не задумалась. До каких пор выносить все это? — А знаете, я слышала, что Каннани и Сонби постоянно не ладили. Сказать, почему? Работница с тонкими веками лукаво посмотрела на Сонби и едва внятно пошевелила губами. Сонби догадывалась, на что та намекала, и раньше она, пожалуй, сгорела бы со стыда, но сегодня была просто счастлива, что работницы это так истолковывают. — Ну, сказать или нет? — улыбаясь, продолжала она поддразнивать. — Знаешь что, если хочешь что-нибудь сказать, так не тяни, говори быстрее! И что за привычка такая — манит, тянет... Да и что ты можешь сказать? Наверно, самое большое, что надсмотрщик обожает Сонби. Так для этого не стоило столько приготовляться, это известно всему общежитию... — проговорила длинноликая девица и с невозмутимым видом занялась кашей. «Известно всему общежитию». Это заявление покоробило Сонби. Слишком остро воспринимала она все, что говорилось здесь, но нужно было казаться спокойной, и она через силу улыбалась. — Сонби, — позвал из канцелярии надсмотрщик, когда она вернулась из столовой. У Сонби сердце так и упало. И все слова, которые она подготовила ночью на случай, если спросит надсмотрщик, выскочили у нее из головы. Она растерянно остановилась среди комнаты. — Если ты не виновата, ничего страшного. Зачем так волноваться? — успокаивала ее подруга. А у Сонби мелко дрожали ноги. — В комнате нет Сонби? Лишь услыхав вторичный зов, она двинулась с места. Выйдя за дверь, потрогала свое пылающее лицо. Хотела немного успокоить сердце, но оно то замирало, то начинало отчаянно биться, словно готово было вырваться из груди. Она никак не могла с собой справиться. Каждый шаг стоил ей громадных усилий. И чем ближе к канцелярии, тем медленнее она ступала. «Э, да разве можно быть такой? — прикрикнула она на себя. — Я должна быть смелой! Должна умело и уверенно им лгать!» Сонби решительно переступила порог канцелярии и остановилась. Надсмотрщик, попыхивая сигарой, посмотрел на нее и улыбнулся. Собрав все свое мужество, Сонби придала себе спокойный вид и стояла, скромно опустив глаза. Надсмотрщик кашлянул и заговорил: — Ты не больна? Вопрос был столь неожиданным, что Сонби усомнилась, не ослышалась ли она. Слегка приподняв голову, глянула исподлобья на говорившего: это был надсмотрщик, но не Тигр с противно дергающимся глазом, а другой, по прозвищу Юла. У Сонби отлегло от сердца. Этот был так мал ростом, что, хотя он и суетился и совал всюду свой нос, работницы относились к нему дружелюбнее, чем к другим надсмотрщикам. — Почему ты так осунулась? Надо беречь себя! Юла кашлянул и пристально посмотрел на Сонби. Ну и красотка! Недаром сослуживцы из-за нее чуть не ссорятся. Он так и пожирал ее взглядом. «Кому-то она достанется?» — думал Юла. Теперь понятно, почему все надсмотрщики полюбили дежурить в общежитии и неохотно уходят домой. Все подозревали друг друга и изнывали от зависти, но никто не отважился смело подступить к Сонби. Каждый старался снискать ее расположение. — Присядь-ка сюда, ну... Юла придвинул стул. Сонби села и расправила складки юбки. Ей хотелось, чтобы надсмотрщик скорее спросил ее о Каннани, она бы отделалась и ушла. При всякой встрече с надсмотрщиками ее охватывало отвращение, такое же, как к Токхо. — Сонби, — спросил наконец Юла, — вы, кажется, землячки с Каннани, той, что убежала этой ночью? — Да. — Она тебе ничего не говорила перед этим? Сонби вспыхнула при мысли, что вездесущий Юла спрашивает ее, уже заранее зная обо всем. Она обдумывала, как ответить. — Я... Нет, ничего особенного не могу припомнить сейчас. Юла поморгал глазами. — Ну, если ничего особенного... не говорила, то, может быть, она высказывала какое-нибудь неудовольствие, вроде того, что на фабрике, мол, тяжело работать, что некоторые надсмотрщики жестоко обращаются... Такого ничего она не говорила? — Право же, не помню ничего подобного. — Мм... Юла залюбовался щеками Сонби, раскрасневшимися, словно наливные яблочки! «Эх, такую девку...» — с сожалением подумал он, и его вдруг словно обожгло. Им овладело безудержное желание наброситься на нее сейчас же, схватить, обнять... Но если узнает кто-нибудь из сослуживцев, ему несдобровать. Доложат начальнику или же просто пригрозят убить. — А как ты относишься к бегству Каннани? Он давно наблюдал за Сонби, и ее кроткий нрав не давал ему повода сомневаться в ее непричастности к побегу Каннани, тем более, она ведь была в другой комнате и не могла знать. Коварные свои вопросы он задавал лишь для того, чтобы побыть с ней рядом и хоть о чем-нибудь поговорить. Пристально вглядываясь в нее, он был далек от мысли уличить ее; ему хотелось только узнать, нравится ли он Сонби. — Конечно, нехорошо она поступила, — едва выдавила из себя Сонби. Надсмотрщик рассмеялся... — Ха! Нехорошо поступила, говоришь! А ведь она одна не могла убежать. Видно, с каким-нибудь молодчиком сговорились. Как бы она одна ушла?.. Тебя надсмотрщик Ли вызывал, говорил с тобой? — Из этого вопроса можно было заключить, что надсмотрщики и друг другу-то не очень доверяли. — Нет? — допытывался он. Сонби, приложив руку к губам, слегка закашлялась. Как только она поняла, что надсмотрщик не подозревает ее, она вздохнула украдкой. — Что же ты молчишь, не отвечаешь? — Да! Что значит — да? Весьма неясно. Неужели он ничего не спрашивал у Сонби относительно этого дела? Зная настойчивый характер Ли, Юла был почти уверен, что тот вызывал Сонби и выспрашивал ее, и в нем зародилось подозрение: может быть, Сонби и Ли уже договорились между собой и умело скрывают это? А Сонби в это время вспомнились наставления Каннани, как нужно вести себя с надсмотрщиками. «Встречаясь с надсмотрщиком, ты не хмурься, делай веселое лицо и вообще веди себя так, чтобы они никак не могли догадаться о твоей деятельности», — учила Каннани. Сонби сразу стало весело, она улыбнулась. В этот момент послышались шаги на лестнице. Надсмотрщик сразу сделался серьезным. — Так ты ничего не знаешь о бегстве Каннани... Ну хорошо, можешь идти! Едва он проронил эти слова, Сонби стремительно вышла. Уже из своей комнаты она услышала невнятный разговор в канцелярии. Подружки жадно смотрели ей в рот, с нетерпением ожидая, что она скажет. — Ну что? Сонби расстелила постель. — Что, что... Известно что. — Разве ты не собираешься идти на занятия? — Нездоровится что-то. — Что такое? — Да так... нет сил. Подружки пригляделись к Сонби, вид у нее и вправду довольно кислый. Вдруг до них донеслась крепкая ругань надсмотрщика. Встревожась, как бы и их не вызвали, они с испуганными глазами поспешили покинуть комнату. С некоторых пор Сонби ощущала какую-то непонятную слабость, ее частенько лихорадило, лоб покрывался испариной. И каждый раз она тосковала по теплому полу в маленьком, крытом соломой домике, где жили они с матерью. Полвязанки дров было достаточно, чтобы нагреть этот пол возле очага. Сонби казалось, что стоило бы ей только укрыться одеялом на теплом полу, пропотеть как следует, и все бы прошло. Сонби вздремнула немного, а когда открыла глаза, в окно заглядывала луна. Она вытерла вспотевший лоб и повернулась лицом к свету. Снова вспомнила свой разговор с надсмотрщиком. Из его вопросов было совершенно ясно, что он ее не подозревает. Это радовало ее, но беспокоило другое: как справится она с возложенной на нее нелегкой задачей? Она вспоминала, что говорила ей Каннани об организации работы на фабрике, о том, как быстрее наладить связь с товарищами извне, как распространять прокламации, листовки... Но почему Каннани так поспешно отозвали? Что же там случилось? Возможно, кого-нибудь арестовали? Она беспокоилась не на шутку, но и любопытно ей было, какие они, эти товарищи, там, за стеной? Возможно, такие, как Чотче? Или даже Чотче не может поставить себя в один ряд с ними? Судя по тому случаю, когда Сонби встретила его по дороге на остров Вольми, похоже, что он не работает на каком-то определенном заводе, а каждый день нанимается поденщиком. Интересно, не свела ли и его судьба с такими людьми, как Каннани? Сонби до страсти захотелось увидеть Чотче. Прежде всего она постаралась бы указать ему единственно верный путь в жизни, внушила бы ему классовое самосознание. И тогда, казалось ей, он стал бы самым стойким, самым смелым борцом. Сонби не знала подробностей его жизни, но несомненно, что его прошлое мало чем отличалось от ее собственного. И почему тогда, в деревне, она так боялась его? О, как глупа и наивна была она тогда! Не она ли, поверив лживым обещаниям этой старой лисы Токхо, называла его отцом! Сколько слез пролила она, вынужденная в конце концов отдать ему свою невинность! Сколько раз хотела она расстаться с жизнью! Нет, нынешняя Сонби совсем не похожа на ту простодушную и доверчивую девочку, которую так легко удалось обмануть коварному извергу.* * *
Вернувшись в камеру после свидания с отцом, Синчхоль опять услышал этот ужасный скрежет закрываемой двери. Сердце его заныло, и он бессильно опустился на пол. Когда он впервые вошел в эту камеру и услышал, как захлопывается и запирается за ним дверь, он почувствовал себя уязвленным; в нем возмутилось чувство собственного достоинства, и в то же время это как будто придало ему силы для сопротивления. Появилась какая-то отчаянная решимость претерпеть все и выстоять до конца. А сегодня этот скрежет дал ему понять, как мало стоило его чувство собственного достоинства. Он охватил голову руками и поморщился. Перед глазами стояло грустное, страдальческое лицо отца. Горе ли убило его, или просто от тяжелой жизни, но его как будто подменили. Это был совсем иной человек, чем два года назад. Его угрюмый вид, исхудалое лицо — кожа да кости, его глаза с покрасневшими веками, когда он безмолвно смотрел на сына! Ни словом не обмолвился он о своих переживаниях, но было ясно, что душа его переполнена скорбью. Несколько мгновений отец и сын не могли произнести ни слова. — Ёнчхоль здоров? — спросил наконец Синчхоль. У отца на глаза навернулись слезы. — Мм... угу... — невнятно пробормотал он и отвернулся. От такого ответа у Синчхоля похолодело в груди, а в голове молнией пронеслось: «Уж не умер ли Ёнчхоль? Неужели я не услышу больше: «Купи конфетку!» Синчхоль прислонился к стене и закрыл глаза. — Ты не видался еще со следователем Паком? — донесся до него голос отца. — Прислушайся к его словам... Зря не упрямься... Вот все, что он успел сказать. Свидание кончилось. До сих пор звучит в ушах Синчхоля этот дрожащий голос. То была почти мольба. Она пробудила в Синчхоле такие думы, которые до сих пор были запрятаны в глубоком тайнике его души и в которых он раньше побоялся бы себе признаться. Как быть? Сделать так, как советовал ему Пенсик, с которым он виделся вчера? Пенсик — тот самый студент, что зубрил «Свод шести законов» и на которого обратил внимание Синчхоль, когда в последний раз был в читальне. Тогда Пенсик показался ему таким тупым и ничтожным, а теперь он стал уже следователем. В первый момент встречи Синчхоль был немало изумлен, но потом в нем заговорила гордость. Он нарочно напустил на себя подчеркнуто независимый вид. Разумеется, он и не думал прислушиваться к его советам, но даже просто сидеть перед ним, сознавая его превосходство, Синчхолю было крайне неприятно. Он отвернулся и отвечал упорным молчанием на все вопросы Пенсика. Несмотря на это, Пенсик по долгу службы или как бывший однокашник разговаривал деликатно и терпеливо. Теперь-то Синчхолю ясно, что отец ходил к Пенсику и униженно просил его повлиять на сына. И тот добросовестно и с жаром пытался убедить Синчхоля. «Разумеется, и я того же мнения, — говорил Пенсик, — нельзя полностью одобрить капиталистический строй и сказать, что в нем все справедливо и правильно, и совершенно естественно, что появляются смелые борцы, которые не признают этот строй и пытаются построить новое общество! Но уничтожить этот строй — длинная история! Ты сам отлично понимаешь, что для этого нужны долгие годы и огромные жертвы. «Я жертвую собой ради этого великого дела», — думаешь ты и убежден, что это прекрасно. А ты бы подумал иначе: что, мол, значит, в этом деле одна моя жертва? От этого революция не свершится ни сегодня, ни завтра. А ведь жизнь дается нам один раз, как же я могу пренебрегать собой? А о семье своей ты подумал? Их положение довольно плачевное. Не придется ли им из-за тебя завтра же просить милостыню под окнами? А представь себе только, что в этой тюрьме тебе придется провести лет десять, а может быть, и того больше... Ты, вероятно, хорошо осведомлен, что даже в Японии некоторые главари коммунистической партии[59] совершили полный поворот. Они, наверно, немало думали. Я высказал все. А что ты обо все этом думаешь?» Пенсик с самодовольной улыбкой смотрел на Синчхоля и ждал. Его намерение своей явно эгоистической теорией склонить Синчхоля к измене вызвало в нем лишь усмешку. Он почувствовал себя даже оскорбленным. Он не стал отвечать Пенсику. Тот разгадал его настроение. — Ну что ж, возвращайтесь и как следует глубоко все продумайте. Я не по долгу службы, а во имя прежней дружбы ото всего сердца заклинаю... В это время к Синчхолю подошел надзиратель и скомандовал: — Встать! Насколько же ослабела его отчаянная решимость в тот момент, когда он увидал сегодня изнуренное лицо отца и почувствовал в его голосе мольбу. Синчхоль глубоко вздохнул. Перед ним проплыли лица его товарищей: Памсона, с которым вместе попали в тюрьму, и тех, кто остался там, на воле. Особенно ясно представилось ему страшно увеличенное лицо Чотче. Стараясь избавиться от этого видения, Синчхоль широко раскрыл глаза. Еще вчера вечером он с такой симпатией вспоминал это лицо, а сегодня оно почему-то пугало его. Солнечные лучи, проникая в окошко, отражались на стене словно бы пучком красных ниток. Лучам приходилось пробиваться сквозь стекло, решетку, толстую сетку и четыре ряда тонкой сетки! Эти лучи стали его друзьями. Когда надзиратель заглядывал в «глазок», Синчхоль спрашивал у него, который час, и тоненькой царапинкой на стенке отмечал положение луча. По этим отметкам он теперь определяет время. Сейчас его «солнечные часы» показывают половину двенадцатого. Отец теперь вернулся домой и, наверно, очень страдает... Хоть он и ничего не сказал, но похоже, что ему пришлось уйти из школы. Отец — единственный кормилец семьи, и, если только он ушел из школы, они в безвыходном положении. Отец не хотел показать этого, но и без того нетрудно было догадаться. Как же быть? Ради семьи он непременно должен вырваться отсюда. К тому же он настолько слаб физически, что ему просто невозможно здесь оставаться. Синчхоль вспомнил о пытках, которым подвергся в полицейском участке, и мороз пробежал у него по коже. Нет, второй раз ему такого не выдержать. Он умрет, если ему придется еще раз испытать нечто подобное, особенно теперь, когда он уже испробовал, что это такое. Он точно не знал, но, кажется, окончательного решения можно ждать и год и два, пока будет вестись следствие. И опять-таки сколько присудят: десять лет? пятнадцать? Но десять лет на воле и десять лет в тюрьме — не одно и то же. Итак, ему предстоит всю жизнь провести в тюрьме! Возможно, Пенсик не так уж и не прав? Синчхоль тяжело вздохнул и весь поник. Нечаянно взглянув себе на ноги, он увидел, что по пальцам ползает муравей. Синчхоль обрадовался, взял его и снова опустил на пол. Муравей в явной растерянности помешкал немного, потом попытался удрать. Отползет чуть-чуть, а Синчхоль опять поймает его, подержит в раздумье, отпустит и наблюдает за ним. В голову ему пришло неожиданное сравнение. То, что произошло с ним, так же бессмысленно, как то, что происходит сейчас с муравьем. Совершенно очевидно, что муравей случайно заполз сюда, ибо незачем было залезать в эту пустую камеру, где нечем поживиться. Сегодня этому муравью не удастся ничего раздобыть. Ко всему прочему он попал в руки Синчхолю и терпит издевательство. Не так ли обстоит дело и с самим Синчхолем? До сих пор он только терпел лишения, страдал от нехваток, а теперь попал сюда. Но и это еще не все. Что ждет его впереди? Допустим, через десяток лет или больше, если, по счастью, останется жив, он выйдет отсюда. Но к тому же времени он уже настолько отстанет от жизни, что не сможет примкнуть ни к тем, ни к другим и в конце концов превратится в такого же жалкого, гнилого интеллигентика, как Ильпхо и Кихо. Так что, может быть, выйти отсюда? Синчхоль отрицательно потряс головой. Но сам уличил себя в том, что жест его был далеко не энергичен. Вдруг ему почудился замирающий звук ивовой свирели. Он вскочил.* * *
У Сонби пропал аппетит; она отправилась вместе со всеми на работу, даже не поужинав. Сегодня был ее черед работать в ночь. Никто из работниц не любил ночной смены. Охотно соглашались на это только работницы, погуливающие с рабочими. Разумеется, и ночью надсмотрщики следили за работой, но они сменялись по нескольку раз за ночь, и пока один сдавал другому дежурство, работницы успевали перемигнуться с рабочими, которые приносили ящики с коконами или приходили по другому делу. Да притом ночью надсмотрщики следили не так строго, как днем. И вот они, пользуясь любым благоприятным случаем, старались встретиться с рабочими. Не раз и не два такая парочка, сговорившись, исчезала на время. И как зорко ни следили и ни наблюдали надсмотрщики, однако подобные вещи частенько повторялись. Сонби подошла к котлу под номером шестьсот три и легонько коснулась плеча подруги. — Ну, иди, пора уже. Подруга как раз чистила котел. Она живо обернулась: — Мне еще котел чистить. — Не беспокойся!.. Умаялась небось? Подруга быстро вынула катушки, сложила в ящик и ушла. Сонби взяла щетку, почистила котел, вылила грязную воду и налила свежей. Она чистила машину и в то же время не переставала управлять ею, ибо Сонби, да и не только Сонби, а все работницы этой фабрики знали, что машина должна работать непрерывно. Опасаясь, как бы не попали в машину волосы или одежда, они туго повязывали головы платками и облачались в черные комбинезоны, закрывающие их сверху донизу. Дело в том, что прошлой весной трагически погибла одна работница из-за того, что волосы ее попали в катушку и в конце концов ее всю затянуло в машину. На фабрике это держалось в строгом секрете, об этом запрещали и говорить. Но так как некоторые работницы оказались свидетелями печального происшествия, об этом знала вся фабрика. Тогда-то начальство приказало в обязательном порядке повязывать платок и носить комбинезон. Разумеется, фабрика не обеспечивала спецодеждой, работницы обязаны были приобретать ее за свой счет. Сонби высыпала в кипящую воду коконы, которые принес работник, вода забурлила, и коконы закружились, запрыгали в котле. Вдруг Сонби глухо закашляла, содрогаясь всем телом. Кашель бил ее все сильней. Стараясь приостановить его, Сонби плотно сжала губы и перестала дышать. Но кашель мучительно подступал к горлу, стремился вырваться наружу. Борясь с кашлем, Сонби ни на секунду не отрывалась от работы. Она взяла маленькую метелочку и стала давить кипящие коконы. Приставшие к метелочке концы нитей проворно захватывала в левую руку. Лицо ее обдавало горячим паром, пальцы нестерпимо жгло, а по спине все время пробегал озноб. Сонби почувствовала недомогание еще с весны, но думала, что это так, легкая простуда. Однако и теперь, с наступлением лета, болезненное состояние не проходило, а вдобавок еще начался кашель. Это очень ее тревожило, но врачу показаться она не захотела. Сонби положила метелочку и стала быстро прилаживать к фарфоровым иглам концы нитей, которые держала в левой руке. В одну иглу никак не удавалось продеть нитку. Возможно, нитка оказалась толста. Раз пять-шесть принималась она продевать, пока, наконец, приладила и эту. Нить, продетая в фарфоровую иглу, точно так же, как продевается нитка в игольное ушко швейной машинки, скручиваясь, направляется к катушке и наматывается на нее. Над катушкой подвешен стеклянный крючок. Зацепив нитку, он снует то вправо, то влево, чтобы нитка наматывалась равномерно. Яркий свет электрической лампочки, отражаясь в окнах и стеклянном потолке, слепил глаза. Оглушал шум динамо-машины. Подступавший кашель сотрясал все тело Сонби, и она не находила себе места. Как ни старалась она управлять каждой из двадцати катушек, но в таком состоянии это было совершено невозможно. То ее знобило, теперь вдруг бросило в жар, она вся горела, влажная от пота одежда прилипла к телу. Пот дождем струился со лба, и она не знала, что делать. Дыхание участилось, стало прерывистым. Пальцы горели и потеряли чувствительность. Она уже не ощущала их, руки стали как чужие. В нескольких местах сразу оборвались нити. Сонби нажала на педаль, остановила машину и торопливо ухватила оборванные концы. Тут возле нее раздался громкий окрик надсмотрщика: — Живее связывай! Что это нынче с тобой? С раздражением хлестнув плеткой по катушке, он пустил машину. Катушки завертелись с оборванными концами. Сонби чуть не заплакала. Выходит, она всю эту ночь проработала даром. Раз надсмотрщик пустил машину, ей непременно придется платить штраф в двадцать сэн. Растерянно глядя на вертящиеся катушки, Сонби старалась поймать концы нитей. Все перед глазами кружилось, к горлу непрерывно подступал кашель. — О чем мечтаешь? — снова закричал надсмотрщик. — Коль так нерадиво будешь работать... смотри! У Сонби заныло сердце, и она насторожилась. «Уж не догадались ли они? — подумалось ей. — Не потому ли чуть не каждый день делают ей выговоры?» Сердце ее заныло еще сильнее, ноги подкашивались. Наконец Сонби удалось кое-как связать концы нитей. А надсмотрщик уже заносит что-то в записную книжку. Искоса поглядывая на Сонби, он положил книжку в карман и пошел дальше. Сонби облегченно вздохнула и тут же сильно закашлялась. Боясь, как бы это не разозлило надсмотрщика, она посмотрела ему вслед. Он стоял возле недавно поступившей работницы, разговаривал с ней и чему-то смеялся. Затем игриво шлепнул ее по мягкому месту. — Работай лучше! Премию получишь! Работница кокетливо повела плечами, взглянула на надсмотрщика и, медленно опустив глаза, улыбнулась. Это было ее манерой — улыбаясь, опускать глаза. Сонби была довольна, что надсмотрщик оставил ее в покое и заигрывает с новой работницей, однако с опаской подумала, что такая перемена отношения не на руку ей. Этак, пожалуй, надсмотрщики скоро догадаются о порученной ей работе. Раньше хоть иногда давали премию и не ругали, когда нитки обрывались. Но с тех пор, как появились новые работницы — посговорчивее, надсмотрщики совсем обнаглели, стали гораздо придирчивее. За то, что случилось сегодня, Сонби должна была уплатить тройной штраф. Хотя Сонби по-прежнему проворно двигала пальцами, но дышала тяжело. Ей становилось все хуже, кашель почти не отпускал ее, грудь сдавило. Да и расстроилась к тому же: надеялась иметь в получку хоть несколько десятков сэн, а теперь из-за неприятности с катушками и эта надежда исчезла. Она снова вспомнила слова Каннани о страшных людях и с раздражением подумала: «До каких же пределов может дойти наглость надсмотрщиков и как долго можно угождать их прихотям». С трудом сдерживая подступивший кашель, Сонби пыталась концом метелочки достать личинку. Вытащив личинку, Сонби взяла ее в рот и, подняв голову, посмотрела на катушки. Они вращались с молниеносной быстротой, а на них, белой радугой протянувшись от котла, наматывались шелковые нити. С каким благоговением взирала она раньше на эти катушки, и невозможно было никакими словами высказать того чувства удовлетворения, когда она впервые самостоятельно сняла катушки, сложила их в ящик и вошла в контрольную комнату. Теперь же она смотрела на них почти с ненавистью. Они казались ей подобными какому-то громадному насекомому, которое вгрызается в нее, подтачивая ее жизнь. Громкий голос надсмотрщика заставил ее оглянуться: тот, хлестнув, завертел катушки у ее соседки. Работница покраснела, растерялась и старалась связать концы нитей. Ее руки! Ее пальцы! Право, на них страшно смотреть. Сонби стерла со лба пот и глянула на свои пальцы. Кисти покраснели от пара, а пальцы, распаренные в воде, стали совсем белыми. Казалось, что это мертвые пальцы подвешены к живой руке. Сонби всю передернуло. Она знала: на фабрике таких пальцев — тьма-тьмущая.* * *
Чотче томился от безделья в комнатушке, похожей скорее на пещеру, чем на человеческое жилье. Для него, который раньше работал чуть ли не каждый день, сидеть вот так, сложа руки, было ни с чем не сравнимой мукой. Он вынужден скрываться, поэтому товарищи подбрасывают ему кое-какие деньжата. Так он и перебивается. Раньше ему не приходилось особенно много раздумывать, зато теперь, сидя день-деньской без дела, каких только дум он не передумал! Особенно часто вспоминал он в эти дни Синчхоля. Он неоднократно узнавал о Синчхоле от Чхольсу, но все это были вести не из приятных. «Хорошо бы выйти поскорее и опять рука об руку работать, как прежде», — размышлял он. И снова перед глазами вставало шествие, направлявшееся на остров Вольми, изумленное лицо Сонби. Если это была Сонби, они непременно когда-нибудь встретятся. Да, ведь еще вчера ночью собрался он пойти к Чхольсу — узнать новости с текстильной фабрики. Сейчас он загорелся нетерпением и вышел на улицу. Чхольсу оказался дома. — От товарищей из Сеула новость о Синчхоле узнал, — сообщил он упавшим голосом. Чотче вскинул голову и широко раскрыл свои и без того большие глаза. — Дело прекращено, он на свободе... — продолжал Чхольсу. — Причина — идейный поворот. — Поворот?.. Чотче машинально повторял его слова и не знал еще, верить ему или нет. Какая-то тяжесть сдавила ему грудь. — Друг, — сказал Чхольсу, заметив его состояние, — отступничество Синчхоля не такое уж сверхнеожиданное событие. Таковы уж эти образованные. Не то что мы. Говорят, — продолжал он, — Синчхоль, едва вышел из тюрьмы, сразу на работу в Маньчжурию укатил... Да еще, говорят, подцепил очень богатую девицу. — В Маньчжурию?.. Богатую девицу?.. Это известие сразило Чотче. В это время со двора послышались дробные, торопливые шаги, и дверь распахнулась. Оба они вскочили — на пороге стояла Каннани. Чхольсу смутился. Каннани прерывисто дышала и в первое мгновение не могла вымолвить слова. — Прошу вас... Срочно... Ко мне... ладно? Только скорее... — едва выговорила Каннани и, не успели они опомниться, стремительно выбежала. Лицо Каннани показалось Чотче очень знакомым, но кто это — он сразу не мог вспомнить. — Пойдемте вместе, — сказал Чхольсу, — видимо, кто-то умирает... Торопливо шагая по улице, Чхольсу огляделся по сторонам и тихонько проговорил: — Вчера на текстильной фабрике одну работницу — нашего товарища — уволили по болезни... — и добавил с горечью: — А болезнь-то — чахотка... Чхольсу вздохнул и плотно сжал губы. Чотче смотрел на возвышавшуюся над лесом трубу текстильной фабрики. Она по-прежнему выпускала черные клубы дыма. «Не подхватила бы Сонби такую болезнь!» — с тревогой подумал он. Каннани уже ждала их возле своего дома. Губы ее вздрагивали, она пыталась что-то сказать, но лишь беззвучно шевелила губами. Они кинулись в комнату. Чхольсу, подойдя к больной, наклонился и пошевелил ее. — Товарищ, очнись, товарищ! Но тело было уже холодным, лицо посинело. Чхольсу тяжело вздохнул и оглянулся на Чотче. Чотче, стоявший с похолодевшим сердцем, сделал шаг вперед, вгляделся... — Сонби! — не помня себя, закричал он и замер. Все померкло перед глазами, и он почувствовал, что летит куда-то в бездонную пропасть. И это — Сонби, о которой он с детства тосковал! Та Сонби, с которой мечтал он хоть раз встретиться! Это она лежит здесь мертвая... Она умерла! Молнией пронеслось в его мозгу: «Подцепил богатую девицу... Укатил в Маньчжурию...» Синчхоль предал! Отступился! Отошел от борьбы. Что ж! Обыкновенный собственник — перед ним было много дорог... Он мог выбирать. А у него, у Чотче, только одна дорога. Вот в чем разница между ними! Так думал Чотче, не отрывая глаз от Сонби. Он так стремился к ней с самого детства... Он так мечтал сделать ее своей женой и растить с ней детишек... И вот Сонби, с которой он и заговорить-то ни разу не посмел, лежит теперь здесь, перед ним, бездыханной! Вот она — страшная действительность! Лишь теперь, мертвую, швырнула она ему ее: на, мол, получай свою Сонби! Так думал Чотче, и в глазах его сверкали гневные молнии. Он дрожал. Черная рука хищника смяла, исковеркала, выжала все соки и лишила жизни эту прекрасную девушку! Эта черная рука, разрастаясь в огромную черную массу, надвигалась на него, а он с решительностью вперил в нее взор. Черная масса! Постепенно ширясь, распространяясь, она закрывает от него свет. И разве только от него? Эта масса становится на пути человечества... Смести, уничтожить эту черную массу — разве это не основная проблема человечества? Да! Это проблема человечества. И ее необходимо разрешить прежде всего. Несколько тысячелетий боролись люди за ее разрешение, но она еще не решена! Человечество решит эту проблему. Но тернист путь к этому. Только тесно сплотившись, смогут разрешить ее люди, которые, подобно Чотче, вступили на путь борьбы, смело шагают вперед. Июль 1934 г.Монгольская Народная Республика
Сэнгийн Эрдэнэ
Сэнгийн Эрдэнэ — известный писатель, журналист, публицист, признанный мастер психологической прозы малого жанра. Родился в 1929 году в семье арата (сомон Биндэр Хэнтэйского аймака), в 1954 году окончил медицинский факультет Монгольского государственного университета. Печатается с 1949 года. В начале творческого пути выступил как поэт. Первая книга стихов «Когда едешь по степи» вышла в 1949 году, вторая — «Весенняя лирика» — в 1956 году. В дальнейшем писатель обратился к прозе. Один за другим вышли несколько сборников его новелл: «Когда приходит весна» (1959), «Год спустя» (1959), «Хонгор зул» (1961), «У самого горизонта» (1962), «Пыль из-под копыт» (1964), «Рассказы» (1966), «Дневная звезда» (1969). В 1965 году писатель был удостоен Государственной премии. Известны повести писателя «Салхитинцы» (русский перевод — 1961), «Жена охотника», «Богатый оазис», «Год синей мыши» (1970; русский перевод — 1974) и другие. Значительна и актуальна публицистика С. Эрдэнэ. В произведениях этого жанра, как в рассказах и повестях, автора занимает внутренний мир человека, становление его личности и характера, логика поступков, строй мыслей и чувств. В очерке «Город и человек» (русский перевод — 1973) С. Эрдэнэ пишет, что «последние годы читатели более всего интересуются интеллектуально-психологической прозой. Это и понятно: эстетические потребности современного образованного человека, вникающего в проблемы науки, техники и политики, не может удовлетворить традиционно-описательная литература. Современная городская цивилизация мало что оставляет от психологических установок арата-скотовода. Быстрое крушение старых привычек, неудержимое проникновение интернациональных влияний меняют и обогащают духовный облик людей». Это постоянное наблюдение писателя за процессом обогащения духовного облика людей запечатлено, в частности, в его повести «Дневная звезда». Дочь бедной аратки, не дождавшись любимого, погибшего от тяжелых ранений в боях у реки Халхин-Гол, одна, с ребенком, уезжает в город. Ее собственная стойкость, активное сочувствие чутких людей, движимых высокими нравственными идеалами нового времени, помогают молодой женщине пережить потерю, возродиться для новой жизни. Г. ЯрославцевДНЕВНАЯ ЗВЕЗДА
В то лето, накануне халхин-гольских событий, Цаганху призвали в армию. Словно по волшебству, из мальчишки-увальня он сразу превратился во взрослого мужчину. Цаганху исполнилось двадцать лет, но его никто не принимал всерьез из-за того, что он избегал общества девушек и молодых женщин. И хотя он изо всех сил старался изобразить из себя мужчину, у него это не получалось — уж очень он был неловок. Паренек никак не мог преодолеть скованность и застенчивость и постоянно завидовал более удачливым молодым людям. Лишь одно обстоятельство несколько утешало его: он хорошо знал грамоту. Приятно, когда к тебе то и дело обращаются с просьбами написать письмо или составить заявление. Выжженная солнцем, безмолвно раскинулась обширная долина между реками Онон и Керулен. Во всем ощущалась тревога, казалось, даже воздух был насыщен ею: ходили слухи о неизбежной войне. В один из знойных дней Цаганху возвращался домой с пастбища. Его отец, старый Юмжир, едва узнав о призыве молодежи в армию, послал сына за хорошим скакуном. Юноша отыскал табун с большим трудом — лошади укрылись от жары за гребнем горы, на опушке леса. Он выбрал серого жеребца, а изнуренного долгой дорогой своего коня оставил в табуне. Возвращаясь домой, Цаганху думал о предстоящей службе. Куда, в какие края забросит его судьба? Что нового он увидит и услышит? Если верить слухам, скоро начнется война, значит, и его пошлют на фронт... Впрочем, последнее обстоятельство его особенно не тревожило. Впереди новая интересная жизнь. И это главное. Цаганху скакал по выжженной солнцем степи. Был еще только июль, а трава уже пожелтела и поникла. Окрестные горы казались сонными. К северу от реки Хялганатын на деревянной кровле монастыря одиноко торчал ганжир[60]. Казалось, он остался там потому, что в последний момент люди поленились лезть так высоко, чтобы его снять. Ламы, жившие еще недавно в монастыре, разбежались — кто обзавелся хозяйством, кто переехал в аймак[61] или сомон[62] и поступил на службу. Два года назад к монастырю стекались толпы верующих. Тогда храм выглядел иначе — величественно и сурово. Даже среди сверстников Цаганху кое-кто ронял слезу умиления при виде храма. Теперь же пустой и заброшенный храм свидетельствовал о неукротимом беге времени, о тех изменениях, которые совершались в жизни. Когда Цаганху переезжал почти пересохшую реку Хялганатын, он увидел всадницу. Он сразу узнал младшую дочь старушки Пагмы — Цэрэндулам. Они жили по соседству. Девушке шел всего семнадцатый год. Но парни уже засматривались на нее. Нравилась она и Цаганху. «Я же в армию иду, времени совсем мало...» — подумал он и погнал коня навстречу девушке. Куда только девалась его робость и застенчивость. Как чудесно колышется в седле стан девушки! Как сияют ее синие глаза! Серый стремя в стремя остановился рядом с ее буланым. — Да ты меня едва не опрокинул, — сказала Цэрэндулам. — Далеко ездила? — На вершину Овота, просить у неба дождичка, — насмешливо ответила она. — И что обещало небо? — Обещало послать дождь. — Когда же? — После твоего ухода в армию. — Вот оно что! Послушай, Цэрэндулам, давай зайдем в монастырь, храм посмотрим. — Эка невидаль — пустой храм! — ответила девушка. — Скажи-ка лучше, когда ты уходишь в армию? — Совсем скоро. — Хорошо бы, засуха кончилась до твоего отъезда. — Да. — Он подхватил поводья ее коня и соскочил на землю возле храма. Девушка вздохнула — пришлось ей все-таки покориться. — Ну ладно уж, — сказалаона строго, — раз мы пришли помолиться в пустом храме, войдем! Они привязали лошадей и вошли в храм. Сердца их забились: здесь их отцы и матери на протяжении всей своей жизни возносили молитвы к небу. Теперь храм был пуст. На окнах и потолке птицы свили гнезда. В храме стоял удушливый запах гнилого дерева и мышиного помета. — Вот на этой скамье слева сидел гавжи[63] Соном, — нарушил молчание Цаганху. — Отец очень уважал его... Гавжи был знаменитым лекарем. Может, и ты его помнишь? Я в этом монастыре провел целую зиму. Мне тогда было семь лет. Здесь я научился грамоте. Хорошо помню этого лекаря. Хитрый был человек — принося богу жертвы, он и себя не забывал. Перед бурханом[64] ставил крошечную серебряную чашечку, а себе наливал огромную чашу. И лицо у него было всегда красное. Внезапно юноша привлек к себе девушку и поцеловал ее. — Пойдем отсюда скорее, — упавшим голосом сказала Цэрэндулам — куда только делась вся ее храбрость. — А то еще заметит кто-нибудь, что мы здесь одни, стыдно будет. Они выбежали из храма, вскочили на коней и разъехались в разные стороны. Вечером зажигали костры, и над аилом[65] стояло густое облако дыма. Иначе невозможно было доить коров — не было от комаров спасенья. Хозяйство у Юмжира было богатое — молоко рекой лилось. Из года в год приезжали из аймака мясники и торговцы молочными продуктами, покупали мясо, масло, заключали новые договоры. ...Цаганху был занят починкой сбруи, когда с улицы в дом ворвался разъяренный отец. Схватив с крючка ремень, он остановился перед сыном. — А ну говори правду! Что ты делал с дочкой оборванки Пагмы в пустом храме? — заорал он. — О чем вы, отец? — спросил Цаганху. Своим вопросом он окончательно вывел Юмжира из себя. Удары ремня посыпались на голову и плечи парня. — Скажешь теперь, собака? — Нет! Не скажу! От криков и ругательств Юмжира дрожали стены. Глаза у него налились кровью. — Ну, щенок, натворил ты дел! Черт бы тебя побрал! Тебе в армию идти! Вот о чем думать надо, а не шашни с девками заводить. Я еще с той мерзавкой поговорю по-своему, не погляжу, что мать старуха, свяжу, да и... Цаганху вдруг вскочил и сжал кулаки. — Что вы городите? — заорал он в ответ и бросился из дому. — Куда ты, паршивец? — крикнул отец ему вдогонку. Но сына уже и след простыл. Он ускакал верхом на коне, успев, однако, крикнуть, что пожалуется на самоуправство отца сомонным властям[66]. Это слышали все соседи, доярки и дети. В ту ночь Южмир не мог уснуть. И не столько из-за того, что сын согрешил с девчонкой в пустом храме, сколько из-за себя самого. Тяжелый был он человек. Некоторые считали его добрым и отзывчивым. Но в действительности он не был таким, его интересовала только собственная выгода. В трудную минуту, не задумавшись, он мог столкнуть в воду ближнего. Бедняков ненавидел — с тех пор, как победила в стране революция и закон стал на их сторону. А теперь вот его родной сын пошел на сближение с девчонкой из неимущей семьи. Этого он не мог перенести. Ну и времена! Все кувырком идет! Мало этого, вместо того чтобы внять отцовскому поучению, сын грозится на него жалобу подать! Ну, ничего, в армии его обломают, научат старшим повиноваться... Так думал Юмжир, беспокойно ворочаясь с боку на бок. ...Когда погасли вечерние сумерки, Цаганху спешился возле юрты старой Пагмы. Рядом стояла еще одна юрта — там жила старшая сестра Цэрэндулам с мужем и двумя сыновьями. Юноша, стараясь не шуметь, привязал коня к коновязи. Старуха, кажется, уже похрапывает. Цаганху тихонько кашлянул. В ответ раздался скрип кровати. Цаганху зашептал в щель: — Цэрэндулам, выйди ко мне. Это я. Бесшумно ступая босыми ногами, девушка подошла к двери. Она была так близко от Цаганху, что он почувствовал ее дыхание. — Я сейчас, — прошептала девушка. Под навесом, куда прокрался Цаганху, остро пахло свежевыделанными шкурами. Через минуту открылась дверь юрты и появилась Цэрэндулам. Цаганху взял ее за руку. — Послушай, я только что едва не подрался с отцом. — Догадываюсь, — весело сказала девушка. — Я не стерпел его нападок, сказал, что еду жаловаться, а сам — к вам. Подумать только, как быстро всем стало известно, что мы с тобой вдвоем были в пустом храме. Да мне казалось, нас никто и не видел. Интересно, кто это мог насплетничать про нас? — Я, — засмеялась в ответ девушка. — Не говори ерунду! — Так оно и есть! Когда мы с тобой расстались, я по дороге встретилась с тетушкой Чанцал. Она спросила, куда я ездила. Я ответила: в храм вместе с Цаганху. «Что вы там делали?» — спрашивает. «Как что? Молились бурханам». — «Это в пустом-то храме?» — «Но когда-то он не был таким. Неужто человеку перед уходом в армию и помолиться нельзя?» — пошутила я. Вот тебе и тетушка Чанцал! Чем тебе не телеграф! Цаганху ничего не ответил. Подняв девушку на руки, он крепко прижал ее к себе. Цэрэндулам обхватила его за шею. ...Среди ночи вдруг поднялся сильный ветер, засверкали далекие молнии. Почувствовав приближение ливня, Цаганху сказал: — Смотри-ка, Цэрэндулам, выходит, ты дождь выпросила. Кончается засуха! Потоки воды хлынули на иссохшую землю. Оглушительно гремел гром. Природа ликовала. И это ликование сливалось с бурной радостью двух влюбленных. Казалось, все произошло, как по волшебству, и они были счастливы. Они были вместе. Теперь у них все будет общее: тревоги и волнения, радость и невзгоды. Отныне они навсегда принадлежали друг другу. — Похоже, это мы с тобой покончили с засухой, — сказала девушка, лаская Цаганху. — Уткнувшись ему в плечо, она вдруг расплакалась. — Тебе пора возвращаться домой, любимый. Скажи своей матушке, что ее заказ готов, шкурки выделаны. Она, верно, хочет сшить тебе из них новый теплый дэл[67]. Когда Цаганху вернулся домой, отец уже встал и теперь сидел за чаем. Он строго взглянул на сына. — Ты что, ливень в лесу пережидал? Сомонные власти тебя, надо думать, похвалили: хорош, мол, сынок, на отца жалуется! Однако хватит шутить. Тебе повестка! Только что привезли. Через двое суток велено прибыть в сомонный центр. Понял? — Понял, отец, — ответил Цаганху, вешая уздечку. В долине реки Хялганатын царило оживление — провожали в армию парней. Засуха кончилась, и природа ожила. Засинело небо. Поднялись травы. Даже не верилось, что всего несколько дней назад стояла засуха. Призывники собрались на подворье Юмжира. Цаганху, одетый в новый шелковый дэл, подпоясанный зеленым поясом, сидел молча, изредка отирая пот с лица. Улучив минуту, когда стих шум, Юмжир поднял серебряную чашу с водкой и, прикрыв глаза, начал молиться. Губы его при этом чуть заметно шевелились. Окончив молитву, он окунул безымянный палец правой руки в водку и благословил все четыре стороны света. — Ну, дети, — сказал Юмжир, — настал ваш черед служить государству. Служите хорошо. Будьте смелыми и храбрыми. Не посрамите чести своих родителей. В тревожное время покидаете вы родные края. Да, как говорится, добрый конь о камень не споткнется. Я желаю всем вам вернуться домой живыми и здоровыми! Ушедшая из дома рано утром Цэрэндулам вернулась после полудня и принесла с собой маленькое деревянное ведерко. — Что это у тебя? — спросила мать. — Молочная водка, — ответила Цэрэндулам. Старушка подумала, что дочь шутит, и засмеялась беззубым ртом. — Правда, мама. Помнишь, тетушка Ням обещала дать нам осенью теленка за работу? Вместо него я теперь взяла водку. — Зачем нам водка? — Ты слышала, что наши парни в армию идут? — Ну, слышала. — Сейчас они у Юмжира. Потом поедут по аилам. Может, они не поглядят, что наш аил бедный, и к нам заедут. Нехорошо, если у нас не окажется, чем их угостить. — Твоя правда, доченька. Цэрэндулам, несмотря на свои приготовления, в душе все же сомневалась, заедут ли к ним гости. Самым большим ее желанием было повидать Цаганху. И почему только она сама его не пригласила? Наблюдая за дочерью, всегда веселой и радостной, мать дивилась теперь ее тихому поведению. Цэрэндулам сделалась молчаливой и все время о чем-то думала, но о чем, старушка не осмеливалась спрашивать. В конце концов девушка не вытерпела — собрала овечьи шкурки, выделанные по заказу Юмжира, и решила поехать к ним. Сестра Цэрэндулам пыталась ее удержать: — У них там пир горой, а тебе приспичило являться... Но ничто уже не могло удержать девушку. В доме Юмжира готовились к торжеству — слышались высокие и низкие мужские голоса, смех. Мать Цаганху, крупная пожилая женщина, громким пронзительным голосом отдавала распоряжения девушкам, хлопотавшим на кухне. Она придирчиво ощупала принесенные шкурки и, не найдя изъянов, сказала: — Ладно, хорошо работаешь! Можно подумать, у тебя не две руки, а четыре. Ближе к осени мы дадим вам овечку. Жалею я твою мать. Она старается, бедняга, чтобы из тебя человек вышел. Слова эти задели девушку, но она и вида не подала, что обиделась. Однако в ответе ее прозвучал вызов: — Не беспокойтесь о плате, тетушка Дулам. Все знают, как вы любите помогать людям. — Тоже мне богачка выискалась, лучше бы о матери побольше думала, — ответила супруга Юмжира, делая вид, что не уловила иронии в словах Цэрэндулам. Девушка не уходила — она надеялась повидаться с Цаганху. Наконец дверь отворилась, она увидела любимого. — Я принесла шкурки для твоей матери, Цаганху. Ты заезжай к нам, не смотри, что мы бедные. Он ответил ей любящим взглядом. — Приеду, обязательно приеду. Услышав слова сына, Дулам-авгай[68] сердито загремела ведром: — Приедет, приедет, он в любое жилье готов заехать. Были бы двери открыты... Дома Цэрэндулам, не чуя под собой ног от радости, вместе с матерью и сестрой готовила праздничный стол. Для Пагмы, которой довелось испытать много горя в жизни, младшая дочь была отрадой, и она, глядя на ее оживленное личико, тоже радовалась. Мужа старшей дочери, давно вышедшего из призывного возраста, уже месяц не было дома. Он подрядился отвезти груз в Эрэнцав. В тот вечер старая Пагма особенно внимательно приглядывалась к своим дочерям. Очень уж они были разные. А ведь одной матерью рождены! На глаза ее то и дело набегали слезы. Цаганху вместе с четырьмя товарищами — остальные разъехались по домам — появился поздно. Он достал из-за пазухи новенький голубой хадак[69] и преподнес его старушке: — Желаю вам дождаться нашего возвращения и быть здоровой. Не скажете ли благопожелание в честь нашего отъезда? Смахивая слезы тыльной стороной ладони, старая женщина сказала: — Желаю вам жить долго-долго и счастливо-пресчастливо! Цаганху заметил, как тщательно причесана Цэрэндулам и что на ней ее единственный шелковый тэрлик[70], и ему вдруг стало не по себе. «Они не увидятся несколько лет! Лучше бы все это случилось в другое время. Как он теперь расстанется с Цэрэндулам?» До сих пор ему не приходилось испытывать горечь разлуки. От одной только мысли о ней у Цаганху больно сжималось сердце. Наутро все двадцать призывников отправлялись на службу. Никто не бежал за ними босиком. Никто не плакал в голос. Провожая близких в дальний путь, люди соблюдали старинный обычай, повелевающий сдерживать свои чувства. Вместе со всеми провожала парней в армию Цэрэндулам. Девушка кропила им вслед молоком[71], а слезы катились у нее по щекам. Зима в тот год стояла теплая. У старой Пагмы в хозяйстве скота было немного, и беспокоиться за него не было нужды. Хватало подножного корма. Кроме того, еще с осени Цэрэндулам заготовила сена. И вообще эта зима была самой хорошей в жизни девушки и ее матери. Они рано перекочевали на зимник, заранее утеплили маленькую серую юрту, починили сарай для скота, заготовили мяса, прирезав теленка, полученного в уплату за выделывание шкурок. Теперь старуха пряла шерсть и вязала чулки. Цэрэндулам шила. Зимой Цэрэндулам ощутила, как шевелится в ее чреве дитя. Мать и дочь до последней возможности скрывали, что в их семействе ожидается прибавление. Да только как ни скрывай, разве такое скроешь? Цэрэндулам сама сперва ни о чем не догадывалась и, только когда к концу осени заметила, как раздалась ее талия, решила обо всем рассказать матери. Теперь она частенько плакала, глядя на далекие горы. Мать и сестра сообразили, от кого будет у Цэрэндулам ребенок, но помалкивали — такова уж женская доля. Больше всего их тревожила людская молва. Злой язык, как червь, может источить человеческую душу. Недоброе слово приносит горе. Оно лишает человека душевного равновесия и лишает его надежды на лучшее. Цэрэндулам еще в начале зимы стала посещать кружок грамоты. Она быстро усвоила алфавит, научилась из букв составлять слова. Это было удивительным событием в ее жизни. Занятия в холодной юрте под красным флажком, за столом, грубо сколоченным из необструганных досок, вдруг как-то преобразили ее жизнь и породили страстное желание жить по-новому. При одном только виде карандашей и тетрадей в ней крепло чувство, что жизнь ее должна измениться к лучшему. Вскоре знание грамоты принесло и первые плоды. Юноши с берегов реки Хялганатын несли службу в части, расквартированной в Баинтумэни. Примерно через месяц от Цаганху пришло письмо. Цэрэндулам, не умевшая тогда читать, прижимала к сердцу маленький треугольничек и страшно горевала, что не может узнать, о чем пишет любимый. Но просить чужих людей прочитать ей письмо было стыдно. Да и осторожней стала теперь Цэрэндулам. Тогда-то и созрело у нее решение самой научиться грамоте. Разыскала одного грамотного старичка, упросила его показать буквы. А когда в начале зимы организовался кружок по ликвидации неграмотности, она записалась в него одной из первых. Если учитель хвалил Цэрэндулам, радости ее не было предела, словно сбывалось то, о чем она мечтала всю жизнь. Но не только духовно окрепла Цэрэндулам. В вечно смешливых глазах появилось что-то мягкое, взгляд ее сделался спокойнее. Интересно, какой станет она через несколько месяцев, через год? Окружающий мир день ото дня казался ей все удивительней и прекрасней. Все, казалось, было знакомо и привычно с самого детства — плывущий с речки белый туман, собственная маленькая юрта, телеги с сеном на дороге, темные тропки на белом снегу. Но теперь все это словно ожило вновь, обрело новое звучание, новые краски. Однажды она, как обычно, возвращалась домой, мысленно повторяя все, что они проходили в тот день на занятиях кружка, а когда пришла, оказалось, что у них гость — дарга[72] Данзан. Мать вышла. И тогда Данзан, огладив бороду и поблескивая глазками, сказал: — Тетушке Пагме пришла разнарядка на перевозку грузов. Как ты себя чувствуешь, Цэрэндулам? Я решил навестить семью солдата. Для него семья — прочный тыл. — Значит, я стала прочным тылом? — спросила Цэрэндулам, заливаясь краской. Данзан засмеялся. — Меня, девушка, стесняться нечего. Знать, что происходит в аилах, — моя прямая обязанность. Да и нет на тебе никакой вины. Ты в том возрасте, когда женщине самое время стать матерью. Правда, есть еще и такие — наплодят детей, а что с ними делать, не знают. Но ты не чета им. Скрываешь имя отца будущего ребенка? Ну что ж, это твоя воля. С Цэрэндулам впервые говорили так прямо о самом для нее сокровенном. Она была смущена и ничего не могла ответить. Такая бесцеремонность казалась ей оскорбительной. Данзан же не унимался: — А я и не знал, что ты стала взрослой. Давно ли бегала по аилу с другими ребятишками, а теперь посмотрите на нее — готовится стать матерью. Цэрэндулам помрачнела. Не поднимая глаз, сидела она перед печкой и бесцельно помешивала золу, лишь бы не встретиться с его пронзительным взглядом. — Вообще-то женщины быстро старятся. Быстрее мужчин. Посмотри-ка на меня, разве я старый? — засмеялся Данзан. — Ну ладно, шутки в сторону. Мы должны послать в аймак сорок повозок. Вы тоже должны внести свою лепту. Зная ваше положение, я прежде освобождал вас от этой повинности. А сейчас не могу. Людям это не нравится. — Но у нас всего одна лошадь, — возразила Цэрэндулам. — Знаю, поэтому и требую с вас всего самую малость. Но в этот раз лошадь вам все-таки придется послать. — Трудно нам остаться без лошади. — Ну ладно, не горюйте. Что-нибудь придумаем. — Он поднялся с места и, закинув за плечо сумку, с которой никогда не расставался, направился к выходу. Неожиданно он остановился. Провел рукой по спине девушки. — Ладно, вдвоем с тобой мы что-нибудь придумаем... От его прикосновения внутри у Цэрэндулам словно погас огонек. Она знала этого хитрого и льстивого человека с детства. Лицемерный и переменчивый — таков был Данзан. Его маленькие бегающие глазки так и шныряли вокруг. Никогда Данзан на входил первым в двери, всегда пропускал других впереди себя. Часто он смеялся над тем, что вовсе не было смешным. Он мог и зло подшутить над человеком, и напустить на себя высокомерие... Цэрэндулам родила сына в самый разгар весны. Голосок у малыша оказался звонкий, тельце хорошего сложения, кожа белая. ...Минул месяц, как она отправила Цаганху письмо, написанное собственной рукой. Цэрэндулам с нетерпением ожидала ответа. Вот обрадуется Цаганху, узнав, что у них родился сын и что она научилась писать! И сейчас еще перед глазами у нее стоял голубенький конверт, на котором она старательно вывела: «Солдату Юмжирийн Цаганху, Баинтумэнь, воинская часть номер...» Самым важным в ее письме был вопрос: какое имя дать сыну. Она и прежде была уверена, что у нее родится сын, — уж очень он энергично толкал ее под самое сердце... Опытные женщины советовали ей накануне родов не отлучаться далеко от дома. Но Цэрэндулам не могла усидеть на месте. Несмотря на запреты матери и сестры, она продолжала гонять коров и телят на водопой. Каждый раз обещала, что впредь это не повторится. Вот и в тот день, когда родился ее первенец, она, как обычно, пригнала коров, а потом, сказав, что хочет немного подышать свежим воздухом, села на лошадь и уехала в степь. Не успела она вернуться домой, как начались схватки. Молодая женщина рожала в жестоких муках. Был даже момент, когда она потеряла сознание, и это вызвало большой переполох среди находившихся поблизости женщин. Но все обошлось благополучно. И когда к Цэрэндулам вернулось сознание, она увидела крошечное красное личико сына. Для Цэрэндулам началась новая жизнь. Словно желая вознаградить мать за все страдания, которые он причинил ей при рождении, ребенок вел себя очень спокойно: ел да спал. Она с удовольствием показывала новорожденного соседским женщинам и девушкам. Люди говорили, что в будущем сын принесет счастье своим родителям. Но не обошлось и без слов, слышать которые было горько. Говорили, что, мол, дочь старой Пагмы не пара сыну Юмжира, что невестка в хозяйстве Юмжира станет просто батрачкой. Накануне отъезда на летник пришло от Цаганху письмо. О том, как назвать сына, писал Цаганху, он думал несколько дней и даже с друзьями советовался. Получалось, что нет лучше имени для сына, чем Борху. Кроме того, он сообщал, что просил родителей позаботиться о ней и ребенке. Цэрэндулам, читая письмо, смеялась и плакала. И слезы падали на круглое личико малыша, который теперь уже имел и свое имя — Борху. В жаркий июльский день 1939 года Цэрэндулам обрабатывала бычью шкуру, а старая Пагма, разостлав в тени юрты войлочный коврик, играла с внуком. Глаза у малыша были как у матери, а грудь — в отца, квадратная. Пагма дала ему поиграть свои четки — вещь, которую никогда прежде из своих рук не выпускала. Но то ведь было прежде... Теперь же в юрте старой женщины поселилась неиссякаемая радость. И причиной ее было появление на свет Борху. Она нянчила внука и думала о том, что нет той меры, которой женщина могла бы измерить свое счастье. Вот в свое время она рожала детей, многие из них умерли, и она каждый раз тяжело переживала утрату. А теперь опять появился ребенок, который в ней нуждается, и это приносит ей счастье. Все вокруг дышало покоем и миром. Ласточки высиживали в гнездах птенцов. В лощинах, поросших седой полынью, и на берегах озер паслись табуны. Однако мир и покой были обманчивы. Далекие раскаты войны доносились и в эти края. Особенно тревожно было в семьях, которые проводили в армию своих близких. Можно ли было оставаться спокойным, когда все знали, что на Халхин-Голе шли жестокие сражения. Фронт был далеко от этих мест, но веяние его ощущалось и здесь. По мобилизации забирали лошадей и подводы. Приходилось больше работать... Кончив дубить кожу, Цэрэндулам снова намотала ее на кожемялку. Сколько раз, вращая тяжелое колесо, она думала, что вся ее жизнь движется по такому же замкнутому кругу! И вот теперь это движение изменилось. Изменилась и она — выровнялась, пополнела. Высокой груди было тесно в стареньком выцветшем дэле. Походка ее сделалась упругой и плавной. Умно и спокойно смотрели прежде такие озорные глаза. Она превратилась во взрослую женщину. Но забот и тревог у нее значительно прибавилось. Глядя на сына, прыгающего на коленях у бабушки, она думала о любимом, ушедшем на фронт. Однажды, оторвавшись от работы, Цэрэндулам подняла голову и увидела направлявшуюся к ним небольшую четырехколесную телегу, запряженную белой лошадью. На телеге сидели двое, и она тотчас же узнала седоков. Это были Юмжир-бавай[73] и Дулам-авгай. — Это же родители Цаганху! — воскликнула Цэрэндулам. Пагма всполошилась: — Ступай, доченька, в юрту, переоденься и выходи навстречу гостям. А я чай приготовлю. — Подхватив ребенка, она поспешила в юрту. Первым побуждением Цэрэндулам было последовать совету матери, но в ней вдруг заговорило упрямство — не станет она переодеваться. Пусть родители Цаганху видят, что сын их выбрал бедную девушку. И она ограничилась тем, что стряхнула с дэла клочки шерсти и сунула ноги в старые гутулы[74]. Повязав пестрый платок, она вышла встречать гостей. Приветливо поздоровалась со стариками, привязала их лошадь. Юмжир молодцевато соскочил с телеги. Но когда ноги его коснулись земли, он по-стариковски поморщился. В телеге лежала связанная овца. — Это вам подарок от нашего сына, — сказала супруга Юмжира. — Мы просим принять его. Подхватив узел, Дулам направилась вслед за мужем прямо в юрту. — Много приходится кож выделывать? — спросила она у молодой женщины. — У меня для тебя тоже работа найдется... Между тем Юмжир достал из-за пазухи хадак, положил его перед бурханами и вознес молитву. Поинтересовавшись здоровьем Пагмы, гости сказали, что хотели повидать сына своего сына — они не называли его своим внуком, — но, занятые работой, все не могли выкроить времени. Дулам развязала узел, достала отрез пестрой ткани и, положив сверху горсть кускового сахара, поднесла Пагме. — Примите наше скромное подношение. Немногословная от природы, старая Пагма смутилась. Не зная, что сказать, она вдруг объявила: — Не надо мне, зачем все это?.. Пока мать с дочерью накрывали на стол, проснулся Борху. Он потянулся и зевнул, совсем как взрослый. Вообще это был очень спокойный ребенок. Он словно понимал, что родился в бедном аиле и привлекать к себе излишнее внимание ни к чему. — А ну, дайте мне подержать этого серьезного человека! — сказал Юмжир. Цэрэндулам взяла ребенка и положила его старику на колени. Борху нисколько не испугался — ему было все равно, на чьих коленях лежать. От неловкого прикосновения больших шершавых рук ему, видно, стало щекотно, и он засмеялся. — Смотрите, радуется! Узнал, поди, родственников. А как на отца похож! Цаганху в его возрасте тоже был таким же упитанным. Говорят, сын и должен быть в отца, а дочь — в мать — Невестку одарим позднее. Кто знал про такое дело, — строго продолжал старик. — Нынче дети женятся — у родителей не спрашивают. Старики для детей теперь ничего не значат. Это в прежние времена с ними во всем советовались, устраивали сперва сговор, осведомлялись о происхождении жениха и невесты, все, вплоть до родинки на теле, в расчет бралось. А теперь вот у наших молодых уже и ребенок появился! Вырастет, ничего! Только вернется ли его отец живым? Неизвестно. Вы, Пагма-гуай, хорошенько помолитесь за нашего сына. Вернется он живым, и вашей дочери хорошо будет... Когда родители Цаганху уезжали, Цэрэндулам почувствовала разочарование. Принимаясь вновь за кожемялку, она услышала, как заблеяла привезенная в подарок овца. «Пощадили тебя в честь рождения внука, не зарезали», — подумала она и отвязала овцу. Осенью возвращаются в теплые края перелетные птицы. После тревожного военного лета наступила не менее тревожная осень. С нетерпением ожидали люди возвращения своих близких с фронта. Только увидев их собственными глазами, убедятся они, что живы их сыновья, мужья и братья. В окрестностях Хялганатын прошел слух, что все парни, ушедшие оттуда в армию, живы и невредимы. Вот было радости в доме Юмжира! Но после этого минул уже месяц, а от Цаганху не получили ни одного письма. И вот кто-то сообщил, что Цаганху тяжело ранен и находится в госпитале. Юмжир съездил в сомонный центр, но ничего толком не узнал. Тогда он поспешил к Цэрэндулам, но и той ничего не было известно. Весть о ранении Цаганху ошеломила молодую женщину. А что, если случится самое худшее... Нет, не страх за себя мучил ее, и не за ребенка — его она вырастит и одна. Больше всего на свете она боялась потерять любовь. Прижав к груди сына, она часами думала о своем любимом. Случалось, что по нескольку дней она не выходила из юрты. Мать и сестра пытались ее успокоить, но все было напрасно. Однажды зять Цэрэндулам где-то услышал, что на побывку приехал Жамбал — один из тех, с кем служил Цаганху. Узнав об этом, Цэрэндулам спешно оседлала коня. Стояла поздняя осень, день был пасмурный, шел мокрый снег. В поисках места для посадки кружили в небе лебеди, и крики их, похожие на людские стоны, разносились далеко вокруг. Возле юрты Жамбала Цэрэндулам поискала глазами у коновязи лошадь Юмжира. Не найдя ее, она с опаской вошла в юрту. Там было много людей — каждый хотел послушать, что расскажет человек, побывавший на войне. Сам Жамбал сидел на ярком пестром ковре, нарядный — в синем шелковом дэле, с орденами и медалями на груди, в новеньких хромовых сапогах. Цэрэндулам поздоровалась со всеми и уселась возле печки среди девушек. От ее внимания не укрылось, что ее появление вызвало заминку в разговоре. Жамбал сделал большой глоток из чашки, и это словно придало ему решимости: — Как поживает тетушка Пагма? А твой сын, верно, совсем большой стал? О его рождении мы там узнали еще весной. — А как Цаганху? — спросила Цэрэндулам, с ужасом отметив про себя, что руки у жены Жамбала, протягивающие ей пиалу с чаем, дрожат. Жамбал опять взял со столика чашку и сделал еще один большой глоток. — Накануне окончания войны Цаганху был ранен... его отправили в госпиталь... Врачи говорят — выживет... — с запинкой сказал он. Цэрэндулам так и замерла, не донеся до губ пиалу с чаем. — Я хорошо помню то утро, — продолжал Жамбал, — когда Цаганху сообщил нам, что у него родился сын. Помню, как он и все мы вместе с ним радовались. Все вместе мы выбирали имя вашему сыну. Мы назвали его Борху. И ваша радость была нашей радостью. Но что поделаешь, война есть война. Не все возвращаются с нее. Мужайся, Цэрэндулам. Твое горе есть и наше горе. Мы во всем будем помогать тебе. Все женщины в юрте заплакали. Цэрэндулам молча поднялась, поставила чашку и вышла из юрты. Она машинально отвязала коня и, только когда аил остался далеко позади, дала волю своему горю. Ее горький плач слился со звуком стонущих птиц. Он несся над покрытыми желтыми осенними цветами горами, над степью. «Цаганху, Цаганху!» — кричало ее сердце, все ее существо. Если у дерева, выдернутого из земли жестокой бурей, остается в земле хотя бы один-единственный корень, хотя бы одна живая веточка, можно быть уверенным, что наступит день, когда это дерево снова оживет. Так и человек. Проходит время, и даже самая глубокая рана заживает. Но чтобы рана зарубцевалась и зажила, человеку тоже необходим хотя бы один корень, связывающий его с жизнью. У Цэрэндулам оставался сын. Безгранично горе матери осиротевшего ребенка, но для нее еще не все потеряно. Сын приносил Цэрэндулам радость, он стал для нее тем звеном, которое прочно связывало ее с жизнью. Сияющей дневной звездой в солнечном небе пронеслась ее любовь, и, как ни тяжело было свыкнуться с мыслью, что Цаганху больше нет на свете, Цэрэндулам постепенно приходила в себя — надо было думать о сыне, заботиться о доме, о себе. Месяца через три Цэрэндулам ожила. Конечно, она больше не шутила и не смеялась, как бывало прежде, но краски лица ожили, страдание в глазах смягчилось, походке вернулась былая бодрость. Глядя на нее, мать и сестра радовались. Казалось, нельзя пережить такое горе! А она ничего, оправилась, ходит чистенькая и аккуратная, как в юности, и, если бы не перемена в характере, ее, пожалуй, не отличить бы от прежней, веселой Цэрэндулам. Вероятно, она убедила себя, что не создана для счастья, а раз так, надо было взять себя в руки. Может быть, сознание этого тоже помогло молодой женщине вернуться к жизни. ...Зима стояла теплая, но снегу нападало много, и животным трудно приходилось добывать подножный корм. Кто-то за выделку шкур дал Цэрэндулам стог сена. Однажды она нагружала этим сеном телегу, устала и присела немного отдохнуть. Тут появился Данзан. И как он ее только нашел! Он проворно соскочил на землю. — А я к вам заезжал. Мне сказали — за сеном уехала. Дай, думаю, помогу. Он схватил вилы, подобрал полы дэла, чтобы не мешали, и, подцепив охапку сена, кинул ее на телегу. Но то ли черт ему подножку подставил, то ли сил у Данзана было куда меньше, чем ему хотелось бы, только сена на вилах оказалось совсем немного. Цэрэндулам расхохоталась. — Несерьезная ты, Цэрэндулам, — укорил ее Данзан. — Я хотел тебе помощь оказать. Знаю, человек такое горе перенес, а ты зубы скалишь. Разве ты не хочешь, чтобы твой бедный Данзан разделил твое горе? Цэрэндулам прикусила язык, ей стало неловко. Только почему он сказал «твой бедный Данзан»? А тот продолжал: — Что бы ни случилось, жить-то надо. И нечего себя мучить. Ты у нас грамотейка, единственная на всю округу среди женщин. Я тоже азбуке обучен, расписываться умею, печати ставить. И думаю, хорошо было бы нам жить с тобой вместе. Перебрались бы в сомонный центр, там меня ставят директором кооперативной лавки. Хорошая, скажу я тебе, должность. — Данзан бросил вилы и уселся рядом с молодой женщиной. Его предложение глубоко оскорбило ее. — Что же ты молчишь, Цэрэндулам? Скажи что-нибудь! — Да ничего не скажу! Нечего говорить-то! — Все еще своего Цаганху вспоминаешь или как? — Вспоминаю. — Вот незадача-то! — сокрушенно сказал Данзан. — Послушай, Цэрэндулам, — вдруг оживился он, — мы с тобой люди взрослые, кругом ни души... Задыхаясь, он сжал ее в своих объятиях. Цэрэндулам вскочила на ноги. — Убирайся вон! Негодяй! — закричала она, закрывая лицо руками. — Смотри, Цэрэндулам, я обид не прощаю. Погоди, придет время, я отомщу тебе! Стиснув зубы, он ускакал. Через несколько дней Данзан привел в исполнение свою угрозу. Он приехал к Цэрэндулам и заявил: — Твоя очередь служить истопником на сомонной уртонной станции[75]. Я много раз тебя прикрывал, больше такой возможности нет. И ребенок у тебя подрос, твои домашние за ним присмотрят. Это был приказ. Нет, она ни за что не будет ему кланяться, решила Цэрэндулам и, оставив мать и сына на попечение сестры и зятя, уехала в сомонный центр на работу. Сомонная уртонная станция состояла из старенького деревянного домика, большой юрты, где останавливались приезжие, навеса для дров да двора с разбитыми воротами. В доме было две комнаты. В одной из них находилась контора начальника станции Намжил-гуая, в другой жили два посыльных, совсем еще подростки. Изба эта много лет топилась по-черному, и поэтому стены в комнатах были черные. На узких окошках лежала грязь в палец толщиной. Цэрэндулам много дней потратила на то, чтобы хоть немного привести в порядок дом. Подмазала глиной и побелила печку. Оклеила стены газетами. Вымыла окна и пол горячей водой. В доме сразу стало светлее. Словно туда внезапно заглянуло солнце. Потом она раздобыла узкие койки, предназначавшиеся прежде для школьного интерната. Принесла со склада сукно, отстирала его и сделала покрывала. Постепенно ее стараниями в доме появились колченогий стол и стулья, умывальник, посуда. Словом, станция приобрела обжитой вид бедного, но чистенького аила. От постояльцев не было отбоя. Они появлялись на станции в любое время суток. Иногда за ночь приходилось подниматься по нескольку раз. У Цэрэндулам минуты свободной не было: она пилила и колола дрова, носила воду, чистила и убирала в доме и юрте, готовила еду, мыла посуду. Тысячи обязанностей занимали все ее время. Иногда ей некогда было как следует косы заплести. Подростки-посыльные скоро привязались к Цэрэндулам и полюбили, как старшую сестру. И хотя это были всего-навсего мальчишки, но на их помощь она смело могла рассчитывать. Начальник станции Намжил тоже был неплохим человеком, но не без изъяна — любил приложиться к чарке. Поэтому на станции он появлялся редко — пощелкает в своей комнате на счетах, сделает записи в книгах, и был таков. Проезжий люд попадался разный — разговорчивые и замкнутые, простые в обращении и высокомерные — словом, Цэрэндулам насмотрелась всего. Невольно думалось — как беспокойна государственная служба, как вообще беспокойна вся жизнь. По ночам под свист и завывание пурги она вспоминала сына, и сон отлетал прочь. Иногда воспоминания казались ей сном. О будущем она тоже думала, но решить что-нибудь определенное не могла. Порой ей казалось, что лучше всего покинуть места, где она пережила большое горе, и, когда кончится срок ее службы на станции, уехать в аймачный центр. Жизнь словно поманила ее сперва всеми своими красотами, а потом так жестоко обманула. И Цэрэндулам казалось бессмысленным оставаться на старом месте. Но, строя самые разные планы насчет будущего, она то и дело возвращалась мыслями к сыну. Если взять его с собой в город, что она будет делать там с ним одна? Оставить дома? Невозможно. Нельзя же бросить ребенка на старую мать, та и сама едва ходит. От проезжих она наслышалась, какие возможности открываются в городе для человека, умеющего дубить кожи. Говорили, что можно легко найти работу на промкомбинате или в артели. Кроме того, можно выучиться печатать на машинке или стать санитаркой в больнице. Правда, попадались и такие, кто считал, что в городе девушки только сбиваются с правильного пути. Так тянулись дни, пока не пришло из дома известие, чрезвычайно встревожившее Цэрэндулам. Семья Юмжира повадилась забирать к себе Борху. А как-то раз Юмжир заявил: — Пусть привыкает, а когда совсем привыкнет, навсегда у нас и останется. О такой опасности Цэрэндулам и прежде предостерегали знакомые женщины. После гибели сына старики признали внука и раззвонили на всю округу, что в бедном аиле своей матери мальчик не получит никакого воспитания. Поэтому, мол, ребенок должен расти в семье отца. А мать внука — женщина совсем молодая — снова выйдет замуж и нарожает еще кучу детей. Вспоминая об этих разговорах, Цэрэндулам не находила себе места. Теперь же, после письма из дому, ничего не оставалось, как поехать домой и на месте самой во всем разобраться. Приняв такое решение, она упросила начальника станции дать ей трехдневный отпуск. Дома она застала всех в большой тревоге — вот уже несколько дней, как Юмжир забрал к себе Борху и, похоже, не думает привозить его назад. Последний раз старик явился с подарками — Пагме преподнес материю на платье, зятю и его детям — годовалого теленка. Очевидно, Юмжир решил совсем мальчика забрать. Сказал: «Пусть дитя у нас побудет, может, сердце отойдет после гибели сына». Еще говорил, что, мол, бедную мать мальчика они тоже не оставят и что все накопленное годами добро завещают внуку. В тот же день, не теряя времени, Цэрэндулам отправилась к Юмжиру за сыном. Весь неблизкий путь она размышляла над тем, что скажет. На зимнике отца Цаганху она была очень давно — лет пять назад. Тогда она не рассмотрела его как следует. Теперь увидела: три коровника, с двух сторон каждого из них было наметано много сена; специальный двор, где животным задавали корм. В просторном хашане[76], поблескивая гладкой шерстью, огромные волы подбирали остатки сена. Из их крупных ноздрей поднимался пар. Под бревенчатым навесом стояла большая белая юрта. Своего сына Цэрэндулам застала играющим в северной части юрты. Чистенько одетый, он сидел в окружении множества игрушек. Но эта картина вовсе не привела ее в умиление. Она поздоровалась с хозяевами, взяла сына на руки, расцеловала его. Мальчик сразу узнал мать — принялся ручонками гладить ей щеки, таращил глазенки. Дулам-авгай закатила целый пир, словно для самого дорогого гостя. Однако Юмжир как уселся на кровать, укрывшись рваным дэлом из выдры, так и сидел, словно изваяние. Стиснув кулаками дэл и поглядывая на кончик своей бороды, он читал про себя молитву. Иногда белки его глаз сверкали — это Юмжир бросал взгляд на бурханов, перед которыми горела лампада и были поставлены жертвоприношения. Хозяйка расспрашивала гостью — тяжело ли ей работать на станции, что нового в сомонном центре, какие люди проезжают через станцию, какие товары в кооперативной лавке. Наконец она сказала: — А твой малыш прижился у нас. Цаганху в детстве был таким же бутузом. Борху к нам очень привязался. Дети в таком возрасте легко привыкают. У Цэрэндулам словно все оборвалось внутри. — Я не могу остаться без сына. Днем и ночью только о нем и думаю. Вот взяла отпуск, чтобы его повидать, — грустно сказала она. — Твоя правда. Но ведь ты сама еще ребенок, и то, что кажется тебе необходимым сегодня, завтра совсем забудется. Через несколько лет снова обзаведешься ребятишками, и будет их у тебя так много, что о Борху и думать забудешь. — С этими словами Дулам громко засмеялась. — Пока Борху не вырастет, я замуж не пойду, — решительно сказала Цэрэндулам. — Одна жить хочешь? Ну, это у тебя не получится. Лучше подумай о своем будущем. Тут в разговор вступил молчавший до того времени Юмжир. Откашлявшись, он сказал: — Мы решили сделать из внука — родного сына нашего единственного сына — человека. Видно, не судьба вам с Цаганху было зажить своим очагом на этом свете. Что теперь говорить! Ты молодая. Ты еще найдешь себе хорошего человека и будешь счастлива. Мы с женой уже старимся, как говорят, уже начали спуск со своего холма. Уже миновали перевал. Но думаем, успеем поставить на ноги этого мальчика... И тут он начал читать молитвы, словно лама[77], вымаливающий спасенье. Цэрэндулам все стало ясно — так просто они ей сына не отдадут. — Ладно, — сказала она. — На два денька возьму с собой сына, пусть напоследок поспит у меня на руках. Волей-неволей пришлось старикам согласиться. Дулам раскрыла сундук и достала оттуда отрез китайского шелка синего цвета с драконами. Цэрэндулам отказывалась от подарка. Но ей его все-таки вручили. По пути из Ундурхана до Улан-Батора почтовая машина, на которой ехала Цэрэндулам с сыном, простояла двое суток — из-за поломки. Но наконец все было налажено, и на третий день после обеда вдали замаячила гора Богдо-Ула[78]. Значит, скоро будем на месте, обрадовались пассажиры. Гора, о которой Цэрэндулам слышала и раньше, действительно оказалась величественной. Склоны ее утопали в синих и зеленых весенних красках, пронизанных солнечными лучами. Ближе к вершине там и сям белели островки нерастаявшего снега. Впервые молодая женщина увидела и поезд, бегущий у подножия Богдо-Улы — длинную цепочку вагонов с паровозом впереди. Вообще ее интересовало все. Она ведь впервые отправилась в такую дальнюю поездку! За время пути они проезжали столько интересных мест, встречались со многими людьми — для нее это было равно открытию другого мира. Ее удивляло, как велик этот мир — как бескрайни гобийские степи с их миражами, как просторны долины Керулена. Чем ближе к столице, тем больше дорог уходило в степь. Иногда они пролегали по самым крутым горным склонам. А по дорогам сновали машины, словно соревнуясь в скорости. Степенно вышагивали верблюжьи караваны, и странно было вдруг видеть в этом потоке одинокого всадника. Иногда Цэрэндулам казалось, что она попала в сказочную страну. Но чаще окружающее пугало ее, и тогда молодая женщина ощущала себя всего лишь маленькой песчинкой в безбрежном океане жизни. Цэрэндулам бежала с сыном из родных краев. Она думала только об одном: сохранить при себе сына. Бояться ей нечего, размышляла она, ведь едут они с сыном не куда-нибудь в чужую страну, а в монгольский же город. В конце концов пора начать самостоятельную жизнь! Она будет стоять насмерть, но сына, эту живую память о своей первой любви, не отдаст никому. Она сама избрала свой путь, и никакие силы не заставят ее свернуть с него. Когда она сообщила близким о своем намерении, они отнеслись к ней с пониманием. Мать приняла известие об отъезде дочери сравнительно спокойно. Старая женщина сказала, что навестит ее в городе и будет молиться за нее в Гандане. Цэрэндулам обещала года через два забрать мать к себе в город. С помощью Намжила, начальника уртонной станции, она выправила все необходимые бумаги. Ранней весной пуститься в дальнюю дорогу с маленьким ребенком на руках было рискованным предприятием. Тем более что до аймачного центра предстояло добираться на попутной подводе целых десять дней. В аймачном центре они пересели на почтовую машину. Цэрэндулам знала по рассказам, как выглядит город, но сама увидела его впервые. За тот один день, что она пробыла в Ундурхане, она побывала в кооперативной лавке и на рынке и убедилась, как легко уплывают тугрики[79]. Но она не устояла перед соблазном и купила сыну костюмчик, а себе новенькие кожаные гутулы — нельзя же явиться в столицу оборванкой. О таких шевровых гутулах на белой подметке она мечтала с детства. Прогуливаясь в обновке по аймачным улицам, она то и дело поглядывала на свои ноги, опасаясь, как бы люди не догадались, что женщина впервые надела кожаные сапожки. Прежде Цэрэндулам всегда думала о себе как о человеке, не способном перебраться через перевал, если он чуть выше конского седла. А тут она вдруг расхрабрилась. Зашла в китайскую харчевню и заказала столько крупных — с кулак — пельменей, что ей стало неловко перед другимипосетителями. Ее попутчики оказались людьми доброжелательными. Несколько стариков ехали лечиться. Несколько демобилизованных солдат возвращались домой. Две молоденькие девушки решили навестить родственников в городе, и все они проявляли трогательную заботу о молодой матери — уступили ей самое удобное место, помогали садиться в машину и выходить. Одни нянчили ребенка, другие приносили ему на остановках молоко и простоквашу. А когда в пути случалась вынужденная задержка, собирали аргал[80] и жгли костры, чтобы ребенок не мерз, предлагали теплые вещи, чтобы укрыть малыша. Особенно заботливым попутчиком оказался один демобилизованный парень — он возвращался в город из западного аймака, где гостил у родных. Его сперва даже приняли за мужа Цэрэндулам. Поверх старенькой гимнастерки и галифе он носил темный плащ. На голове у него была офицерская фуражка. Знакомство началось с того, что он уступил ей в Ундурхане свое место — самое удобное в кузове, у кабины. А через два дня они так подружились, словно были знакомы всю жизнь. Люди не удивлялись, что парня, столько лет бывшего в армии, тянуло к молодой интересной женщине. Цэрэндулам сперва смущалась, но быстро освоилась. Так бывает в дороге. Звали парня Жамсаран. Был он уроженцем Убурхангайского аймака, с берегов реки Орхон. Он рассказал ей, что у него есть родители, братья и сестры. Воевал на Халхин-Голе, а в конце войны его перевели в тыл. В столице у него жила замужняя сестра, у которой он и собирался провести несколько дней. В свою очередь, она откровенно рассказала, что отец ее сына погиб — умер от тяжелого ранения. Рассказывая о своей жизни, она отнюдь не стремилась разжалобить своего попутчика. Просто ей хотелось облегчить душу. Когда машина обогнула восточный склон Богдо-Улы, пассажиры оживились: — Улан-Батор, впереди Улан-Батор! У Цэрэндулам больно сжалось сердце — что-то ждет ее в этом большом незнакомом городе? Как часто она мечтала о поездке в столицу! И вот теперь, когда мечта ее исполнилась, молодую женщину охватила растерянность. В самые трудные минуты жизни она не расставалась с мыслью, что когда-нибудь побывает в столице. Почему же так сильно бьется теперь ее сердце? Вдоль берегов реки Толы выстроились высокие каменные дома. Стоял шум и грохот от непрерывно движущегося потока машин. Жамсаран, которому до призыва в армию довелось уже однажды побывать здесь, охотно давал пояснения своей попутчице. Квартал с глинобитными домами, смахивающий на гудящее пчелиное гнездо, называется Найма — китайские торговые ряды. А вот те кирпичные красные дома со сверкающими на солнце окнами — Красные казармы. Там живут солдаты. К западу от казарм находится центр города. А на самом берегу Толы раскинулся промкомбинат. Это его высокие черные трубы дымят в небе. — Цэрэндулам, а ты знаешь, где живут твои земляки? — озабоченно спросил вдруг Жамсаран. — Откуда мне знать? Слышала только, что они живут в четвертом районе, — голосом человека, застигнутого врасплох, ответила она. — В четвертом районе живет несколько тысяч семей. Не думаю, что тебе будет легко найти твоих знакомых. Давай-ка прежде отправимся к моей сестре. — Хорошо, — обрадовалась Цэрэндулам и от мысли, что могут подумать о ней ее добрые попутчики, залилась краской. Сестра встретила Жамсарана приветливо. Но она не могла скрыть удивления, увидев у него на руках маленького Борху, а рядом Цэрэндулам. Когда же ей объяснили, в чем дело, эта хорошо одетая, белолицая высокая горожанка смеялась до колик. — Ну ладно, ладно, — говорила она, — а то я, братец, никак в толк не могла взять, когда же ты успел обзавестись женой, да еще и ребенком... Цэрэндулам сначала стеснялась этой молодой женщины. Стеснялась сидеть на красивом ковре и все высматривала местечко попроще. Однако очень скоро обе женщины подружились — у сестры Жамсарана оказался веселый и добрый нрав. — Как же вы отыщете своих земляков, бедняжка? Хорошо, что в дороге вы познакомились с моим братом, не то ночевать бы вам на улице. Завтра мы наведем справки. А если не отыщутся ваши знакомые, будете жить у нас — места хватит. Решительная сестра у Жамсарана. Она быстро умыла Борху и, не думая о том, понравится ли это матери, расцеловала его. Цэрэндулам она предложила переобуться, и, когда та надела ее легкие тапочки, хозяйка, сравнив стройные ноги гостьи со своими, сказала с сожалением : — В детстве мне пришлось верхом на лошади скот пасти. Красивые ноги — украшение любой женщины. Для мужчины это совсем не важно. Вот зачем, скажем, моему Ендону прямые ноги? Правда, Жамсаран? Тот смущенно улыбался. «Ендон — это, вероятно, ее муж», — подумала Цэрэндулам. А женщина продолжала хлопотать по хозяйству. Сбегала куда-то за молоком для мальчика. Снова убежала и вернулась с бутылкой вина, принесла хорошего мяса, которое в худоне[81] в ту пору — большая редкость, а также конфет и других сладостей. Вскоре стол был накрыт. — Не стесняйся, сестренка, — уговаривала она Цэрэндулам, — ешь как следует. На какой-то миг Цэрэндулам показалось, что она приехала к мужу в город и ее так приветливо встречает его сестра. — Отважная ты, — продолжала сестра Жамсарана. — Я вот без Ендона шагу ступить не могу, хотя и старше тебя. Цэрэндулам почувствовала, что здесь все говорится и делается от чистого сердца. В какую замечательную семью она попала! Так тепло принимают совсем чужого, даже незнакомого человека! — В городе нужны деньги. Если у тебя их нет, сестренка, мы тебе дадим, а когда заработаешь — отдашь. Нет, эта женщина вовсе не была похожа на тех «коварных и льстивых» горожанок, о которых любили иногда посудачить у них в худоне. Хорошо было сидеть за столом втроем, есть горячие бозы[82] и пить вино. Пока женщины накрывали стол, Жамсаран успел сходить в парикмахерскую постричься и побриться. Переодетый в светлые брюки и рубашку, он оказался еще симпатичнее. Борху уютно устроился у него на коленях. — Славный парнишка, хотел бы я иметь такого сына, — сказал Жамсаран. — Из всех моих сестер Ханджав — самая бойкая. Правда, любит болтать, это у нее с детства. Но человек она душевный. И муж ее — тоже. Ты вполне можешь пожить у них, — добавил он, когда сестра зачем-то вышла из комнаты. Наступил вечер, и вернулся с работы хозяин. Жена взяла у него пальто, усадила за стол. — Мой муж — корреспондент газеты «Унэн», — представила его Ханджав. — Три года назад он поехал в худон, и вот результат — привез жену. В эту первую ночь на новом месте Цэрэндулам почти не спала. Постель была мягкая, простыни белые, сын тихо посапывал рядом, а она все думала о своих новых знакомых, принявших ее, как родную, в свою семью. Жамсаран собирается съездить к родителям, а потом вернется и поступит здесь на работу. Интересно, к чему может привести знакомство с ним? Как люди находят свое счастье? Очевидно, самыми разными путями. Ночь была лунная, светлая. Изредка мимо окон по улице проезжали машины. Время от времени доносился приглушенный собачий лай. Он напоминал Цэрэндулам худон. «Интересно, как там моя бедная матушка?» — тяжело вздыхала она. На другой день Ендон прислал с работы машину. Все уселись в большой автомобиль и отправились по городу. С любопытством осматривала Цэрэндулам красивые здания, широкие улицы и площади. Был будничный день, а толпа горожан казалась ей веселой и нарядной, как в большой праздник. Особенно привлекали ее внимание женщины. Почти все они ходили в шелковых чулках, с открытыми коленями. И ездили на велосипедах. У некоторых модниц были шляпки, которые просто чудом держались на самой макушке. Цэрэндулам поймала себя на мысли, что пройдет время, и она станет похожей на городскую жительницу. Ведь и Ханджав три года назад была сельской девушкой, думала она, а теперь на ней шелковый дэл и шляпка с белым перышком. Раз Ханджав смогла стать горожанкой, Цэрэндулам тоже сможет. В четвертом районе они долго ходили по улицам и переулкам. Напрасно! Найти земляков оказалось немыслимым делом. Цэрэндулам только отвлекала людей своими расспросами. Заметив это, Ханджав решительно заявила: — Хватит! Твои земляки тебе не родственники. Как говорится, хорошие знакомые лучше плохих родственников. Поехали. — И попросила водителя высадить их возле высокого здания универмага. Это был самый большой улан-баторский универмаг. По его широким лестницам двигались толпы народа. И какие только запахи там не витали! Ханджав взяла Цэрэндулам под руку, а Жамсаран взял на руки Борху, и они принялись обходить прилавки. Здесь было все: от разноцветных шелков и дамских шпилек до изысканных женских украшений и красивой одежды. Многое нравилось Цэрэндулам, но, боясь впасть в искушение, она ничем особенно не интересовалась. Ханджав правильно угадала причину такой сдержанности и купила ей шелковые чулки и белье, а Борху — игрушки. — Деньги у меня есть, — отказывалась Цэрэндулам, — но мне ничего не надо. — А ты, сестренка, не гордись. Получишь зарплату, купишь мне конфет, вот и все дела, — засмеялась Ханджав. Потом они пошли в китайские ряды. Улочки в этом квартале были узкие, а дома из глины — точь-в-точь как ласточкины гнезда. В них сидели ремесленники — портные, фотографы, сапожники, ювелиры. В китайских лавках было много товаров. Дух захватывало от запаха жареных пампушек, чеснока, лука, соевого соуса, уксуса. Ханджав замедлила шаг у сапожной мастерской, и молодой мастер тут же согласился сшить летние туфли на каблуках любого фасона «для этой девушки Цэрэндулам». Потом они зашли в закусочную и вернулись домой под вечер. Уложив Борху спать, Ханджав повела Цэрэндулам в баню. ...Цэрэндулам лежала на земле и слушала, как шумит ручей Зайсан. Ночью прошел дождь. Дым над городом рассеялся, и небо было чистым и гладким, как атлас. Цэрэндулам смотрела в небо и думала, что есть на земле другие страны и иная жизнь. По-разному живут люди. Да и на свою жизнь она жаловаться не могла. Правда, пока ее наладишь, через сколько испытаний надо иной раз пройти! Цэрэндулам теперь уже работает. Стала кожевницей. Народная власть дала ей квартиру. Словом, все мечты ее словно по волшебству сбываются. Давно ли работала истопницей на уртонной станции? Давно ли она приехала с сыном в город? А теперь все было хорошо. Единственное, что ее беспокоило, — отношения с Жамсараном. Его сестре очень хотелось, чтобы Цэрэндулам вышла за него замуж. Жамсаран был неплохим человеком. Правда, она не испытывала к нему горячей, всепоглощающей любви, как это было с Цаганху. Но Жамсаран был надежным другом, на которого она всегда могла опереться в трудную минуту. И все-таки она медлила с окончательным решением. ...Шумит ручей. Под его шум на свежем воздухе спокойно спит Борху. Изредка доносится пенье жаворонка. Внезапно Цэрэндулам увидела на небе светлую точку. Это с бескрайнего неба глянула на нее дневная звезда. Впервые Цэрэндулам довелось увидеть звезду среди бела дня. Как же она не заметила ее раньше, вот она как сияет! — Сынок, проснись, звезда, дневная звезда! — прошептала молодая женщина и, заслонив рукой глаза от солнца, увидела звезду еще отчетливее. — Дневная звезда! — повторила она. — Неужто звезда появилась только для того, чтобы ее увидела Цэрэндулам? На глаза выступили слезы, и звезда внезапно исчезла. Цэрэндулам вытерла глаза. Но сколько теперь она ни всматривалась в небесную синь, звезда больше не появлялась. Женщина глубоко вздохнула. У каждого человека есть своя звезда. Может, вот эта дневная звезда — ее? «Вот и Цаганху был подобен этой звезде, он так же возник на мгновение в моей жизни и исчез навсегда», — думала она. И словно от света далекой звезды на душе у нее стало тепло. Дневная звезда вдруг возродила в ней угаснувшие было надежды, стремление любить и быть любимой. Да, что и говорить, жизнь — штука нелегкая. Но теперь Цэрэндулам знала твердо: любовь, счастье, радость — все это возвращается к ней.Намсарайн Банзрагч
Намсарайн Банзрагч родился в 1925 году в сомоне Алдархан Запханского аймака. Впервые выступил со стихами и рассказами в начале 50-х годов. Позднее, в 1964 году, окончил литературные курсы в Улан-Баторе. Перу писателя принадлежат повести «Простые девушки» (1959), «Отцовский авторитет» (1968), «Праздничная ночь» (1972; русский перевод — 1974), «Двадцать первый год» (русский перевод — 1975), «Семь тополей», ряд киносценариев, многочисленные рассказы. Пять из них — «Долгор» (1961), «Мост» (1967), удостоенный премии газеты «Унэн» на литературном конкурсе, посвященном пятидесятилетию Великого Октября, «Однажды осенним вечером», «Доченька, иди к маме!», «Первый день Цаган Сара» — опубликованы в переводе на русский язык. С неослабевающим интересом читается самое крупное произведение писателя — роман «Путь» (1967; русский перевод — 1970), повествование о первом в Монголии автоводителе. Его жизненный путь — это годы неутомимого труда, мужественной борьбы и преданной дружбы. Это путь самой Монголии и ее народа, свершившего в 1921 году народную революцию, мужественно защищавшего ее в дни испытаний и упорно созидающего ныне свое настоящее и будущее в нерушимом союзе с советскими людьми. Не менее труден и столь же прекрасен путь работницы промкомбината Нямжав, героини публикуемой здесь повести «Праздничная ночь». Батрачка из захолустья решительно меняет свою жизнь, упорно учится, увлеченно работает, за что и награждается трудовым орденом. События повести развертываются на фоне крупных исторических свершений — победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, разгрома империалистической Японии в 1945 году объединенными силами советских и монгольских войск. Г. ЯрославцевПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ
Последние гости разошлись поздно вечером. Несколько минут назад Нямжав вдруг почувствовала себя нехорошо. Сейчас ей стало лучше, и она спокойно сидела в мягком кресле, наблюдая, как девушки убирают со стола. — Устали небось, доченьки, — сказала она. — Кому не надоест каждый день возиться с готовкой и уборкой! Бросьте вы все это! Вот немного отдохну и все сама сделаю... — Мы уже кончаем! Вы не волнуйтесь — отдыхайте, пожалуйста! — ответила проворная, небольшого роста подруга Хандмы — дочери Нямжав. Они вместе учились в школе, а сейчас вместе работают на одной фабрике. Сквозь открытое настежь окно теплый летний ветерок выдувал из комнаты табачный дым, запахи вина и закусок. Сегодня у Нямжав был большой праздник: за многолетнюю ударную работу ей вручили высокую правительственную награду — орден Трудового Красного Знамени. Он и сейчас сиял у нее на груди. И вот вечером у нее собрались друзья, товарищи по работе, чтобы поздравить с наградой. Девушки убрали со стола, перемыли посуду. С улицы донесся сигнал автомобиля. Нямжав поспешно поднялась с кресла, а Хандма бросилась к окну, встала на маленькую скамеечку у подоконника. — Нет, не он... Эта мимо прошла! Нямжав, вздохнув, бросила взгляд на стол: там стояли нетронутыми тарелки с едой и бокал вина для главы семьи. Хандма подошла к Нямжав. — Мама, мы пошли. — Куда это вы так поздно? — Договорились всей бригадой в кино сходить, — улыбнулась Хандма, направляясь к зеркалу. — Только приходи пораньше, хорошо? — Наши меня проводят, не беспокойтесь, мама! И ложитесь спать. Скоро, наверное, и отец вернется. И, поправив прическу, Хандма с подругами ушла. В комнате сразу стало тихо. Нямжав весь день надеялась, что муж поспеет к празднику. Однако он не приехал — это несколько обидело ее, и она уже всерьез беспокоилась: а вдруг он застрял где-то на перегоне и ему придется ночевать в машине в степи? Она внимательно прислушивалась к тому, что происходило на улице. А из головы не выходила мысль: если бы муж был сегодня дома, ее праздник получился бы еще лучше. «Приедет, пусть полюбуется орденом», — решила Нямжав и потому не стала снимать дэл. Временами с улицы доносились сигналы автомашин. Нямжав подошла к окну. Ярко горели фонари по обе стороны улицы, на домах, переливаясь всеми цветами радуги, сверкали красные, желтые, зеленые и белые огни реклам. По тротуарам плыла яркая, нарядная толпа людей: празднично одетые женщины, мужчины, ребятишки. Вдруг небо озарилось тысячью разноцветных огней. Стало светло как днем. «Сегодня день революции... Праздничный салют начался», — подумала Нямжав, любуясь вспышками ракет. И тут нахлынули воспоминания о ее первом в жизни салюте. Она наблюдала его на площади Сухэ-Батора[83], в многотысячной толпе людей в один из весенних вечеров много лет назад. Это был салют Победы.* * *
...Вечер 9 мая 1945 года был ветреным. Когда Нямжав вместе со своей подругой Норжмой пробиралась сквозь плотные ряды людей, собравшихся на площади, она вдруг услышала знакомый голос: — Вот и конец войне! Мирная жизнь начинается!.. — Она обернулась и тотчас увидела неподалеку человека с иссиня-черными усами и орденом на груди. Рядом стоял молодой военный. — Хорошее время наступает, — продолжал он. — Как мы все его ждали! — Здравствуйте, — поздоровалась она с орденоносцем, — как поживаете? Сперва тот посмотрел на нее с недоумением, но уже через мгновение крепко обнял девушку, поцеловал в лоб. Нямжав потупилась от смущения, но Соном и виду не подал, что заметил это. — Узнал тебя только по голосу — такая ты стала городская красавица! — громко заявил он, к еще большему смущению Нямжав. Она вся залилась краской. — Я вижу, ты земляков повстречала, — шепнула Норжма. — Побудь с ними, а я пойду. И она затерялась в толпе. А Соном, поглаживая усы и по-прежнему улыбаясь, обратился к военному: — Это наша землячка. Что? Не узнаешь, говоришь? Как же так? Ведь она приемная дочь бывшего богача Ба. — Вот оно что! — улыбнулся военный. — Помнится, когда я уходил в армию, она была еще совсем маленькой. — Дочка, ты, кажется, теперь на комбинате работаешь? — Да, — скромно ответила Нямжав. — Вот что делает свободный труд с человеком, — красавицей стала! А была батрачкой! Как тут не радоваться! «Много лишнего говорит!» — подумала про себя Нямжав, но она ничем не обнаружила своего недовольства. Ведь Нямжав очень многим была обязана этому человеку. — Вы давно приехали? Что нового в наших краях? — спросила Нямжав. — Приехал вчера. На сессию. Ну и, конечно, повидаться вот с этим молодым человеком в форме. Знакомься — это мой сын Дондов. Он служит здесь, в Улан-Баторе. Нямжав встретилась с взглядом Дондова и опять засмущалась. В этот момент раздался залп орудий, в небе повисли гирлянды разноцветных огней. — Салют Победы, — сказал Дондов. Гром орудий сливался с голосами многих людей, кричавших «ура». Торжественно звучали фанфары военного оркестра. Соном, не отрывая глаз от россыпей огней высоко над головой, сказал: — Да, это настоящий праздник — праздник нашей победы. Немало натерпелись мы за годы войны, но победили. Теперь уж нам ничего не страшно. Теперь нам ничто не угрожает... Нямжав, услышав эти слова, подумала: «И правда, нам многое пришлось пережить. Теперь будет все по-другому! » Между тем пушки продолжали палить, ракеты рассыпали свои огни. Нямжав время от времени украдкой бросала взгляд на Дондова. Он держал себя просто и естественно, радость так и играла на его лице, и улыбка не сходила с губ, когда он поочередно обращал свой взор то на отца, то на Нямжав. Постепенно от смущения Нямжав не осталось и следа. Прозвучал последний залп, и люди, громко переговариваясь, стали расходиться. — Соном-гуай, вы когда сможете зайти ко мне? — спросила Нямжав. — Надо бы зайти. Землякам интересно будет послушать, как ты тут устроилась. С завтрашнего дня я буду на заседаниях, но думаю, что сумею выбрать часок-другой и навестить тебя. Ты где живешь? Нямжав подробно рассказала, как найти ее дом. — А ведь уже почти ночь на дворе, дочка, — забеспокоился Соном. — И подруга твоя куда-то исчезла! Послушай, сынок! Я пойду в аил, где остановился. А тебе бы надлежало проводить Нямжав домой, не так ли? — Конечно, — кивнул головой Дондов. — Ну, до свидания. Я к тебе обязательно зайду. Хочу посмотреть и комбинат, на котором ты трудишься. Нямжав стала пробираться сквозь поредевшие, но все еще достаточно плотные ряды людей. Дондов шел следом. Нямжав чувствовала себя неловко — боялась встретиться с кем-нибудь из знакомых. Дондов видел, как она то и дело озиралась по сторонам, и с улыбкой сказал: — Вы, наверное, своего мужа ищете? — А почему бы и нет? — с вызовом ответила Нямжав, но тут же прикусила язык: «Зачем это я так говорю?» Они выбрались с площади и теперь пошли рядом. — Странно: мы с вами земляки, живем в одном городе, а ни разу не встретились, — завел разговор Дондов. — Ничего странного, город большой. Вы давно служите? — Призван в армию за год до войны. Теперь войне конец, и я думаю, что осенью демобилизуюсь. — Мне кажется, что я вас и в худоне ни разу не видела! — А чего тут удивляться! Ваши кочевали от нас довольно далеко. Но, помнится, в год призыва я как-то заехал к Балдан-гуаю; вы тогда были еще совсем маленькой худенькой девочкой. На это Нямжав ничего не ответила. «Так могло быть», — подумала она, вспоминая, что к ее приемному отцу Балдану постоянно заезжали знакомые и незнакомые люди, оставались на ночь, гуляли, особенно летом и осенью, когда у него чуть ли не каждый день было застолье. Некоторое время они шли молча. Когда они проходили по деревянному мосту через Дунд-Гол[84], мимо них проехала машина. Раздалась сирена. — Наши, комбинатские, едут, — сказала Нямжав, — пора и вам возвращаться. — Нет, отец ведь сказал, чтобы я вас проводил домой, — ответил Дондов и взял Нямжав под руку. У нее екнуло сердце. После моста начинался участок дороги, где не было ни домов, ни фонарей, ни людей, ни даже собак. Поэтому то, что Дондов сразу, без разрешения взял ее под руку, озадачило Нямжав. — Пожалуй, мне лучше отсюда просто добежать до дому. На этом пустыре темно, безлюдно. Как вы один пойдете назад? — Я солдат. А солдату положено ничего не бояться. Нямжав еще ни разу в жизни не ходила под руку. Она испытывала двоякое чувство: с одной стороны, было тепло и приятно, рождались смутные незнакомые ощущения, а с другой — из головы не выходили бесконечные внушения Норжмы о том, что парням нельзя верить. Они с Норжмой жили в одной юрте уже четыре года, и Нямжав не раз видела, сколько огорчений и страданий принесла подруге ее природная влюбчивость. Между тем они подошли к воротам, за которыми стояли юрты рабочих комбината. — Вот я и дома, — сказала Нямжав. — Что же, в таком случае я вас покидаю, — ответил Дондов, освобождая ее руку. Но расставаться им не хотелось. Нямжав думала, какие слова сказать парню на прощанье, как поблагодарить за проводы. В то же время она уже начала волноваться: как он один ночью пойдет назад? «Но он же солдат», — сама отвечала себе. Вдруг Дондов крепко обнял ее и поцеловал в щеку. Нямжав резко вырвалась из его объятий. Дондов не сделал попытки вновь обнять девушку. — Не сердитесь на меня, так получилось... Спокойной ночи, Нямжав. Он повернулся и пошел к городу. Через несколько шагов он оглянулся и помахал рукой. Нямжав побежала к своей юрте, а когда, задержавшись у входа, попыталась разглядеть Дондова, он уже исчез в темноте. В юрте ее ждала Норжма. Она вернулась раньше и легла. — Уж не пришла ли ты в сопровождении того самого парня — твоего земляка, а? — спросила она. — Не говори ерунды, — зарделась Нямжав и быстро юркнула в постель. Норжма не стала допытываться и погасила свет — наутро им обеим надо было рано вставать на работу. Нямжав закрыла глаза. Но сон не шел. В памяти мелькали события минувшего вечера: то возникал образ Сонома, улыбающегося и поглаживающего усы, то чистые, ясные глаза Дондова. Затем вдруг она видела сноп ярких огней в небе... Перед мысленным взором во всем великолепии предстали родные степные просторы. Потом всплыли картины минувших лет: Нямжав перебрала в памяти все четыре года, которые прошли с тех пор, как она покинула степь...
* * *
Порывы осеннего суховея пригибали к земле высокие травы. Под жаркими лучами солнца овцы жались друг к другу. К полудню зной усилился. На вершине холма, откуда просматривалась почти вся долина с пасшимся на ее лугах скотом, стояла босая девушка в поношенном тэрлике, с коротким кнутом в руке. Она звонко пела:* * *
...Сзади фыркнула лошадь. Нямжав обернулась и увидела, как с коня спешился какой-то человек. «Кажется, это не Творожный Нос!» —с облегчением вздохнула Нямжав. Внимательно приглядевшись, она узнала сомонного даргу[87] Сонома. Ведя коня на поводу, Соном подошел к ней. — Здравствуй, дочка, как дела? Как овцы пасутся? — приветствовал ее Соном. — Спасибо! Все хорошо! — ответила Нямжав. Она села на землю, прикрыв ноги подолом тэрлика. Соном подсел к ней, достал трубку и, набив ее табаком, закурил. — Такое впечатление, что у вас дома большой праздник? — сказал Соном. — Вы заезжали к нам? — Заезжал. Народу полно, почти все пьяные — дым коромыслом. Соном вновь внимательно посмотрел на Нямжав. На душе у нее стало тревожно. Нямжав сорвала травинку и стала мять стебелек. — Тебе сколько лет? — В этом году восемнадцать исполнилось. Соном задумался, сделал несколько глубоких затяжек... — Советские братья проливают кровь на войне, а тут некоторые водку пьют и пиры закатывают. Нехорошо как-то, — сказал Соном, вынув изо рта трубку. «К чему это он говорит?» —забеспокоилась Нямжав и пристально посмотрела ему в глаза. Однако бронзовое широкое лицо дарги ничего не выражало. Нямжав вспомнила собрание аратов своего бага в начале лета, как выступал на нем Соном, его слова о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Тогда она сразу и не поняла, как ужасна война. Потом Соном выступал еще и еще раз, говорил, что должны делать араты для скорейшей победы над общим врагом... «Ведь война еще не кончилась, — подумала Нямжав. — Вот он и волнуется». — Я давно собирался с тобой встретиться и поговорить, — продолжал Соном. — Да все дела и дела — никак не мог выбраться. А теперь узнал, что ты здесь, на пастбище. Вот и приехал. Нямжав вскинула на него удивленные глаза: о чем это дарга собирается говорить с ней? Соном прокашлялся, снова набил трубку. — Нам в управлении известно, что ты живешь нехорошо, что твоя жизнь складывается неважно. Вместе с твоим родным отцом я боролся за народную власть. Вместе мы сражались с врагами, вместе потом руководили сомоном. Поэтому я в ответе за твою судьбу. Конечно, ты сыта. И крыша у тебя над головой есть. Однако, по существу, ты всего лишь батрачка у Балдана. Нямжав в свои восемнадцать лет продолжала называть Балдана отцом. Его жену Хорло она звала мамой. Работая от зари до зари, она искренне считала, что трудится для себя, для родины, для своих родителей. Не думала Нямжав, что она всего лишь батрачка в богатом аиле. Батрачка! Это слово, да еще из уст большого начальника, повергло ее в смятение. — Вы правду говорите, да? Нямжав отвернулась от Сонома: слезы побежали по ее щекам. Соном прекрасно понимал состояние девушки. — Я знаю, до меня тебя еще никто не называл батрачкой. Но, увы, твоя жизнь — это жизнь настоящей батрачки. Твои приемные родители иначе и не смотрят на тебя, как на батрачку. Вспомни, в позапрошлом году зимой, в метель, Балдан оставил тебя с овцами одну в легком дэле, а сам вернулся домой, в тепло. Будь ты ему дорога, как родная дочь, он разве бы так поступил? А потом, кажется, он тебя еще и побил — пара овец, видите ли, потерялась. Это в такую-то пургу! Что это значило, подумай! Ты для них не дочь, а работница, батрачка! Самую тяжелую работу — тебе! Самую трудную — снова тебе! Старуха Хорло ругает тебя, обзывает нищенкой. Разве не так, а? Можно было подумать, что Соном-дарга был все эти годы рядом с Нямжав, так хорошо он знал всю ее горестную жизнь. Нямжав расплакалась. — Люди вокруг знают о твоих страданиях. Однако прямо сказать об этом Балдану никто не решается. Правда, последние два года кое-что изменилось в отношении твоих приемных родителей к тебе: Хорло «одаривает» своей старой одежонкой, Балдан с виду заботу проявлять стал... Но этому есть причина... Нямжав, смахнув слезы, посмотрела на Соном-гуая с удивлением. — Ты ведь выросла. И они боятся, что в один прекрасный день ты можешь выйти замуж за какого-нибудь человека и уехать с ним. Прощай тогда дармовая батрачка! Это в их планы совсем не входит. Куда лучше, если выдать тебя за кого-нибудь из местных. Про себя они уже давно решили во что бы то ни стало выдать тебя за Дорлига... Нямжав поняла теперь, почему Балдан в последнее время так старается приблизить ее к Творожному Носу. Слезы снова так и брызнули у нее из глаз. — И по службе, и по совести я за тебя, за твою судьбу в ответе, — как бы читая мысли девушки, сказал Соном. — Интересы аратов у нас в стране охраняются законом, постановлениями партии и правительства. Так что дело за тобой. Ты теперь совершеннолетняя. Соном вновь разжег трубку. — Как же мне быть? — дрожащим голосом спросила Нямжав. Соном, подумав, ответил: — В народной Монголии все дороги открыты к знаниям, к счастью... Если не возражаешь, к осени мы пошлем тебя в Улан-Батор. Там есть промышленный комбинат. Большое предприятие. От нас многие едут туда работать. Станешь фабричной работницей, научишься управлять техникой, будешь получать зарплату и заживешь по-новому. Согласна? — Да, — произнесла Нямжав. — Ну, раз так, остальное я беру на себя.* * *
Зима сорок первого года выдалась на редкость морозной, метельной. Сотрясая застывшую, обледеневшую землю, прогудела заводская труба. Нямжав очень не хотелось вылезать из-под теплого одеяла, но она быстро встала и оделась — надо было идти на работу. В юрте было холодно, снаружи завывал ветер. Он рвал веревки, скреплявшие кошму, вздувал покрывало дымника. Нямжав разожгла печь, согрела чайник. Когда она уже пила чай, из-за пестрой занавески, за которой стояла кровать Норжмы, раздался ее сонный голос: — Это что, семичасовой гудок? — Да. Вставай — чай уже готов. — Я сегодня на работу не пойду. Скажи мастеру, что заболела. Как, и сегодня она не будет работать? — взволновалась Нямжав и рванулась было за занавеску с твердым намерением поднять Норжму, но тут же отпрянула назад. Она увидела у кровати Норжмы, рядом с черными валенками подруги, щегольские, отделанные коричневой кожей фетровые бурки. Нямжав все поняла. Вчера, когда Нямжав вернулась домой после занятий в школе, Норжма уже спала. Нямжав не стала ее будить: сама очень устала, — уроки начались сразу после смены. Она быстро забралась в свою постель и тотчас уснула, как провалилась куда-то. А теперь она вспомнила, что Норжма еще вчера после обеда отпросилась с работы, сославшись на головную боль. «Наверное, действительно заболела», — подумала вчера Нямжав. А оказывается, ей надо было привести домой этого, в бурках... Нямжав пила пустой чай: еды в юрте она не нашла. Но тут раздвинулась занавеска, и Норжма протянула ей небольшую, аккуратно перевязанную закрытую коробку. Открыв коробку, Нямжав увидела внутри несколько борцоков[88] и еэвэнов[89]. Осенью, когда она только приехала в столицу, их было полно в любом магазине. Но постепенно они стали все реже и реже появляться на прилавках, а в последнее время их и совсем не стало. Пока Нямжав пила чай, послышался второй гудок. Значит, уже половина восьмого. Нямжав вышла из юрты. Было сумрачно, рассвет едва занимался. Свирепый ветер обжигал лицо. От мороза перехватывало дыхание. Чтобы не окоченеть, Нямжав побежала. Только снег скрипел под ногами. ...На комбинат она поступила осенью. Определили ее в шерстомойный цех. Дирекция комбината хорошо приняла молодое поколение из худона. Рабочим предоставили жилье. Дали аванс — по триста тугриков. Нямжав была в восторге — за всю жизнь она не держала в руках столько денег. Редко когда у нее водился тугрик. А тут — сразу триста! Поселили ее в четырехстенную юрту вместе с Норжмой. Норжма тогда тоже была начинающей работницей. Но она жила в городе уже несколько месяцев и чувствовала себя легко и свободно. Немного старше Нямжав, она поначалу несколько кичилась своим превосходством над провинциалкой. Но это длилось недолго, ибо по натуре Норжма была отзывчивой и приветливой девушкой. В первые же месяцы Нямжав стала зарабатывать на комбинате по семьсот — восемьсот тугриков. У нее хватало денег и на еду, и на наряды. Но в последнее время многое изменилось: возникли трудности с продуктами и одеждой, цены подскочили. Оно и понятно — шла война. ...В сумеречном свете зимнего утра к комбинату со всех сторон, группами и поодиночке, спешили рабочие. Нямжав вспомнила, сколько усилий потребовалось Соному-дарге, чтобы отправить ее сюда, как упорно сопротивлялись приемные родители. А когда выяснилось, что из их заявлений и жалоб ничего не вышло и наступило время отъезда, они даже завалявшегося хадака не подарили ей на дорогу. Тогда-то Нямжав окончательно поняла, что была у них всего лишь батрачкой. «Не отправь меня Соном-гуай на производство, — подумала Нямжав, — они бы и сейчас мною помыкали: разожги печь, пойди туда, принеси это, отнеси то... А в такую погоду тем более. Лежали бы себе на кроватях, а я топи таган...» И от того, что она теперь самостоятельна, сама себе хозяйка, Нямжав ощутила себя необыкновенно счастливой. Когда она подошла к проходной, раздался восьмичасовой гудок. За дверью ее сразу же окутало теплом: в проходной жарко топилась железная печь. Нямжав заспешила к зданию шерстомойки. Там было шумно — машина работала на полную мощность, и люди, чтобы услышать друг друга, вынуждены были кричать. Большая, умная машина накручивала шерсть на свои шестеренки, потом подавала ее на зубчатые гребни, вычесывала и наматывала на толстые барабаны, затем шерсть снова промывалась и шла на сортировку. После этого ее еще раз отмачивали и, наконец, сушили. Круглые сутки, все двадцать четыре часа, ни на секунду не останавливаясь, не переводя дыхания, работала машина. Работницы шерстомойного цеха привыкли к машине. Хорошо знали ее. Если в машине был избыток сырья — она начинала клокотать, как будто хотела проглотить шерсть залпом и поперхнулась, и, наоборот, когда машине не хватало шерсти, она хлопала, как бы просила добавить корма... В раздевалке к Нямжав подошел мастер цеха Очир — мужчина лет сорока, с острым взглядом. — Ну, что там с этой, твоей... нахлебницей? — спросил он недобро. «Нахлебница — это Норжма, конечно», — решила Нямжав. — Больна она. Встать с постели не может — лежит, — не выдала подругу Нямжав. — Тогда надо врача вызвать! — сказал Очир и ушел по своим делам. У Нямжав отлегло от сердца: мастер, кажется, ничего не заподозрил. И она молодец — сказала так, как попросила подруга. «А вранье ли это, хорошо это или плохо — там видно будет». Нямжав поспешила в цех. Грузчики уже тащили туда мешки с шерстью. — Это все овечья шерсть, грязная и длинная, — сказал кто-то из них. — Эй, девчата, пошевеливайтесь! — крикнул другой грузчик. — А то машина остановится! В одном из углов огромного цеха громоздилась гора шерсти: ее доставляли сюда на тележках в мешках и сваливали в кучу, очень тускло светилась огромная лампа, подвешенная к потолку, порой даже трудно было дышать от поднимавшихся испарений. Нямжав принялась за очистку шерсти: мусор она бросила в огромный мешок из дерюги. Потом работницы сортировочного цеха должны были разобрать шерсть по сортам, погрузить мешки и отвезти к шерстомойной машине. Девушки работали быстро и сноровисто, однако гора шерсти почти не уменьшалась. Осенью, когда Нямжав впервые пришла сюда, ее поставили ученицей к Ханде — опытной сортировщице. Через месяц Нямжав научилась отличать хорошую шерсть от брака, сортировать и нумеровать ее. Для нее, привыкшей сызмальства к тяжелой работе, труд на фабрике не был тяжел. Однако в быстроте и сноровке она иногда все еще уступала своим напарницам. Кроме того, Нямжав старалась сортировать шерсть как можно тщательнее, и на это уходило много времени. Несколько раз она слышала, как мастер Очир отчитывал работниц, которые то ли в спешке, то ли по небрежности допускали брак в работе: путали сорта или закладывали в машину плохо очищенную шерсть. Нямжав очень боялась, что нечто подобное может случиться и с ней, и потому сортировала шерсть особенно старательно. Когда она доставила свой первый за этот день мешок к шерстомойной машине, работавший на погрузке уже немолодой мужчина зло бросил: — Что ты еле ноги волочишь? Другие уже три мешка принесли, а ты еле-еле один... Этого рабочегозвали Дорж. Нямжав считала его злым и скверным человеком. К тому были основания: Дорж всегда придирался к сортировщицам, не упускал случая съехидничать. Рабочие прозвали его «Мешалкой». Вернувшись на свое место, Нямжав взяла несколько охапок шерсти и принялась ее сортировать. Однако дело двигалось не так быстро, как хотелось: шерсть была очень грязной. В ней попадались комья земли и даже небольшие камушки. Приходилось долго трясти шерсть, отсеивать мусор. Нямжав работала очень усердно, даже взмокла от напряжения, по лицу побежали струйки пота. Но всякий раз, когда она доставляла шерсть к Мешалке Доржу, тот неизменно обзывал ее лентяйкой. В конце концов Нямжав разозлилась: что для него тщательная очистка и сортировка, ему лишь бы мешки быстрее тащили к машине. Она так и сделала — быстро наполнила мешок и потащила его Доржу. Тот удивленно посмотрел на нее, — уж больно скоро она на этот раз возвратилась, — однако, ничего не сказав, взял мешок и высыпал шерсть в машину, потом вдруг улыбнулся во весь рот и, смахивая пот с раскрасневшегося, лоснящегося лица, сказал: — А все-таки ты бездельница! Только когда нажмешь на тебя, тогда и работаешь! У Нямжав екнуло сердце: а вдруг сейчас машина станет из-за того, что она плохо очистила шерсть? Она пошла к себе, поминутно оборачиваясь, однако назад ее никто не позвал. В двенадцать часов прогудел гудок на обед. Сортировщицы пошли в душевую смыть грязь с лица и рук. В это время прибежал рассыльный. Он объявил, что всем следует срочно собраться у шерстомойной машины. Когда подошли сортировщицы, там уже было полно народу, — собрались ремонтники, мастера, наладчики, машинисты, грузчики. Пришел директор фабрики и с ним незнакомый мужчина. — Товарищи рабочие! — сказал он. — Вы все, конечно, знаете из сообщений Советского информбюро, что героическая Красная Армия разгромила сильную группировку немецко-фашистских войск под Москвой. Развивая наступление, советские солдаты освобождают от врага свою землю. Наш народ, — продолжал директор, — непосредственно участвует в священной борьбе против фашистской Германии, смертельного врага всего человечества. По всей нашей стране идет движение за оказание помощи доблестной Красной Армии. Обо всем этом вам, дорогие товарищи, сейчас подробно расскажет сотрудник горкома партии. Мужчина, стоявший рядом с директором, сделал шаг вперед. — Героическая Красная Армия, — начал он, — не только преградила фашистским полчищам путь к Москве, не только остановила врага на подступах к родной столице. Перейдя двенадцатого декабря в наступление, Красная Армия разгромила фашистов и отбросила их от Москвы более чем на четыреста километров. Эти слова были встречены громкими аплодисментами. Далее оратор говорил о ходе советского наступления, о зверствах и издевательствах немецких фашистов над мирным населением, о долге каждого честного человека сделать все, что в его силах, для разгрома фашизма. Призыв оратора оказать помощь этому святому делу потонул в бурных рукоплесканиях. — Ну, а теперь пусть люди скажут, — предложил директор, — чем они готовы оказать помощь фронту. — Достав бумагу и карандаш, он приготовился записывать. Первым вышел мастер Очир. — Оказать помощь героической Красной Армии, — торжественно произнес он, — долг каждого из нас. Я хочу внести для победы свою месячную зарплату, а из личного скота, что имеется у родственников в худоне, пять лошадей и пару коров. И еще золотое кольцо. Пусть мой скромный дар поможет сразить фашистов. Все громко приветствовали Очира. Затем друг за другом брали слово другие рабочие. После митинга до конца обеденного перерыва оставалось немного времени, и никто в столовую не пошел. Люди достали захваченные из дому на всякий случай свертки с едой и, налив воды из-под крана, приступили к еде. У Нямжав ничего не было. Она пошла было к крану попить воды, но тут ее позвал Дорж. Обернувшись, она увидела, что он пристроился у самой машины. Рядом были люди, и Нямжав постеснялась подойти. Тогда Дорж поднялся и сам подошел к ней. — На, ешь, — протянул он девушке круглую лепешку. — Спасибо, я не хочу, — отстранила Нямжав руку Доржа и хотела было идти на свое рабочее место, но тот загородил ей дорогу: — А ты, оказывается, с характером! Возьми, не привередничай! Я ведь денег за нее не прошу. Предлагаю от чистого сердца — ну, как сестренке, что ли. Кстати, ты мне ее очень напоминаешь! Нямжав не нашлась что ответить и взяла лепешку. Она оказалась необыкновенно вкусной. «На рынке, — подумала Нямжав, — не меньше десяти тугриков стоит. Странный какой-то этот Дорж, — решила она. — На работе ругается, а здесь на тебе, добрый...» Между тем обеденный перерыв кончился, и все приступили к работе.* * *
Во вторую смену вышло мало людей, и потому Нямжав и ее товарищей попросили остаться сверхурочно. Нямжав очень устала. Когда она оттащила последний мешок с шерстью, пробил час ночи. Вернувшись в цех, она увидела девушек из третьей смены. Отдав свой мешок сменщице, она быстро переоделась и вышла на улицу. Ветер обдал ее холодом, но вместе с тем как бы вдохнул бодрость в онемевшее от усталости тело. В небе ярко мерцали звезды. Под ногами спешивших домой рабочих скрипел снег. Нямжав была уже недалеко от дома, когда ее нагнал Дорж. — Быстро ты ходишь, однако! — Он поравнялся с ней и пошел рядом. — Зверски холодно сегодня. Вообще в этом году здорово похолодало, — продолжал Дорж. Нямжав не отвечала. — Правду говорят, что войне сопуствуют стихийные бедствия и житейские невзгоды. Еще в прошлом году мы жили хорошо. Продуктов, товаров — всего было полно. Работали восемь часов в смену, и все. Но вот началась эта проклятая война, и все пошло кувырком. Во всем нехватка. Работы — конца-края нет, почти всегда приходится работать сверхурочно... — распространялся Дорж. Нямжав по-прежнему молчала. — Послушай, сестренка, а что, если тебе зайти ко мне, горячего чайку попить, а? Твоя соседка небось особо тебя не ждет, ужин не приготовила? «И правда, Норжма, наверное, или ушла с этим своим в бурках, или спит. Все равно ужин придется готовить самой. Может, и вправду зайти?» Она замедлила шаги. — А вот и мой дом. — Дорж показал на ближайшую юрту. «Странный человек, но, видимо, гостеприимный...» — подумала Нямжав. — Неудобно как-то, — сказала она, — темной ночью в незнакомый аил... Дорж прервал ее: — Ты почему так скверно обо мне думаешь? Если я отношусь к тебе, как к родной сестре, что в этом плохого? Чего неудобного? В голосе Доржа звучала обида. Нямжав остановилась. «И правда, он ко мне по-хорошему, а я — неблагодарная». — Вы не сердитесь, пожалуйста, я с удовольствием попью с вами чаю. — Ну и молодец! Входи, будь как дома! — сказал Дорж, открыв дверь юрты. Нямжав вошла внутрь. Дорж включил свет, и Нямжав увидела, что юрта была довольно уютной. По сторонам две кровати, в красном углу[90] два украшенных орнаментом сундука, на одном из них зеркало, а над другим — рамка с фотографиями. В юрте было тепло. Дорж усадил Нямжав на маленькую скамеечку у низкого четырехугольного столика за печкой. — Вечером я выкроил свободную минутку, натопил печь и вскипятил чай. — Он прислонил руку к большому чайнику, который стоял на печке. — Горячий еще. Достав две большие серебряные пиалы, он до краев наполнил их чаем. У Нямжав с утра не было во рту ничего горячего. Большими глотками она стала пить чай. Дорж поставил на стол блюдо с лепешками — точно такими, какими он угощал Нямжав в цехе, достал масленку со сливочным маслом. — Кушай, сестренка, не стесняйся, — сказал он, положив себе в чашку большой кусок масла. Нямжав тоже отщипнула немного масла и тайком посмотрела на Доржа: он спокойно держал пиалу и не торопясь пил чай. Покончив с чаем и поставив чашку на стол, Дорж спросил: — А может, супчик сварить или еще чего, а? — Не стоит беспокоиться. Чай замечательный, больше ничего не надо. — Тогда сейчас мяса поедим. Ты только не стесняйся. И вообще держись поближе к людям. У нас на фабрике рабочие друг для друга ничего не жалеют. Он вытащил из шкафчика и поставил на стол глубокую тарелку с вареной бараниной. «И правда, — подумала Нямжав, — на фабрике ко мне все относятся по-дружески: многие сестрой называют, а кто постарше — даже дочкой. Угощают всегда. До чего же душевен рабочий народ! Как мне отблагодарить Соном-гуая за то, что он ввел меня в их среду!» Она отведала мяса, выпила еще чаю и почувствовала, что сыта, как никогда. Посидела немного, а потом поднялась, чтобы идти домой. Дорж взглянул на нее и тоже поднялся: — Что же ты так мало ела? Торопишься? А куда? В юрте у тебя холодно. Почему бы тебе не переночевать здесь, в тепле-то? Нямжав сразу насторожилась и двинулась к дери. — Нет, нет, Норжма больна, мне надо идти, — пыталась отговориться Нямжав на ходу, но Дорж схватил ее за руку, потянул к себе. Глаза у него блестели, как у хищника. Нямжав хотела было вырвать руку, но тут Дорж обнял ее за шею. Нямжав прямо остолбенела. — Послушай, поспи здесь у меня, а потом пойдешь, а? — Что? Ноги моей больше здесь не будет! — Голос Нямжав дрожал от негодования. «Видно, это цена, которую он берет за угощение...» — промелькнуло у нее в голове. Она посмотрела на него с отвращением. — Успокойтесь и не вздумайте преследовать меня. Иначе я людей позову...* * *
Наступило лето. Как только темнело, на все окна опускались черные шторы. Светомаскировка. Она пришла в столицу с начала войны. Война изменила все — жизнь, быт, работу. Люди не жаловались. Несмотря на усталость, на тяготы быта, работали без выходных, сверхурочно. Никто не отлынивал ни от какой работы. В этом отношении война явилась хорошей закалкой, проверкой воли и стойкости для всех. Даже не слишком дисциплинированная Норжма теперь заметно изменилась — регулярно и без всяких опозданий приходила на фабрику. Правда, теперь она работала в другую смену. Свою ей пришлось оставить — она переехала жить в центр города к другу, с которым познакомилась тогда, зимой. Нямжав осталась одна в юрте и с Норжмой почти не виделась. Работала она по-прежнему на сортировке: доставляла мешки с очищенной шерстью к шерстомойной машине, которую загружал Дорж. Однако после того случая зимой, когда она из-за своей доверчивости чуть было не попала в беду, она видеть не могла этого человека. А тот как ни в чем не бывало продолжал заигрывать с ней. Теперь она работала наравне со всеми, не отставала ни в чем. Однажды, просеивая на решете мотки шерсти, Нямжав почувствовала, как что-то больно ударило ее по ноге. Нагнувшись, она увидела камень величиной с пиалу. Нямжав вспомнила, как Балдан и его подручные специально для веса закладывали, бывало, камни и комья земли в овечью шерсть, которую они сдавали в кооператив. «Уж не эта ли шерсть к нам теперь поступила?» — подумала Нямжав, поднимая камень с пола. — Ты чего это разглядываешь? — раздался рядом голос мастера Очира. Нямжав протянула ему камень. Очир повертел его в руках, подкинул на ладони, как будто взвешивая: — Да, не меньше килограмма потянет. Вот так некоторые проходимцы государство обманывают. Он ушел, захватив камень с собой. Оставшуюся в решете шерсть Нямжав сложила в мешок и понесла к машине. Она вытряхнула шерсть и пошла было назад, как вдруг услышала: «Эй, подожди!» Обернувшись, она увидела, как Дорж с грозным видом отпихнул ногой шерсть, которую она только что принесла. — Тащи назад и еще раз отсортируй! Ты кого же хочешь обмануть? — закричал он и сунул ей чуть ли не в глаза пучок грязной шерсти из кучи, лежавшей перед ним. Нямжав решила, что это из того остатка, где она нашла камень, и забеспокоилась. — Да, недоглядела... — Возможно, и недоглядела, — усмехнулся Дорж. — А скорее оттого, что слишком быстро работать стала — прославиться хочешь и за деньгами гонишься! — Вы сами, наверное, только об этом и думаете! — возмутилась Нямжав. У Доржа, не ожидавшего такого отпора, даже брови полезли кверху. Он подошел ближе и схватил Нямжав за рукав. — Вот как! Я тебе сочувствую, а ты пакости говоришь. Да ты, оказывается, вредная штучка! И государство ты сознательно обманываешь, я убежден. И это не в первый раз. В шерсти, которую ты сортируешь, всегда полно грязи, камней, разносортицы. Скажешь, вранье? Тогда смотри сама! И он так сильно дернул ее за рукав в сторону кучи, лежавшей перед машиной, что Нямжав еле удержалась на ногах. — Это что, по-твоему? Это все твоя работа — и все сплошной брак, обман! Смотри! Он схватил пучок и подбросил его кверху: на пол посыпались мелкие камушки, земля, конский волос, пучки верблюжьей шерсти. Нямжав так перепугалась, что сразу не могла сообразить, что Дорж подсунул ей вовсе не ту шерсть, что она чистила, а какую-то грязную мешанину. Ею овладело одно желание — поскорее бежать от этого страшного человека. Дорж, конечно, видел, что она испугалась. — Сейчас военное время, и тебя будут судить по всей строгости, — пригрозил он. — Твой обман — это саботаж в пользу фашистов. Знай, суд тебя не пощадит. От этих слов у Нямжав на глаза выступили слезы. Дорж подошел к ней поближе, и, понизив голос, сказал: — Но пока об этом знаю только я один, учти. Я могу кому надо рассказать, а могу и не рассказывать. Все зависит от тебя. — Аха, пожалейте меня, — еле слышно вымолвила Нямжав, с трудом сдерживая рыдания. — Я потому тебя и позвал, чтобы предостеречь. Ладно, обещаю. Начальство не узнает, и тебя в тюрьму не упекут. Но ты должна меня отблагодарить за это... Нямжав вздохнула облегченно. — Каким образом? Чем я могу отблагодарить? Дорж воровато улыбнулся. — Ты, наверное, помнишь, что было зимой. Ты была решительно против. А что в этом особенного? Все как у людей... Он попытался обнять Нямжав, но та уклонилась. — Смотри сама, — опять посуровел Дорж. — Если не хочешь получить срок, кончай ломаться! Нямжав с ненавистью посмотрела на него. — Знай, я никогда не буду с тобой! Схватив свой мешок, Нямжав убежала в цех. Она бросилась ничком на кучу неотсортированной шерсти и здесь дала волю слезам. Ее тотчас окружили, стали утешать, расспрашивать. Подошла Ханда, та, что в свое время обучала Нямжав. — Доченька, что случилось? — спросила она ласково. Нямжав не могла вымолвить ни слова. Ханда приподняла ее за плечи, прижала к себе, стала вытирать ее мокрое от слез лицо. — Кто тебя обидел? Не таись, скажи! — Дорж... — только и успела сказать Нямжав. Ханда решительно двинулась к машине. Нямжав продолжала плакать. Лучше тюрьма, думала она, чем уступить домогательствам этого негодяя. Выплакавшись, Нямжав почувствовала, что не может работать. Бросила мешок и вышла во двор. В небе висела чистая луна, лицо ласкал легкий ветерок; казалось, он хотел сдуть с Нямжав все неприятности. Она немного успокоилась и решила было вернуться в цех, как вдруг раздался голос Ханды. — Нямжав! Где ты? — Ханда подошла к Нямжав. — Иди, дочка, и спокойно работай. Этот паршивый Мешалка больше не будет тебя шантажировать. Брак, что он тебе показал, совсем и не твой. Это отходы, оставшиеся два дня назад после третьей смены. Он говорит: попугать, мол, хотелось. Я его как следует отчитала. Правда, кое о чем он успел уже насплетничать Очиру. Настоящий провокатор! Но с мастером я тоже говорила — все в порядке, иди в цех и не волнуйся! Нямжав проснулась среди ночи: кто-то громко барабанил в дверь. Дрожа от страха, Нямжав накинула дэл, включила свет и пошла открывать. Сердце гулко колотилось в груди. Стук, правда, не повторился — снаружи увидели свет, наверное. — Кто там? — спросила Нямжав. — Это я, Норжма. Не успела Нямжав отворить дверь, как подруга с плачем повисла у нее на шее. Нямжав даже растерялась от неожиданности: что-то произошло — это она поняла сразу, а вот как успокоить, утешить подругу — не знала. Норжма, немного успокоившись, отпустила Нямжав и села на край кровати. Нямжав смотрела на нее с состраданием. — Дай мне попить чего-нибудь холодного! — попросила Норжма. Нямжав налила ей чашку холодного чая из чайника. Норжма сделала несколько больших глотков, облизнула губы. — Я вижу, ты в полном одиночестве, — сказала она и слегка улыбнулась. Нямжав почувствовала облегчение: раз улыбается, значит, все не так ужасно. Норжма тяжело вздохнула, допила чай. — Могу доложить: с этим негодяем все кончено — не сошлись характерами. Приходил поздно, пьяный, да еще лез с кулаками... — И ты терпела? Почему не ушла раньше? — С самого начала промашка вышла. Больно красивые слова он говорил — я и клюнула на них, а прошло несколько месяцев, и он стал другим... Эх, если бы я знала, что так будет, разве я согласилась бы? — Конечно. А мне он сразу не понравился. Но я не решилась тебе сказать тогда — боялась, подумаешь что-нибудь плохое. — Эх, Нямжав, любовь слепа, к сожалению. И этого подлеца я искренне любила! Правда, и он поначалу ко мне относился вроде бы хорошо. Но, оказалось, это все ложь, обман. Вообще, все мужчины по натуре лицемеры, все они ловкачи — умеют нас, женщин, обманывать. А я? Что я? Я никогда не умела разбираться в людях. Думала о нем только хорошее. А он умело пользовался моей добротой, стал еще и погуливать. Завел себе на стороне какую-то подружку. Я делала вид, что не догадываюсь, не знаю. В конце концов он стал пропадать у нее целыми сутками, а со мною без конца скандалил. Я все терпела. Думала, авось образуется... Увы, не получилось... Дальше терпеть унижения я не намерена. Вот и ушла. Они помолчали. Норжма осмотрела юрту. — А ты, гляжу я, неплохо живешь. Может, обзавелась кем-нибудь? — А по-твоему, одной нельзя жить хорошо, так, что ли? Ты-то уж должна знать, что значит обзаводиться, — сказала Нямжав и тут же раскаялась. Эти слова задели Норжму за живое, она даже поморщилась. — Ты права. Обещаниям и уговорам мужчин верить нельзя, это точно. — А кем работает этот твой бывший друг? — Мошенником! Нямжав от удивления даже рот раскрыла. А Норжма как ни в чем не бывало улыбнулась и продолжала: — Самый настоящий мошенник! По положению он — заместитель заведующего АХО в одном учреждении, попросту — заместитель завхоза. Верит он только в одно — в деньги. С деньгами, говорит, все можно сделать. И распутник, и хвастун к тому же. Бахвалился передо мной, что, мол, таких девушек, как я, он может найти сколько угодно, стоит только им подкинуть что-нибудь, ну, мяса там или из вещей чего-нибудь. И правда, у него были девицы, падкие на деньги и барахло. Делишки он ловко обстряпывать умеет — настоящий аферист! Думаю, на службе долго он не продержится. — Ну, и что теперь? — Что бы ни было, я к нему не вернусь. Пусть хоть кровью истечет. В его доме мне места нет. Буду жить снова с тобой. Нямжав было жаль Норжму, однако утешать ее она не стала.* * *
Праздничный салют отгремел. Нямжав осталась стоять у открытого окна, подставив лицо свежему ветерку и с интересом наблюдая за течением шумного людского потока по улице. Где-то поблизости заиграл оркестр, послышалось пение. «Молодежь, наверное, веселится в парке, — подумала Нямжав. — И дочка, видно, сейчас там, среди сверстников, возможно, и с кавалером». И тут опять нахлынули воспоминания и унесли ее на много лет назад — теперь к тому времени, когда она впервые узнала, что такое любовь, и когда она была безмерно счастлива. В глазах ясно встал образ любимого человека, которого она одно время считала пропавшим без вести... ...Поздняя луна повисла над вершиной горы Богдо-Ула, окутав прозрачной пеленой уснувшую землю. В лунном свете тихо мерцала, переливаясь серебром, Тола[91]. Было интересно наблюдать за игрой света и теней на реке, следить за ее течением. Прозвучал фабричный гудок, на короткое время заглушив шум воды. — Уже половина второго. Очень поздно, — тихо сказала Нямжав и вздохнула. Так хорошо было сидеть плечо к плечу с Дондовом на берегу реки и молча любоваться ночью. — Я бы с удовольствием остался здесь с тобой до рассвета, любимая. Но тебе завтра с утра на работу — отдохнуть не успеешь. Дондов ласково погладил Нямжав по руке. Нямжав и сама хотела, чтобы эта лунная ночь продолжалась вечно, чтобы еще и еще быть рядом с любимым. Вот так, прислонившись плечом к плечу, сидеть и слушать, как мерно шумит река, ловить ночные шорохи, ощущать, как легкий ветер ласкает щеки, и ждать, пока наступит рассвет. Ведь они только недавно познакомились, но... С той памятной первой встречи весенним, праздничным вечером Нямжав потеряла покой и втайне мечтала о новых встречах. Любовь между людьми возникает по-разному. У Нямжав и Дондова она вспыхнула с первого взгляда, с первой встречи пламенем опалила их души. Прошло несколько дней после их знакомства, и Дондов вместе с отцом навестил ее. Это открыло путь к дальнейшим встречам. Они вместе провожали Сонома-даргу домой. Нямжав передала гостинцы — немного пряников и печенья — для своих приемных родителей. А после того, как машина, на которую они усадили старика, скрылась за поворотом, они пошли и сфотографировались. Вроде бы просто как земляки — зашли в ателье и сделали снимок на память. Потом Дондов провожал Нямжав через весь город домой. По дороге он рассказывал ей о себе. И, главное, признался в любви. Прошло еще несколько дней, и, получив увольнительную, он вновь явился к Нямжав. Увы, на этот раз как следует поговорить не пришлось — Нямжав торопилась на фабрику. Но вот вчера Дондов пришел, весь сияя: за хорошую караульную службу ему дали увольнение на целые сутки. Нямжав в пять часов кончила работу. Они с Дондовом поужинали и пришли сюда, к реке, подышать свежим воздухом и вволю наговориться наедине друг с другом. За разговором, за признаниями не заметили, как и промчалось время. Дондов снова погладил руку девушки. — Этой осенью меня демобилизуют. Пойду работать шофером. Хочу только сначала навестить отца с матерью, если удастся. — А я круглая сирота: ни дома своего, ни родных. Твои старики, наверное, будут против твоего выбора, — со вздохом сказала Нямжав. Дондов крепко обнял ее. — Что ты говоришь? Мои родители, кажется, не такие плохие люди. Отец сам перед отъездом поручил мне заботиться о тебе. Говорил, что ты много натерпелась в жизни. Хвалил он тебя очень. — Однако он не посоветовал тебе взять меня в жены, не так ли? Нямжав спрятала улыбку, а Дондов вопреки ожиданиям отнесся к вопросу серьезно: — Представь себе, советовал. Нямжав не выдержала, улыбнулась: — Все парни хитрецы: вскружат девушкам головы красивыми словами, а потом бросают их. Вот бедняжка Норжма. Влюбилась без памяти, а теперь страдает. Дондов выпустил Нямжав из объятий и задумался: — Бывает и так. Но и парни не все похожи друг на друга. Я, например, никогда не был и не буду таким городским повесой. Если ты мне доверяешь, то доверяй до конца. Не веришь — что ж, твое право... — обиженно сказал Дондов. — Я не умею прельщать словами, я тебе прямо сказал, что хочу соединить свою жизнь с твоей. Можешь твердо верить: ты об этом никогда не пожалеешь.* * *
Ночью в разгар работы мастер сказал Нямжав, что какой-то парень ждет ее у проходной. Нямжав побежала к проходной. «Кто бы это мог быть? Дондов? Вряд ли. Говорил, что придет нескоро. Даже на Надом[92] вырвался всего на час, хотя раньше обещал побывать со мной на всех соревнованиях. Не вышло. Уже десять дней мы не виделись. А может, все-таки получил увольнительную?» Все это промелькнуло в голове Нямжав, пока она мчалась к проходной. Ночь стояла душная, ни ветерка. Нямжав пробежала мимо вахтера и тотчас увидела Дондова. Она радостно бросилась ему навстречу. Встреча была настолько бурной, что дежурный милиционер отвел глаза. — Я так спешил к тебе, любимая, — шепнул Дондов. Они отошли от проходной и очутились в темноте. — Наша часть сегодня на рассвете уходит, и, кажется, далеко. Я отпросился на час и примчался сюда. От самого центра — бегом! Дондов крепко обнял Нямжав, прижал ее голову к груди. У Нямжав упало сердце. «Не на войну ли их посылают?» — мелькнула мысль. Она уже слышала разговоры о войне. Один человек из Восточного аймака рассказывал, что к границе подтягиваются войска. И у них на фабрике ввели снова ночные смены, светомаскировку... Нямжав не знала, что сказать, только крепче прижималась к Дондову. — Когда же ты вернешься? Похоже... похоже, что на войну уходишь, правда? — еле слышно прошептала она. — Кто тебе это сказал? — Дондов провел рукой по ее лицу. Нямжав совсем растерялась, умолкла. — Ты не должна волноваться: скорее всего, это полевые учения. Скоро закончатся, и я вернусь. Он еще крепче прижал девушку к себе, поцеловал ее. — Мне пора, — сказал он нежно. Нямжав даже не пошевельнулась, только глаза закрыла. — Ты... ты... — только и смогла вымолвить она. Дондов еще раз поцеловал ее. — Все, мне надо бежать! Днем и ночью буду думать о тебе, любимая! Я буду писать, не волнуйся. Все будет хорошо... Дондов осторожно отстранил Нямжав от себя. Слезы застлали ей глаза. Но она взяла себя в руки: не годится слезами провожать в далекий путь, а может и на войну, любимого. — Счастливого тебе пути, — дрожащим голосом сказала она, прижимая руки к груди. — Знай, мое сердце бьется только для тебя, — добавила Нямжав шепотом. Дондов быстро пошел по направлению к городу. Нямжав не трогалась с места. Она смотрела, как темнота постепенно поглощает его. «А вдруг мы больше никогда не увидимся?» — пронзила ее страшная мысль. Нямжав разрыдалась и бросилась вслед за Дондовом. Он вновь заключил ее в объятия. — Не надо, не плачь! Ты ведь теперь почти солдатка, а солдатки — мужественный народ! Нямжав, обхватив его шею руками, осыпала его лицо поцелуями. Дондов был растроган и не знал, что сказать. Он только смахивал слезы с ее лица. Наконец Нямжав успокоилась. — Прости меня, я не смогла себя сдержать. — Что ты! На всю жизнь ты для меня единственная радость и счастье. Пока я жив, я всегда буду верен тебе. — Иди, любимый. Я буду тебя ждать, — сказала Нямжав. — А когда ты вернешься, мы отпразднуем это. Дондов повернулся и решительно зашагал к городу. Несколько раз он останавливался, прислушивался, не плачет ли Нямжав. Нет, она не плакала. Она недвижно стояла, вытянув вверх правую руку. Так делают всегда, когда желают дорогим людям счастливого пути.* * *
Утро 10 августа было пасмурным, хмурым. Над горой Богдо-Ула висел густой туман, временами начинал накрапывать дождь. — Товарищи! Началась война! — обратился мастер Очир к рабочим и работницам. Они тотчас обступили его тесным кольцом. Очир перевел дыхание. — Наше правительство объявило войну империалистической Японии. Сегодня наша доблестная армия выступила в поход против японских милитаристов... При этих словах у Нямжав так сжалось сердце, что она пошатнулась и, чтобы не упасть, прислонилась к стоявшей рядом работнице. — Что с тобой? — удивилась та. — Тебе, видно, очень плохо? На тебе нет лица. Осторожно поддерживая Нямжав за талию, она вывела ее из толпы. — ...В эти дни, когда наша родина вступила в бой с милитаристской Японией, мы, рабочие, должны не только выполнять, но и перевыполнять план. Это и будет нашим вкладом в победу над врагом! — продолжал Очир. — Тебе надо на воздух, — сказала девушка, сопровождавшая Нямжав. — Нет, — покачала головой Нямжав и вернулась в цех вслед за спешившими туда рабочими. А в ушах Нямжав продолжало звенеть лишь одно слово: «Война». С тяжелым чувством приступила она к работе. «Дондов, наверно, уже в бою», — думала она без конца, и руки ей не повиновались. С трудом дотянула она до конца смены, а когда раздался пятичасовой гудок, сразу же вышла на улицу. Шел дождь, и Нямжав с грустью подумала, что сама природа оплакивает начало войны. Ей стало невыносимо тяжко, и она пошла не домой, а к реке, на то место, где они провели с Дондовом такую прекрасную ночь. Дождь усилился, начался настоящий ливень. Дождевые капли буравили воду в реке, взрывались брызгами, река пенилась и кипела. Но она быстро нашла бугорок, на котором они тогда сидели, — другого такого поблизости не было, и она не могла ошибиться. И здесь она дала волю слезам. «Любимый мой, ты вернешься, вернешься целым и невредимым. И, собственно, почему обязательно должно случиться плохое?» — убеждала она себя, но напрасно. Вспомнились страшные картины войны, которые она видела в кино: грохот орудий, взрывы, черный дым, стелющийся по земле, и в нем солдаты, бегущие с винтовками наперевес... Но вот упал один, другой. Война... От ужаса Нямжав закрыла глаза. И тут в темноте она вдруг увидела Дондова... Белое как полотно лицо в крови... Нямжав вскрикнула, открыла глаза и опрометью побежала от реки. Когда она вбежала в юрту, Норжма кипятила чай. — Ты откуда такая явилась? — спросила она. — Видно, с работы ушла до срока... Но тут она увидела вспухшие от слез горестные глаза Нямжав и осеклась. Нямжав повалилась на кровать. Слезы душили ее. — Что с тобой, милая? Что случилось? Норжма присела рядом, гладя ее мокрые волосы. — Война... война, — прошептала Нямжав. — Ну и что же? Все знали, что она вот-вот начнется. Или ты оплакиваешь своего возлюбленного, как будто он уже погиб? Эх, глупая, ведешь себя, как маленькая. Вот увидишь, твой парень вернется с победой целым и невредимым и вся грудь в орденах. Норжма даже улыбнулась при этом, и Нямжав стало легче, она перестала плакать. «А почему бы и нет? — подумала она. — Ведь это вполне возможно». — Вот я смотрю на тебя и думаю, — продолжала Норжма, — всякое ты видела в жизни, а все еще настоящий ребенок. Твой суженый, — он тебе еще и мужем будет, — любит тебя крепко, это сразу видно. И вообще он мне очень нравится — хороший, добрый парень. Таких людей, как он, ни одна пуля на войне не возьмет — поверь мне! А теперь на, выпей чаю! Эти слова, словно бальзам, подействовали на Нямжав, она успокоилась, выпила чаю и согрелась после дождя.* * *
На коротком собрании, которое провели во время обеденного перерыва, секретарь партячейки сообщил последние новости с фронта. Наша армия совершила молниеносный бросок через пески Чахарской пустыни и горы Хингана, прошла с боями много сотен километров и, освободив Долоннор, Калшаг и ряд других городов, продолжала развивать наступление. И рабочие, в свою очередь, не жалели сил и труда для ускорения победы — работали почти без отдыха. Нямжав непрерывно думала о Дондове. Сортируя шерсть, она мысленно представляла себе, что каждый мешок, отнесенный ею к машине, оборачивается выстрелом, разящим врага. Очень ей хотелось, чтобы так оно и было. Между тем с той самой поры, как они простились, от Дондова не было никаких известий. И Нямжав постоянно одолевали тревожные мысли. В тот день у машины снова работал Дорж. Когда Нямжав принесла очередной мешок, он тщательным образом проверил его. — Ты почему так похудела, красавица? — не преминул спросить он ее. С тех пор как все попытки покорить Нямжав были отвергнуты, он не упускал случая задеть ее. Нямжав старалась избегать встреч с ним, но, когда они работали в одной смене, это оказывалось практически невозможным. Правда, у машины она не задерживалась и, как правило, тотчас возвращалась в цех. Чуть ли не бегом. Вот и сейчас она не стала отвечать. Молча повернулась и пошла было в цех. — Может, это оттого, что твой солдатик вернулся с фронта? — крикнул вдогонку Дорж. Нямжав вся запылала от гнева и от желания как следует отчитать этого пошляка, но сдержалась, сделала вид, что ничего не слышала. «Этот Мешалка, наверное, многим пакостит, — подумала она. — И как его только здесь терпят?» Вспомнилось, как весной прошлого года она видела Доржа на толкучке: в руках у него было несколько пар валенок, которые он продавал. Нямжав еще тогда подумала, что он их либо где-то достал по дешевке, либо украл на фабрике. Нямжав еще не знала, что представлял собой Дорж. Действительно, работал он как будто бы неплохо. В его смену машина почти никогда не простаивала. Не было случая, чтобы он не выполнил норму. Однако это не мешало Доржу быть матерым хищником. Тайно сговорившись с бухгалтером, он по государственной цене, а то и совсем бесплатно получал валенки и сапоги, а затем втридорога продавал их на рынке... Слова Доржа не выходили у Нямжав из головы. «Какое жестокое надо иметь сердце, чтобы сказать такое, — думала она. — И это в то время, когда там, на полях сражений, люди кровь проливают!»* * *
«Войне конец! Япония капитулировала! Наступил мир!» Услышав сообщение о победе, Нямжав подумала, что, возможно, Дондов уже вернулся и ждет ее. На радостях она помчалась домой. Увы, на двери юрты висел большой замок, вокруг никого не было. Она решила пойти к реке. Осенний ветерок мягко ласкал лицо, над головой цепочкой тянулась на юг стая птиц. Нямжав снова отыскала тот памятный бугорок, где они с Дондовом говорили друг другу слова любви. Нямжав присела, думая о том, сколько пришлось ей пережить с тех пор, как уехал Дондов, а от него за все это время не было никаких известий. «Если бы только он знал, — думала она, — как извелась, как исстрадалась я. А может быть, он ранен или убит?» Нямжав прогнала прочь страшную мысль. На берегу почти никого не было. Только слева от бугорка какая-то женщина полоскала в реке белье. Но она не обращала на Нямжав никакого внимания — слишком частым гостем здесь стала Нямжав. Девушка грустно следила за течением реки. За лето река сильно обмелела, обнажив местами гальку на дне. Вода стала прозрачной, местами голубой, местами зеленоватой. А весной она была буро-рыжего цвета и мчалась с шумом сплошным могучим потоком, заливая берега, клубясь и пенясь. Нямжав много раз наблюдала ее яростное кипение с тех пор, как приехала в город. И теперь ей было странно видеть Толу такой тихой, мирной и прозрачно-голубой. Юрты, стоявшие по берегам в летнее время, теперь исчезли, и лишь кое-где виднелись пасущиеся верблюды. Лес на северных склонах горы Богдо-Ула сверкал осенней позолотой и был виден весь как на ладони. Но Нямжав сегодня совсем не до красот природы. Ее переполняли другие чувства: радость за победоносный исход войны, тоска по любимому, страх перед неизвестностью, перед его долгим молчанием. Этот уголок Толы достаточно удален от города. Лишь изредка долетали сюда сигналы автомашин, и потому ничто не мешало Нямжав сосредоточиться на своих мыслях. Так она и сидела, погруженная в свои думы, скользя взглядом по лениво бегущим водам Толы, пока за спиной не послышались торопливые шаги. Нямжав вздрогнула: кто-то обнял ее за плечи. Она быстро обернулась и увидела Норжму. Она запыхалась и тяжело дышала: — Ну, что, сидишь и грустишь? Да? — выдохнула Норжма. — Негоже это в такой-то день! Тем более что лично тебя ждет огромная радость! И Норжма протянула Нямжав конверт. Письмо! Наконец-то! У Нямжав забилось сердце. Она буквально выхватила письмо у подруги. По сильно потертому и измятому конверту поняла: письмо отправлено давно и прошло долгий путь. Видно, побывало во многих руках. Вверху чернильным карандашом был выведен адрес: «Работнице шерстомойного цеха промкомбината Нямжав». Буквы почти стерлись и местами были едва различимы. Дрожащей рукой Нямжав стала вскрывать конверт. — Очир-гуай передал, — сказала Норжма, отдышавшись, — я искала тебя повсюду на фабрике — не нашла. Прибежала домой — тоже нет. Подумала, ты, наверное, на берегу сидишь. И не ошиблась. Ну, ладно, читай быстрей! Нямжав извлекла письмо из конверта и поднесла ближе к глазам. Норжма внимательно следила за выражением ее лица, пытаясь угадать по нему, что там написано. Когда Нямжав, кончив читать, прижала письмо к груди и закрыла глаза, Норжма испугалась: — Что там? Говори скорей! Она крепко обняла Нямжав, прижала к себе. — Любимый мой жив, жив! Жив! — Ну, слава богу! — разжала объятия Норжма. — Но он ранен, лежит в госпитале, — всхлипнула Нямжав, протягивая письмо Норжме. «Приветствую тебя, моя самая близкая, верная и любимая. Шлю тебе эту маленькую весточку. Не суди меня строго за то, что долго не мог написать тебе. Наутро после того, как мы с тобой простились, наша часть выступила в поход. Двигались днем и ночью. На рассвете 10 августа пересекли государственную границу и стали с боями продвигаться вперед. 17 августа во время наступления меня ранило в ногу. Вначале я решил не писать тебе из госпиталя — не хотел расстраивать. Теперь рана заживает, я уже хожу и решил написать тебе. Скоро меня выпишут, и я приеду к тебе. Ты обо мне не беспокойся — с каждым днем мне лучше, иду на поправку. Не за горами радостный день нашей встречи. До скорого свиданья. Твой Дондов». Норжма сложила письмо и, подумав, сказала: — Он послал его, судя по всему, дней десять назад. Наверное, сейчас он уже выписался из госпиталя и, может быть, даже уже приехал и ждет тебя у юрты. А мы тут рассиживаемся! Норжма могла бы этого не говорить — Нямжав и без того уже вскочила на ноги.* * *
Прогудел пятичасовой гудок. Нямжав вспомнила, как она удивилась, когда четыре года назад приехала в город и впервые услышала фабричный гудок. Теперь она привыкла вставать по гудку, идти на работу и по гудку возвращаться домой. Пятичасовой гудок означал, что первая смена работу закончила. Нямжав прибрала свое рабочее место и вышла на улицу. Сильный ветер гнал по улице мусор, обрывки бумаги. Подъехала вереница грузовиков, доверху груженных тюками шерсти. Через запасные ворота грузчики переправляли чистую шерсть на войлочно-валяльную и обувную фабрики промкомбината. Знакомая картина. Она повторялась почти ежедневно, и каждый раз Нямжав с радостью ощущала себя частью большой трудовой семьи. Она гордилась тем, что работала на фабрике. Правда, последнее время Нямжав с нетерпением ждала конца смены и быстро, не задерживаясь, бежала домой. Но на это была причина. Как же, а вдруг Дондов приехал и ждет ее? Так и в этот раз: выйдя на улицу, она сразу заторопилась. Увы, дома она застала только Норжму, торопившуюся на фабрику к началу второй смены. — Чай я вскипятила! — бросила та на ходу. Нямжав налила чашку горячего чая. Но пить не стала: почувствовала себя очень одинокой. Норжма работала в другую смену, и они почти не видели друг друга. В юрте было тоскливо и пусто. К тому же хотелось есть. А дома, как назло, ничего не было: мяса не осталось совсем, мука, которую выдали по карточкам несколько дней назад, почти кончилась. Нямжав надумала было съездить в город за мясом, но потом решила, что уже поздно и лучше пойти перекусить в рабочую столовую. Она оделась и собиралась уже уходить, когда услышала осторожный стук в дверь. Сердце замерло. Она хотела что-то сказать, но словно онемела. Стук повторился. — Да... — еле слышно отозвалась она наконец. Дверь открылась, и в юрту вошел человек в шинели. Переступив порог, он поставил чемодан на пол и, широко улыбаясь, шагнул к ней. В то же мгновение Нямжав почувствовала, что сознание покидает ее. Очнулась она уже в объятиях Дондова. Нямжав заплакала от радости. Что ж, теперь это не стыдно! — Ну, вот я и приехал, — сказал Дондов и снова нежно поцеловал ее. — Как ты жила все это время? — Ничего, жила. Очень скучала по тебе. — Нямжав вытерла слезы. Дондов обнял ее еще крепче. — Я тоже очень тосковал по тебе. Они некоторое время стояли молча, не двигаясь, рассматривая друг друга. — А как твоя нога? Совсем поправилась? Дондов улыбнулся: — Прекрасно. Лучше не надо! Но Нямжав видела, что Дондов был очень бледен. Чувствовалось, что он сильно устал. Нямжав забеспокоилась. — Садись. Я сейчас приготовлю еду. «А есть-то ведь нечего», — с ужасом подумала Нямжав. Дондов между тем снял шинель, и она увидела у него на гимнастерке орден и медаль. «Норжма правильно сказала: «Вернется весь в орденах», — улыбнулась Нямжав. Дондов присел на стул поближе к печке. Он продрог с дороги и хотел согреться. Нямжав разожгла огонь, поставила кипятить чайник. — Сиди и грейся, я сейчас, — сказала она и вышла из юрты. Солнце уже почти совсем зашло, не было никакого смысла добираться до центра — все магазины уже закрыты. Нямжав не знала, что делать. На счастье, из стоящей невдалеке юрты вышла ее бывшая наставница — Ханда. Они были соседями. Нямжав подбежала к ней. — Бакша, я хочу попросить у вас в долг немного мяса. Ко мне приехал... Ханда поняла все с полуслова. — Значит, приехал все-таки твой жених? Нямжав кивнула. — Хотела съездить в город, да уже поздно — все закрыто. — Не беспокойся, дочка. — Ханда направилась в дальний угол двора к небольшому амбарчику, открыла его и вытащила целую баранью ногу. — Я сварю ее целиком, — сказала Нямжав, принимая мясо. Нямжав побежала к себе, а Ханда, глядя ей вслед, подумала: «Ну, наконец-то у нее все образуется. Намаялась, бедняжка». Войдя в юрту, Нямжав как можно беззаботнее сказала Дондову: — Я только недавно с работы. За молоком не успела сходить. Так что не обессудь — будешь пить чай без молока. Дондов укоризненно посмотрел на нее. — О чем ты говоришь! Прошу тебя, только не волнуйся. Ничто не имеет значения, кроме того, что мы вместе. Нямжав подала Дондову пиалу с чаем и поставила варить мясо. Дондов пил чай, не отрывая глаз от Нямжав. Выпил одну пиалу, другую. Он согрелся, капельки пота выступили у него на лбу. Нямжав вытерла их своим платком. — Видишь, как действует на меня чай из твоих рук. Я весь горю. Я так спешил к тебе. Как только выписался из госпиталя, сразу сюда поехал. — Так ты теперь... — Нямжав не стала продолжать, не зная, как поделикатнее спросить его о самом заветном. Но Дондов словно прочитал ее мысли. — Да, я полностью демобилизовался и теперь от тебя никуда не уеду. Нямжав засияла от радости: — А я тебя никуда и не пущу.* * *
«Дождусь я сегодня Дондова или нет?» — подумала Нямжав, все еще стоя у распахнутого окна, наслаждаясь свежим воздухом и любуясь переливами огней праздничного города. Она все время вслушивалась: не раздастся ли знакомый гудок. Нямжав научилась безошибочно узнавать его даже среди многоголосого хора сигналов грузовых и легковых автомашин столицы. Осенью 1945 года после демобилизации Дондов окончил курсы шоферов и с тех пор водил свой грузовик во все концы страны. Нямжав часто приходилось ждать возвращения супруга из дальнего рейса, не спать ночами, прислушиваясь, не загудит ли его грузовик под окнами, или неожиданно просыпаться от этого гудка. Ведь прошло почти тридцать лет с тех пор, как они с Дондовом поженились. Кажется, все это было совсем недавно. Годы пробежали незаметно. У них родилась дочь. На работе пришли почет и уважение: за доблестный труд их неоднократно премировали, награждали грамотами, объявляли благодарности. Потом они получили вот эту квартиру в новом доме со всеми удобствами. И всеблагодаря фабрике, которая стала для Нямжав родным домом. Ведь только благодаря ей, благодаря работе на государственном предприятии она нашла счастье в жизни! Сейчас Нямжав почти пятьдесят, она частенько задумывается над будущим своей дочери: «Ей уже двадцать лет. Недалек тот день, когда она найдет себе мужа по душе, и мы с отцом будем нянчить внука или внучку. Товарищи по работе, начальство — все довольны ею, все говорят, что она молодец, что работа у нее спорится. И смекалка, говорят, тоже есть. Только что успешно сдала вступительные экзамены в институт. Может быть, даже ее пошлют учиться за границу. Мы с тоски умрем тогда. Я-то еще ничего, а вот отец, тому будет тяжко: с ума сойдет без дочки. Но мы должны думать прежде всего о ее счастье. Мы рабочие люди, мы и не такое пережили. Сейчас-то все хорошо. Наши дети приходят нам на смену. На фабрике дня не проходит без изменений: новая техника, новые машины. Мы иногда, естественно, не поспеваем за всем новым, что внедряется в производство. И потому, конечно, рады видеть, как растут умелые, знающие рабочие. Да, жизнь человеческая — очень интересная штука. У каждого — своя судьба, свой характер». «Вот сегодня, например, — продолжала рассуждать про себя Нямжав, — у меня большой праздник — орденом меня наградили. Пришли все, с кем я работала многие годы. Только двоих не было. Ханда, будь она жива, конечно, порадовалась бы вместе со мною. Она ведь учила меня работать. Вышла на пенсию, а все равно продолжала работать, умерла на своем рабочем посту... Не было и Мешалки Доржа. Правда, сегодня его никто даже не вспомнил, вроде бы его вообще не существовало. Да и кому охота вспоминать этого спекулянта? Многих он надул, обманул, обвел вокруг пальца. Но справедливость все-таки восторжествовала. После войны его судили за расхищение государственной собственности. С тех пор о нем ни слуху ни духу. Жив ли? Умер? Никто не знает. А вот мастер Очир стал большим человеком. Норжма говорила, что он руководит крупным предприятием в Дархане. А ко мне на праздник взял и приехал. Большая умница! И с Норжмой все в порядке. Почти в одно время со мной вышла замуж за чемпиона своего бага по борьбе — продолжает работать и процветает. Родила кучу детей. Старший в прошлом году после института пришел к нам на фабрику инженером. А муж у Норжмы хотя и «слон»[93], но милейший человек, ни дать ни взять — настоящий бурхан. Что же, моя подруга вполне заслужила свое счастье. Люди с гордостью говорят о нашем с ней благополучии». Затем мысли Нямжав вернулись к родным: «Тесть еще крепкий старик, хотя ему уже за восемьдесят. Несколько лет, как вышел на пенсию, жил у нас, а в прошлом году, подлечившись и окрепнув, снова уехал в худон. Говорил, врачи посоветовали. Да разве дело только во врачах? Сам он без дела не привык сидеть: вернулся в родные места и сразу работу нашел. Когда жил у нас, только и разговору было, что о делах в родном сельскохозяйственном объединении, о положении со скотом. Очень он беспокоился из-за плохой погоды, волновался, что это отразится на поголовье. А вот свекровь рано умерла. Бедняжка, она любила меня, как родная мать. Приемные родители живы, но немного одряхлели. Тем не менее работают, пасут общественный скот и, кажется, неплохо живут. Ну а Творожный Нос, несостоявшийся жених, круто в гору пошел, стал опытным коневодом, из года в год выращивает государству хороших скакунов, в прошлом году получил звание Героя Труда. Да, по-разному складывается жизнь у людей...» Мысли Нямжав прервал долгожданный гудок. Она выглянула в окно, у подъезда остановился грузовик. Приехал! Нямжав поспешила в кухню, включила электроплиту, стала разогревать ужин. А сердце ее билось, как когда-то в молодости, когда она ожидала возвращения мужа после первого дальнего рейса. Вот уже слышатся шаги по лестнице. Нямжав открыла входную дверь и увидела его в обнимку с дочерью. — Мама! Папа приехал, — звонким голосом объявила Хандма. Еще с детства она привыкла встречать отца. Нямжав стояла у двери, широко улыбаясь. Дондов переступил порог и крепко обнял ее. — Приветствую и поздравляю тебя, дорогая, с высокой наградой! — торжественно произнес он. Нямжав весь день ждала этих слов и дождалась наконец-то. Втроем они прошли в столовую. Хандма усадила родителей за стол, налила им горячего чаю, а сама, пока они пили чай, быстро собрала праздничный ужин и наполнила три рюмки вином. — Экзамены все сдала, дочь? — поинтересовался Дондов. — Все. И все на «отлично»! — похвалилась Хандма. Дондов поднял рюмку: — В эту праздничную ночь у нас дома двойной праздник: годовщина революции и награждение матери. За твои дальнейшие успехи, любимая! За счастье дочери, за то, чтобы она получила высшее образование! Дондов чокнулся с женой и дочерью. Они выпили до дна. А с улицы неслась веселая музыка, как будто кто-то специально хотел сделать еще более торжественным и радостным праздник этой дружной семьи. Огромный город продолжал веселиться. Праздник и не думал затихать на его улицах и площадях.Бохийн Бааст
Бохийн Бааст родился в 1921 году в Баян-Улэгэйском аймаке. Сын кочевника-скотовода, будущий писатель в детстве был пастухом, рос в тесном общении с природой, в играх и дружбе с молодняком «пяти сокровищ» — пяти видов скота, который разводится в Монголии. Б. Бааст окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. Детские и юношеские впечатления способствовали становлению и росту писателя-анималиста, создавшего множество повестей и рассказов, сказок и легенд, героями которых стали ласковые, кроткие ягнята и козлята, тонконогие детеныши верблюдов, коров и лошадей. Есть у Б. Бааста произведения на исторические сюжеты, не проходит он мимо и острых проблем современности. Наибольшую известность среди монгольских читателей получили повести «Пять девушек с фермы Хадатын» (в соавторстве с писательницей-драматургом Э. Оюун), «Юные годы», «Дарьсурэн», «Хурлэ», «Лебединая песня», «Осенние мелодии», «Алтайскими тропами», «Бор из Хангая», рассказ «Мятав и Готов». Лучшие произведения писателя собраны в книге «Серый конь Алтая». Вошла в нее и повесть «Волчатник Дорж» (1972; русский перевод — 1975) — художественное повествование из вступления и десяти эпизодов о взаимоотношениях человека и природы. С малых лет Дорж, юноша-зверолов из глубокого худона, воспитывает в себе выдержку, закаляет характер, набирается мудрости, опыта. В основном он охотится на волков, которые долгое время были сущим бичом монгольского животноводства, однако охотник не истребляет их бездумно. В повести подняты актуальные для Монголии экологические проблемы. Время действия в художественных произведениях Б. Бааста чаще всего обозначено крупными историческими вехами. Немногословно, но точно выбранными штрихами писатель подчеркивает связь и прочное единство каждой человеческой судьбы в своей стране с судьбой советского народа. Так, в трудный 1942 год, когда Советская страна напрягала все силы для борьбы с фашистскими захватчиками, охотник Дорж и его близкие отдавали свои трудовые заработки в фонд победы Красной Армии. Старый чабан Улэмж (рассказ «Степные рябчики»), вспоминая бои у реки Халхин-Гол, рассказывает о той решающей роли, которую сыграла в судьбе его воинского подразделения и в его личной судьбе своевременная помощь частей Красной Армии, нанесшей сокрушительный удар самураям. Г. ЯрославцевВОЛЧАТНИК ДОРЖ
...Если бы человек умел читать по следам, испещрившим окрестные холмы, луга и степи, перед ним открылась бы безымянная повесть жизни дикого животного...— Почему воспоминания о молодости с годами становятся все яснее и отчетливее? Видно, недаром говорят: учишься в молодости, а сознаешь в старости. Так начал свой рассказ старый охотник Дорж. — Многое я повидал на своем веку, — продолжал он. — Охотник всегда должен быть начеку: не только он выслеживает зверя, но и зверь — его. Не раз выручали меня крепкие ноги да зоркий глаз, хотя ум и смекалка в нашем деле тоже не второстепенные качества. Сколько мне приходилось видеть, как бьется птица, попавшая в силки! Так и я сейчас — словно потерял крылья. А был вынослив и силен, как молодой олень. Теперь же больше похож на сурка, сомлевшего от дымокура. Однако на прожитую жизнь обижаться мне грех. И по горам бродил, и в дальние дали хаживал. И на какого только зверя не охотился! Замечали ли вы когда-нибудь, как весной пробуждается жизнь на южных склонах сопок? Снег тает и ручьями стекает вниз, словно пот с лица усердного работника. Много лет наблюдал я, как возникают и исчезают ручьи, как просыхает земля, как рождается новая трава. Каждый ли замечает это? Едва ли. Человеку свойственно обращать внимание на необычное, из ряда вон выходящее. А знаете ли вы, кто раньше оживает на разогретых весенним солнцем сопках? Не знаете? Тогда я скажу: синие паучки. Как только пригреет солнышко, они тотчас же выползают из своих укрытий. Может, и вам приходилось видеть ровные и гладкие, как стволы орудий, отверстия в земле или в муравейниках, проделанные синими пауками. В теплое время года пауки враждуют с муравьями, но едва наступят заморозки, они находят убежище в жилище муравьев... Словом, животный мир чрезвычайно интересен и разнообразен... После пауков просыпаются муравьи, затем — бабочки. И наконец, в один прекрасный день вы слышите гудение пчел и шмелей. Чудесно пробуждение природы весной. На какой-нибудь пяди земли начинает копошиться столько знакомых и незнакомых, видимых и невидимых, ядовитых и безвредных насекомых, различных личинок и паучков, что только диву даешься. А если бы человек мог разобраться в том бесчисленном количестве следов, которые оставляют животные зимой на снегу, сколько интересного и поучительного узнал бы он об их жизни! В молодости меня звали просто Волком или Рябым Чертом. Рябой — это понятно, таким я сделался после болезни. А вот Чертом зовут немногих, и в этом может быть заключен или хороший, или дурной смысл. Мне дали это прозвище с добрым умыслом — я уверен. Случилось это после того, как я проявил в одном деле чертовскую изобретательность. Хотите услышать, каким образом это произошло? Пожалуйста! Когда я был еще маленьким, неподалеку от нас жил богач Адьябазар. Ехал он однажды по лесу, и вдруг по глазу его сильно стегнула ветка. Вскоре на глазу появилось бельмо. Знахари и монахи-лекари тщетно пытались вылечить Адьябазара. Чем только его не пользовали! И все без толку! Осталось последнее средство: голыми руками поймать живого ворона и его слезы закапать в больной глаз. Адьябазар пообещал большую награду за поимку ворона: любого скакуна из своих табунов, да еще в придачу корову с теленком, кобылу с жеребенком, верблюдицу с верблюжонком, овцу с ягненком. Изловить птицу оказалось совсем не просто. Поди возьми ее голыми руками! Но уж больно награда хороша! И вот я после долгих раздумий выбрал открытое место, расчистил его и стал приманивать ворона на мясо. Сам прятался поблизости. Караулить надо было по утрам — проголодавшись за ночь, птица скорее бросается на приманку. Устроился в засаде и стал ждать. Сперва на мясо бросились сороки — они глупее воронов и не так осторожны. Наконец и вороны не устояли. И вот один из них в моих руках. Посадил я птицу в клетку, вскочил на коня и погнал его галопом. Адьябазар неслыханно обрадовался. Ворона раздразнили, и из глаз его потекли слезы. От судьбы ли, от внушения или от слез ворона, но только бельмо с глаза богача исчезло. Правда, впоследствии глаз этот совсем ослеп, но несколько лет он служил нормально. Я же за свое искусство получил коня — больше мне ничего и не надо было, ведь для охотника скакун — самое первое дело. С того времени люди и прозвали меня Чертом. Я продолжал успешно охотиться и на зверя, и на птицу, и был, пожалуй, самым ловким и- удачливым среди своих сверстников. Сказав это, старый Дорж умолк. Я попросил его рассказать еще что-нибудь. — Я запишу ваши рассказы, и они останутся для ваших детей и внуков, которые будут еще больше вами гордиться, — сказал я. Старик подумал и согласился. Он оказался правдивым и скромным рассказчиком. Так что к его рассказам мне, собственно, нечего и добавлять. Любые прикрасы только испортили бы их.Э. Сетон-Томпсон
Рассказ первый
...Было это давно, до победы Народной революции. Старушка Должин отпустила своего семилетнего приемного сынишку Доржа с соседом, стариком Ульдзием, к дальним родственникам, они поехали за мясом на зиму. Жили эти родственники довольно далеко, к югу от горы Хасар-Хайрхан. Ульдзий запряг в телегу двух волов, и они уехали, пообещав вернуться через два дня. Для Доржа эта поездка обещала быть очень интересной — впервые его отпускали из дому так далеко. У мальчика не было ни отца, ни матери. Как он их лишился — рассказ особый. Итак, воспитывала мальчика старая Должин. Она и Ульдзий пасли скот у богатея Бавая. В молодости Должин была замужем, но своих детей у нее не было. И уже на склоне лет она усыновила годовалого мальчика и теперь старалась вырастить его достойным человеком. Впервые отпустив Доржа из дому, она провела два беспокойных дня. Грустно было ей не видеть перед собой горячие смуглые щечки мальчика, его карие глазки, не слышать его звонкого голоса. Но когда старик сосед и мальчик не вернулись и на третьи сутки, ее охватила тревога. Небо давно уже хмурилось, того и гляди, снег пойдет. Как бы не замерз ее ненаглядный Дорж. Или, может, Ульдзий захворал? Он последнее время частенько жаловался на нездоровье. Или с волами что приключилось? Бавай, с которым она поделилась своими опасениями, посоветовал ей потерпеть до вечера, а потом обещал послать людей на поиски. — Всякое могло случиться, — сказал он грубовато, — ведь поехали-то один несмышленыш, а второй — выживший из ума старик... Ну и корила же себя Должин, что отпустила мальчика в дальнюю дорогу! «Старая я дура, — говорила она себе. — Не устояла перед уговорами: дескать, и дэл у него теплый, и шапка новехонькая, и бойтоги на ногах крепкие. Правда, мальчику шел уже восьмой год, а детей принято лелеять и опекать лишь до семи. Ведь дети должны расти и мужать! Да и родители их не вечны, значит, с семилетнего возраста ребенка полагается приучать к самостоятельности. Может, и впрямь не стоит так волноваться!» — успокаивала себя Должин. Блеклый день тянулся нескончаемо долго. Наступили сумерки. Старая Должин оседлала своего смирного саврасого коня и решила отправиться на поиски пропавших. Только тогда, устыдившись, Бавай поехал сам, взяв с собой еще одного батрака. На небе уже звезды высыпали, когда они двинулись в путь. И тут началось! Все собаки, что были в аиле, вдруг сломя голову ринулись на юго-запад. Вскоре псы сцепились с волками. Бешеный волчий вой служил тому подтверждением. В загонах тревожно заблеяли овцы, заревели было и коровы, всполошились кони. Все, кто был дома и кто мог ездить верхом, похватали дубинки и помчались к месту схватки. Волки, увидев людей, попытались улизнуть, но собаки, ободренные подоспевшей помощью, двух хищников разорвали, а за третьим, бросившимся наутек, пустились вдогонку. Еще один невиданно крупный зверь сцепился с лучшей собакой Бавая. Спрыгнув с коня, Бавай с силой вонзил нож под мышку зверю. Однако и теперь пес не хотел разжать челюсти — пришлось съездить за водой и отливать его от мертвого волка. Волку, пустившемуся наутек, удалось оторваться от погони, оставив в собачьих пастях клочья шерсти. Собаки скулили от бессильной злобы, время от времени заливались коротким лаем и хватали зубами снег. Упряжка с волами так и стояла в стороне до конца битвы. Старый Ульдзий и Дорж едва верили в свое счастливое спасение. ...А дело было так. Они спокойно возвращались домой, но вдруг позади упряжки появился волк. Стояла поздняя осень — начало голодной волчьей поры. Заметив зверя, Ульдзий смолчал — не хотел зря пугать мальчонку. Волк преследовал их долго, а на пути, как назло, не попадалось ни юрты, ни путника. В сумерках зверь осмелел и приблизился к телеге почти вплотную: как известно, волы — скучный и медленный транспорт. Сколько ни погоняй, шагу не прибавят! Старик не на шутку испугался, особенно после того, как на закате к первому волку присоединилось еще трое собратьев. В таких случаях звери наглеют и ничего уже не боятся. К тому же волк сразу чует, есть у человека ружье или нет. Дорж заметил волков и спросил: — Что это они от нас не отстают? — Учуяли мясо, которое мы везем. — Дед, а дед, волки нас не съедят? — Обойдется, верно. — Почему вы сказали: «обойдется»? — Ладно, малыш, они нас не тронут. — Дедушка, а почему вы ружье не взяли? — Оплошал, сынок. — И собаки у нас нет! — Что делать... В сгущавшихся сумерках волчья стая продолжала расти. Звери совсем обнаглели и шли теперь за повозкой всего в трех-пяти метрах. Чувствуя опасность, волы прибавили ходу, роняя с морд белую пену. Дорж прищелкивал бичом. Волки теперь уже как бы конвоировали повозку с двух сторон, а иногда норовили нырнуть под нее. При особенно резком свисте бича шерсть у них на загривках топорщилась. Оскалившись, звери угрожающе рычали. — Нас двое мужчин, нечего бояться. Если волки увидят, что мы их боимся, вот тогда нам несдобровать. Зверя один наш облик уже устрашать должен, — сказал Ульдзий мальчику, совсем как взрослому. Время от времени волки сбивались в кучу, словно о чем-то совещались между собой, а затем снова направлялись к повозке, того и гляди, бросятся на волов. Дело принимало серьезный оборот. Ульдзий разорвал свой старый пояс на две длинные полосы, поджег концы и свесил их с воза. Тлеющий огонь заставил волков отступить. Дорж, в страхе жавшийся к старику, спросил: — Что, дедушка, мы уже скоро приедем домой? — Да, да. Ты знай себе пощелкивай бичом да голос волам подавай. Но вот ветер переменился, и волки бросились волам наперерез. Вне себя от ужаса Дорж кинулся старику на шею. — Садись-ка, сынок, ко мне на колени. И не бойся. Вот перевалим через холм, а там и наши юрты. Но двигаться вперед становилось все труднее: волки уже готовы были вцепиться в первого вола. Ульдзий из сил выбивался, отгоняя зверей палкой с тлеющей тряпицей на конце. Поначалу еще волки побаивались, но мало-помалу осмелели и стали кидаться уже и на второго вола. Два волка вскочили на задок повозки. И как раз в этот момент подоспели собаки. Но история на этом не кончилась. Дорж с перепугу сильно захворал. В бреду ему мерещились волки. Он вскакивал с диким криком, доставляя уйму хлопот Должин. С тех пор мальчик не только вздрагивал при одном упоминании о волках, но стал бояться даже мышей и сусликов. Только после того, как ему исполнилось десять лет, он несколько осмелел и отваживался отлучаться из юрты.
Рассказ второй
Дорж испытывал необоримый страх перед волками. Ствол ружья и тот казался ему волчьей пастью. Увидит собаку, а ему кажется, что это волк. Но вот однажды, находясь в гостях, мальчик стал свидетелем того, как кто-то из гостей, балуясь хозяйским ружьем, нечаянно спустил курок и пуля, пробив стену, наповал сразила подвернувшегося некстати козла. Ружье — грозное оружие, подумал тогда Дорж. Вместе с Должин они по-прежнему жили при аиле богача Бавая. С десяти лет Дорж начал объезжать двухлетних жеребят. Жеребенка в яблоках он обучил иноходи. Бавай несказанно обрадовался и, в надежде получить хорошего табунщика, расщедрился и подарил мальчику жеребую кобылу. Старая Должин и ее приемный сын не знали, как отблагодарить хозяина. Оставалось одно — работать на него как можно больше. Так они и делали. Следующей весной кобыла принесла жеребенка, да не обычной масти, а в яблоках, точно такого, как был тот конь, которого Дорж обучил иноходи. Узнав об этом, Бавай даже расстроился, что отдал кобылу. — Когда моему коню исполнится два года, я и его обучу всему, — сказал Дорж своей названой матери. — Нам иноходец, сынок, ни к чему, — возразила Должин. — Можно подумать, у нас табун лошадей. Нет, сынок, нам лучше иметь смирного конягу для разъездов. Дорж возражать не стал. С появлением жеребенка им с Должин стало жить веселее. И разговор у них пошел другой: не только о бессменном саврасе, паре коров да о двух псах шла теперь речь — новые слова не сходили с уст: гнедая кобылица, жеребенок в яблоках, кобыла с жеребенком. Наступила осень. Араты, как обычно, старались по приметам лета и особенно по травостою угадать, какой будет зима. По всему выходило, что зима будет снежная и лютая. Богач Бавай решил отправить табуны на далекие отгонные пастбища. Дальний отгон — дело хитрое. Бавай из кожи лез, чтобы подобрать человека, который смотрел бы за табунами, как за собственными. Бавай отвалил табунщикам хорошую мзду и посулил дать еще больше по завершении работ. И Должин с Доржем долго думали, как уберечь им двух своих лошадей. Известно, что когда сороки находят иглу, они и ее не знают куда спрятать. Оставить лошадей дома или отправить в отгон с табунами Бавая? После долгих размышлений решились на последнее. Так и поступили. Наступила зима. Первая половина ее отличалась частыми снегопадами, а затем начались настоящие бураны. Однажды поднялся такой сильный буран, что в двух шагах ничего нельзя было различить. Непогода продолжалась долго, и люди уже потеряли счет дням. Начался падеж скота. Особенно трудно пришлось тем нерадивым хозяевам, которые поленились заготовить корм с осени. Сейчас они расплачивались за беспечность. Снежный буран, крепкий мороз и бескормица оказались суровыми судьями, разделившими скотоводов на хороших и плохих. Едва буран стих, Бавай, обеспокоенный судьбой табунов, снарядил туда людей. Дорж не усидел дома и поехал вместе с ними посмотреть на своего жеребенка. Вести, поступившие с дальних пастбищ, оказались страшными: кони ушли — табунщики не смогли их удержать. Много скота пало от бескормицы и погибло в схватке с волками. Недаром говорят, в бескормицу сыты волки да собаки. Так оно и было. Погиб и единственный жеребенок Доржа, на которого мальчик возлагал столько надежд. Мало того, в поисках лошадей он лишился и своего саврасого. Домой вернулся на коне из остатков табуна Бавая. Должин и Дорж очень горевали. — Волк сожрал наше лучшее достояние, теперь он и до нас доберется, — причитала старая женщина. — Волки мне не хозяева, — вспылил Дорж. — Я с ними рассчитаюсь.Рассказ третий
Когда Доржу исполнилось тринадцать лет, он превратился в крепкого, выносливого подростка. Старая Должин уже спокойно отпускала его от себя. Но если сын с каждым днем наливался силой, словно тетива лука, то мать, наоборот, слабела. «Что будет с моим мальчиком, когда меня не станет?» — частенько думала она. Умирать не хотелось: жизнь заметно менялась к лучшему. Араты стали объединяться в коллективные хозяйства, беднякам оказывали всяческую помощь. В эту зиму волки снова зарезали одного хорошего скакуна из табуна Бавая. Волк не станет ведь жить в местах, где скудно с едой. Он всегда там, где есть скот. И чем меньше еды, тем больше наглеют волки. Этой зимой они часто резали скот и едва не вплотную подходили к человеческому жилью. Дорж отправился к охотникам и расспросил их, как охотятся на волка. Увидев останки растерзанной лошади Бавая, один старый охотник сказал, что волк обязательно вернется к этому месту. По словам охотника получалось, что волк очень умный и чрезвычайно осторожный зверь. — Он подкрадывается к добыче незаметно. Насытившись, укрывается в безопасном месте, и преследовать его трудно, — говорил он. — Поэтому в такой мороз тебе, Дорж, в твоей плохонькой одежонке да со стареньким ружьем без мушки лучше за это дело не браться. Можешь коня лишиться, а то и головы. — Коли зверь вернется на старое место, он от меня не уйдет. Верно, ружье у меня без мушки, зато глаз зоркий, — отвечал Дорж. Охотник, вняв уговорам Доржа, зарядил мальчику ружье и привел его к старому вязу. — В этих ветвях спрячешься. Учти, паренек, в темноте волк видит лучше человека, а слышит и подавно. Смотри в оба. И не бойся — когда есть еда, волк на человека не бросается. Учти, он появится в сумерках. Сперва осмотрится, не грозит ли что. Затем побродит вокруг да около, обнюхает все тропки, проверит, нет ли капканов, петель, силков. И лишь потом кинется на приманку. Вот до этого момента надо сидеть, не шелохнувшись. Вытерпишь — держать тебе за уши убитого волка. Глядишь, и впрямь станешь добрым охотником. Охотиться на волка дано не всякому. Для этого особый талант нужен. Старый охотник ушел. Дорж остался один со своим старым кремневым ружьем без мушки. В засаде он укрылся задолго до захода солнца. Дорж хорошо знал, что матерый волк, выследив добычу, является засветло и украдкой наблюдает за ней, спрятавшись вблизи. В дереве было огромное дупло. Дорж забрался в него и притаился. Если зверь еще не стреляный, он кинется на падаль сразу после наступления темноты. Иногда охотник приходит уже слишком поздно, а иногда он не может обнаружить присутствия зверя, и потом рассказывает, что волк так и не приходил, а на самом деле он находился с ним почти рядом. Сидя в дупле, Дорж внимательно наблюдал. Ветер дул в его сторону, значит, волк не мог учуять человека. Солнце село. С гор потянуло обжигающим холодом. Все вокруг постепенно окрасилось в серый цвет, снег отливал синевой. Настало время проверить слова старого охотника о том, что волк появится, когда его будет трудно различить на снегу. Глаза Доржа привыкли к сумеркам. Особенно тщательно он наблюдал за маленьким холмиком неподалеку. «Скоро так стемнеет, что в двух шагах ничего не увидишь», — подумал Дорж и в этот миг увидел зверя. Он вздрогнул. Что это? Неужто он испугался волка, как тогда, когда ему было семь лет? Зверь остановился и внимательно посмотрел в сторону охотника. Дорж затаил дыхание. Волк постоял еще и не спеша направился к останкам лошади. Несколько раз он обошел вокруг. Насмехался ли он над хозяином бедной лошади, обратив острую морду в сторону его аила и жадно нюхая воздух? Или просто радовался, что у него вдоволь еды? Но вот он совершил прыжок над своей замерзшей добычей, как бы завершающий своеобразный ритуал, и бросился терзать ее. Забыв обо всем на свете, Дорж стал целиться. Целился тщательно — из кремневки можно сделать только один выстрел. Попадешь в цель — повезло, нет — пеняй на себя. И вот удача — из-за холма появилась лисица. Волк замер, загородив ей дорогу, и в этот момент охотник спустил курок. Грянул выстрел. Раздался яростный волчий вопль. Поднялась туча снега. Дорж перезарядил ружье. Но волка уже не было видно. Куда он делся? Небось затаился и ждет появления охотника, чтобы броситься на него. Дорж осторожно вылез из дупла и побежал домой. Добрался он до дома ночью. Лицо и волосы были покрыты инеем. Должин в испуге отшатнулась. — Что с тобой, сынок? — Ничего, мама, все в порядке. — За тобой волки гнались? — Нет, что ты! — Чего ж ты так бежал, что отдышаться не можешь? Кто тебя напугал? — Спешил домой, в темноте боязно. И устал я. — А ты выпей горячего чаю, он уже готов, да спать ложись. — Хорошо, мама. Пока Должин и Дорж ужинали, пришел Бавай. — Ну как, Дорж, с добычей тебя или как? — Да нет, какая там добыча, — ответил Дорж. — А все-таки как было дело? — В волка я выстрелил. Приклад больно ударил мне в плечо, и от выстрела я едва не оглох. — Попал в волка-то? — Не знаю, волк поднял такую тучу снега, что ничего нельзя было увидеть. — Слушай, если ты его убил, я ничего для тебя не пожалею и вместо кремневки куплю тебе хорошее ружье. Убить волка — это не только отомстить за жеребят и коней, но предотвратить и новую беду, — сказал Бавай. Вместе с соседом Дорж утром съездил к месту засады и вернулся домой со шкурой здоровенного волка. Говорили, что выстрел был удивительно меткий. Доржа хвалили, ему сулили громкую охотничью славу.Рассказ четвертый
Когда Доржу исполнилось семнадцать лет, у них в аиле произошли большие изменения. Умер старый Ульдзий. Мать Доржа — Должин совсем стара стала, даже доить коров уже не могла. Словом, смотреть за скотом Бавая было некому. Как раз в это время в их краях создавалось аратское товарищество «Хатны-Гол», в котором объединялись бедняки. Что касается Должин и Доржа, то в товарищество они пока не вступали. Однажды к ним заехала девушка. Звали ее Дуламханд. Недавно она была избрана секретарем сомонной ячейки ревсомола. Дорж был едва знаком с ней, зато мать девушки была приятельницей Должин. Девушка приехала, чтобы познакомиться с молодежью. Должин первым делом принялась расспрашивать ее об аратском товариществе. Старушка и сама с удовольствием вступила бы в этот кооператив, да какая от нее польза людям? Вот если бы Дорж вступил, она могла бы спокойно умереть, зная, что он не останется один. Дуламханд принялась уговаривать Должин вступить в товарищество — ведь ее опыт может принести пользу молодым. Должин заметно ободрилась. Съездив в соседние аилы, Дуламханд вернулась поздно вечером. Устроившись на ночлег рядом с постелью Должин, девушка еще долго разговаривала со старой женщиной. Дорж в их разговор не вмешивался, но к нему прислушивался. Если девушка рассказывала что-то смешное, он тоже смеялся, украдкой поглядывая, как колышется от смеха ее высокая грудь, обтянутая тонкой рубашкой. Она тоже время от времени посматривала на Доржа, но он от смущения тотчас же натягивал на лицо одеяло. Про себя Дорж думал: почему она выбрала для постоя именно их бедную юрту? Ведь есть и побогаче. Вдруг девушка сказала, что Доржу пора вступать в ревсомол. — Не оставаться же ему всю жизнь охотником-одиночкой, правда, бабушка? — сказала она, и эти слова Доржу не понравились. — И что ты все молчишь, Дорж? Или тебя совсем не интересует, что происходит в мире? Ты спрашивай, я тебе отвечу. А о том, чего не знаю, почитаю или других расспрошу. И хотя Дорж ей на это опять ничего не ответил, она на него не обиделась. Ему даже показалось, что она взглянула на него ласково. — Чего же ты молчишь, Дорж? — вмешалась старая Должин. — Все бы тебе спать... Человек с ним разговаривает, а он... Дорж сделал вид, что спит. — Ладно, бабушка, давайте спать, все равно, как говорится, пока из Доржа слово вытянешь, быки далеко уйдут. — И она задула свечу. Бавай сдержал наконец свое слово и подарил Доржу берданку. «Старайся, паренек, и у тебя когда-нибудь будет ружье еще и получше этого», — сказал он. Однажды Дорж на волчьей тропе поставил капкан, но сперва в него попался не зверь, а лошадь. Случилось это так: оставив стреноженного коня, Дорж стал разыскивать капкан, который куда-то исчез. Вернулся, а коня нет. Вскоре Дорж обнаружил его лежащим на земле. — Но-но, вставай! — стал он поднимать коня. А тот ни с места. Тут звякнуло железо, и Дорж увидел, что задняя левая нога коня зажата капканом. Он быстро высвободил лошадь. «Хорошо, все это произошло без свидетелей, — подумал он. — Ну и охотничек, сказали бы, собственную лошадь в капкан поймал!» После этой неудачи он снова зарядил капкан и оставил его на тропе. Когда он пришел через два дня, радости его не было предела: попались сразу два волка, большой и поменьше. Два волка в одном капкане — это все равно что двух зайцев убить одним выстрелом. Волки почуяли человека, и Дорж понял, что прятаться теперь нечего. Он вскинул ружье, и тут крупный волк бросился прочь, а маленький протяжно взвыл. Дорж оторопел, не сразу поняв, что большой зверь вовсе и не попал в капкан. Туда угодил только маленький, а большой просто пришел к нему на выручку и стоял всего лишь рядом с капканом. И тут произошло совсем неожиданное. Услышав вой младшего собрата, словно призывавшего спасти его или погибнуть вместе, большой волк стремительно вернулся назад и кинулся к меньшему, а через мгновение уже мчался прочь. Дорж послал ему вдогонку пулю. По тому, как зверь захромал, охотник понял, что перебил ему переднюю лапу. Дорж подошел к капкану. Вот оно что! Оказывается, матерый волк оказал молодому «последнюю услугу» — перегрыз ему горло! «Волк и есть волк», — вспомнилась Доржу пословица. Вот он, волчий закон, — не отдавать человеку живым своего собрата. Дорж решил преследовать раненого волка. Следы привели его в падь. «Я не дам ему уйти», — думал с ожесточением Дорж. Погоня длилась долго. Хищник и охотник прошли уже почти всю усеянную огромными валунами лощину. Наконец зверь выбрался из лощины и углубился в молодой лесок. Дорж шел осторожно, поди узнай, где притаился зверь. В любую минуту раненый волк может внезапно кинуться на своего преследователя. И вдруг, подняв голову, Дорж увидел волка на гребне горы. Он вскинул винтовку и выстрелил, почти не целясь. Волк исчез. Дорж вскарабкался на вершину горы. Зверя нигде не было видно. Валялась лишь откушенная волчья лапа. «Та, что я перебил выстрелом, — догадался Дорж. — Лапа мешала ему, и он ее отгрыз». Пока Дорж отыскивал пещеру, куда забрался зверь, село солнце. «Что теперь делать?» — подумал с тревогой Дорж. Возвращаться домой слишком далеко. К тому же он здорово устал. Да и голод давал себя знать. Охотник, конечно, привык подолгу обходится без еды и питья. Но в такой холод можно и ноги протянуть. Поразмыслив, Дорж все-таки решил заночевать в лесу. Выбрал местечко недалеко от входа в пещеру, в густом кустарнике. Окопавшись в снегу, он едва дождался утра. Взошло солнце, и Дорж ощутил прилив свежих сил. Если бы еще хоть немного перекусить! Увы, еды у Доржа не было. Но где же волк? Неужели в темноте улизнул из пещеры? Так оно и есть — он увидел следы на снегу, которые вели в ущелье. Охотнику мерещился хищник за каждым камнем. Наконец за одним из валунов он и впрямь обнаружил зверя. Дорж решил обойти волка и встретиться с ним лицом к лицу. Так он и сделал. Залег за большим камнем. Вот и волк. Дорж вскинул было ружье. Но не тут-то было: ружье развалилось на две части. В руках у Доржа остался только приклад. А волк уже шел на него. Дорж быстро поднял с земли ствол. Несколькими ударами ему удалось сбить волка с ног. Но и сам он рухнул на землю. Люди нашли Доржа по следам уже на закате солнца. Рядом с охотником они увидели поверженного хищника.Рассказ пятый
В 1942 году Доржу исполнилось двадцать лет. Монгольский народ всем, чем мог, старался помочь советскому народу и его героической Красной Армии разгромить фашистов. «Все, что ты можешь сделать для фронта, сделай! Выполнил норму на сто процентов, выполняй теперь ее на сто пятьдесят! Работал день, работай ночь!» — так говорили монгольские рабочие и араты. Думал о том, как помочь фронту, и Дорж. По радио постоянно сообщали, кто и как помог Красной Армии. Должин своими руками сшила теплый меховой дэл. Сперва он предназначался ее сыну. Но теперь Должин передала этот дэл бойцам Красной Армии. Старик Бавай передал в фонд победы своих лучших лошадей и много голов скота. Когда XXV сессия Малого Хурала МНР объявила сбор средств на танковую колонну «Революционная Монголия», араты встретили эту весть с большим воодушевлением. Все, что Дорж зарабатывал выпасом скота и осенней охотой на тарбаганов, он отдавал в фонд победы. Но ружья у него по-прежнему не было — он только силки да капканы ставил. Зимой 1942 года произошел такой случай. Дорж отправился с приятелем проверять капканы. У того тоже не было ружья. Поэтому, когда они увидели, что в один из капканов попался огромный волчище, оба оторопели. Посовещавшись, решили, что Дорж накинет на зверя петлю, а его напарник попытается убить зверя ударом рукоятки кнута. Между тем хищник не проявлял никаких признаков жизни. Могло быть и так: волк попал в ловушку уже давно и теперь совсем обессилел. Они подошли еще ближе. Да, в капкане был дохлый волк! Глаза остекленели, тело вытянулось. И тут вдруг «мертвый» волк взметнулся вверх и в мгновение ока скрылся в ближайшей расщелине скалы. Удрал вместе с капканом. Поэтому далеко он уйти не мог, и охотники вскоре обнаружили его в глубокой яме. Но как возьмешь зверя без ружья, голыми руками? Они условились, что Дорж попытается как-нибудь отвлечь внимание хищника, а его товарищ ударит его кнутовищем. Подошел Дорж к яме и стал руками размахивать. Вдруг край ямы обвалился, и охотник, не удержавшись, упал прямо на спину зверю. Еле-еле парни сообща одолели хищника. Вознаграждение за волка они сдали в фонд Красной Армии. После этого случая старик Бавай подарил Доржу карабин. Поражение гитлеровской армии под Сталинградом обрадовало и вдохновило монгольский народ. Еще с большим энтузиазмом принимались мы за работу. Каждый хотел одного: поскорее окончательно разбить врага. В это время товарищество «Хатны-Гол» было преобразовано в объединение. Новое состояло в том, что араты теперь не только вместе трудились, но и объединили свое основное достояние — скот. Араты поняли, что в таком коллективном хозяйстве они добьются гораздо большего, чем прежде. Следовательно, смогут и больше помочь братскому советскому народу в битве с фашизмом. Вступил в объединение и охотник Дорж. Вскоре в Монголии начался сбор средств, чтобы приобрести и передать советским летчикам эскадрилью «Монгольский арат». Дорж несказанно обрадовался этой новой возможности внести и свою лепту в разгром гитлеровской Германии. Дорж хорошо охотился, шкуры зверей сдавал в кооператив, а деньги от выручки вносил в фонд «Монгольского арата». Однажды охотник отправился на охоту и убил семь матерых волков. Так сын старой Должин стал гордостью нового объединения. Шла зима 1944 года. Она была на редкость суровая и снежная. Объединенцы справились с трудностями зимы — им удалось почти полностью избежать потерь скота. А вот хозяйства аратов-единоличников понесли большой ущерб. В числе аратов, посланных им на помощь, был и Дорж. Вместе с товарищем он отправился на поиски овец и лошадей, ушедших от одного арата. Первые два дня прошли безрезультатно, но к концу второго дня в бинокль они разглядели, как к одной пади направляется стая волков. — Идут неходко, — заметил Дорж, — видно, звери только что хорошо попировали. Даже после короткой передышки они вряд ли одолеют крутой склон, наверняка выберут пологий. Тут мы их и настигнем. — И что тогда? — спросил Доржа товарищ. Дорж улыбнулся. — Как это что? Я их перестреляю. — Но волков много, целая стая! — Их восемь. А не так давно я из карабина дядюшки Бавая уложил семерку. А теперь у меня — видишь? — новенькая дальнобойная винтовка. Подарок Центральной государственной комиссии по сбору средств для фронта. Так неужели же я из нее не убью восемь хищников? — А почему ты так уверен, что они не одолеют крутой подъем? — Очень просто. Посмотри, волки плетутся устало, с высунутыми языками, их даже покачивает. — Вот это да! — восхищенно сказал напарник Доржа. — Наверное, непросто так хорошо изучить повадки зверей? — Верно, нелегко. Но раз ты охотник, надо все знать. Вот, к примеру, следы. Они могут рассказать, что зверь делал позавчера, вчера и даже сегодня утром. Бежит ли он в страхе и давно ли. Намеревается ли остановиться и отдохнуть или побежит дальше. Следы — это учебник, и я стараюсь все время его изучать. — А ты можешь различать следы волка-самца и самки? — Нет ничего проще! — Какая же между ними разница? — Большая! Следы самца крупные и чуть овальные, а у самки они меньше и как бы расплюснутые. У лапы самки два пальца гораздо толще остальных. Гляди, вот это след самки, а это — крупного самца. Собачий след схож с волчьим, только мельче и, пожалуй, более округлый. И манера двигаться у волка и собаки разная. Собака бежит, петляя в стороны, а волк мчится по прямой. Волк старается следы свои не оставлять и предпочитает бежать не по снегу, а по земле. Как кошка прячет когти, так и волк прячет след. Товарищ Доржа поднес бинокль к глазам. — Э-э, да волки и впрямь еле-еле плетутся. — Вот и понаблюдай за ними внимательно, в охотничьем деле мелочей не бывает. И запомни еще одно — охотник должен запастись терпением. В нашем деле спешка к добру не приводит. — Солнце садится, Дорж. Положение у нас с тобой невеселое, — от аилов мы далеко ушли. Придется, видно, опять камень под голову и третью ночь в степи ночевать. Мы-то ладно, но лошадкам нашим трудновато будет... Между тем волки, взобравшись по пологому склону на плато, шли все ленивее, все медленнее и наконец разлеглись на снегу. — Что с ними? — Я же говорил тебе — это не просто сытые звери, они досыта напились горячей крови. И кровь их одурманила. Сейчас они не в силах идти дальше. — Можно безбоязненно подкрасться к ним и перестрелять? — Что ты, приятель! Волк есть волк. Видишь, семеро растянулись, а восьмой сидит? Он караулит. — Дорж повернул коня. — Поехали в объезд. Вблизи плато Дорж передал поводья своего коня товарищу. — Я впереди поползу. — И я с тобой. Хочу увидеть, как ты будешь стрелять. — Ладно, только сперва стреножим лошадей. Они оставили коней на небольшом лугу, где местами густой щетиной пробивалась сквозь снег старая трава, а сами залегли в кустарнике. — Тебе не страшно? — шепотом спросил Дорж. — Не по себе как-то, — признался товарищ. — Волка-караульного видишь? — Вижу! Будешь ближе подходить, Дорж? — Нет, отсюда стрелять буду. Сперва надо снять караульного. Сейчас я возьму его на мушку. А ты, друг, смотри не уподобься вороне, которая в случае удачи каркает во все горло. Я хочу сказать: когда волк упадет, не вздумай вскрикнуть или вскочить. — Ладно, понял. Грянул выстрел. Волк-караульный высоко подпрыгнул, но упал не на землю, а на спящего рядом собрата. Тот вскочил с явно растерянным видом. Следующая пуля охотника угодила ему в грудь. Выстрел гремел за выстрелом. Предпоследнего зверя Дорж снял, когда тот пустился наутек по плато. Однако восьмой хищник, словно решив отомстить за гибель стаи, бросился в сторону охотников. Дорж хладнокровно выстрелил, и волк, перекувырнувшись в воздухе, свалился чуть ли не у самых ног охотников. Десяти выстрелов оказалось достаточно, чтобы убить восемь хищников. Редкостная удача! Провозились до позднего вечера — снимали шкуры с восьми волков. Руки стыли на морозе, пришлось развести небольшой костер и обогреться. Вскоре на небе появилась луна и залила окрестности белесым молочным светом. Забрав богатые трофеи, Дорж и его напарник вернулись в объединение. Назавтра они нашли и потерявшееся стадо.Рассказ шестой
Зимой 1944 года умер старый Бавай. Уснул однажды и не проснулся. Весь свой скот он завещал объединению, а юрту — Доржу. Об этом старик позаботился заранее — написал завещание и передал его председателюобъединения. По-прежнему охота оставалась главным занятием и главной страстью Доржа. В основном он один выполнил весь план заготовки звериных шкур, спущенный сомону. Но самой любимой его охотой оставалась охота на волков. Не раз Дорж подумывал обзавестись охотничьей собакой. Однако жили они с престарелой матерью вдвоем. Теперь еще прибавилась жена Бавая. Старым женщинам и без собак хватало забот по дому. Поэтому Дорж особенно не спешил. А после одного случая и вовсе отказался от этой затеи. Однажды Дорж отправился на зверя вместе с приятелем из другой бригады, который неизменно охотился только с собаками. Волки в тех краях встречались часто, и, едва выехав, они вскоре обнаружили хищников. Собаки пустились вдогонку. Дорж стал отставать — он не привык скакать во всю мочь за летящими сломя голову псами. Приятель и говорит: — Собаки — надежные помощники. Езжай быстрей, и добыча будет твоей. Дорж ударил коня тащуром[94] и помчался во весь опор. В ближней балке он увидел двух собак, сцепившихся с волком. Изо всех сил Дорж ударил волка, и тот упал замертво. Дорж приторочил добычу к седлу, чтобы на досуге не спеша снять шкуру, и поскакал дальше, и снова он услышал отчаянный собачий лай. «На помощь зовут», — подумал Дорж, пришпоривая коня. Действительно, вскоре он увидел собак, загнавших нового зверя. В этот момент конь Доржа резко шарахнулся. Дорж оглянулся и с удивлением обнаружил, что волк, которого он считал мертвым, ожил и стал дергаться. Было от чего растеряться. Тут подлетел второй охотник. — Не стой на месте! — закричал он. — Гони коня! И бей волка на ходу, не давай ему опомниться! Однако найти нож и прикончить волка на полном скаку оказалось делом невыполнимым. Доржу все казалось, что он вонзит острие ножа в лошадь или себе в ногу. Тогда товарищ Доржа крикнул: — Прыгай на землю и руби тороки! Дорж соскочил на землю, с огромным трудом удержал коня. Когда охотник распустил тороки и волк скользнул вниз, конь с силой ударил его задними ногами. Однако волк и не думал подыхать. Он вскочил на ноги и как ни в чем не бывало бросился наутек. Собаки — за ним. Давно охотился Дорж на серых хищников, но о такой удивительной живучести волка и не подозревал. Еще бы! Хищника затравили собаками, оглушили смертельным ударом, а он оказался жив и здоров! Наконец Дорж подскакал к псам, догнавшим зверя. Пока Дорж примеривался, с какой стороны подойти, подоспел другой охотник. Он немедленно кинулся в свалку и прикончил волка. В тот день всех пятерых волков, которых встретили охотники, затравили собаки. Дорж убедился, что охота с собаками дело стоящее. Однако не для него. Ему она не понравилась — уж больно много суеты да беготни было, много шума! «Хороший охотник и без собаки всегда с доброй добычей будет», — говорил потом Дорж.Рассказ седьмой
В середине пятидесятых годов скончалась мать Доржа, Должин, и он остался вдвоем со старой женой Бавая. Он до сих пор не женился и тем самым давал соседям пищу для пересудов. О женитьбе Доржа я обещаю рассказать позднее, а сейчас предлагаю рассказ о том, как повезло одной волчице. Однажды Дорж со своей маленькой семьей перекочевал в такое место, где давно не появлялись люди. Он поставил юрту на опушке леса. Рядом пролегала глубокая балка, за которой начинались горы, тоже поросшие лесом. Овцы не сразу привыкают к новому пастбищу. Бывают случаи, что на новом месте скот вообще с трудом приживается и тогда нередко теряет в весе. В тот день, когда Дорж и еще несколько семей, откочевавших вместе с ним, начали обосновываться на новом месте, овечья отара, пасшаяся в западной балке, вдруг заволновалась. «Волков чуют, — подумал Дорж, — недаром, видно, араты избегают селиться в этих краях». Так и есть. Ребятишки, присматривавшие за отарой, видели, как в лес убежал какой-то зверь. Пустили в ту сторону собак, но они вернулись ни с чем. Что за странный зверь? Овец не тронул, с собаками в драку не вступил. Ночь прошла спокойно, ни одна овца не всполошилась, ни один пес не гавкнул. И все-таки почти каждый вечер из лесу появлялся волк. Пробовали травить его собаками — не получилось, как и в первый раз. Скотоводы уже шутили, что, мол, волк приходит просто проверять их овец. Вот и в этот вечер раздались крики: «Волк!» Дорж и другие араты повскакали на коней и вдогонку. Волк бежал, пригибаясь к земле, — он что-то держал в зубах. Вскоре, однако, хищник бросил свою ношу. Оказалось, это был большой кусок осиновой коры... Араты помчались на собачий лай и под большим деревом в траве увидели новорожденного волчонка. Он был еще слеп, с плотно прижатыми к голове ушами. Вообще у волчат открываются глаза и встают уши через десять — двенадцать дней. Волчица заботится о своих детенышах и кормит их до тех пор, пока они не станут самостоятельными. Это длится иногда год. Теперь Доржу стало ясно — волчица ощенилась в балке. Когда появились в этих краях люди, она стала перетаскивать щенков на новое место. Заметив погоню, решила пустить их по ложному следу — для этого и тащила кору. — Почему же она не трогает нашу отару? — спросил кто-то из молодежи. — Не хочет портить отношения. Ведь мы ее соседи! — ответил Дорж. — Нам она вреда не причинит. Сейчас уже поздно, пора возвращаться. Завтра найдем ее логово, — сказал Дорж. На другой день они действительно обнаружили старое волчье логово в балке. Но оно оказалось пустым. Очевидно, вчера волчица-мать перетаскивала последнего волчонка. — Надо было пристрелить волчицу. Догнать и убить! — зашумели молодые араты. — Теперь в округе разведутся волки! — Погодите, друзья, — умерил их пыл Дорж. — Что толку убивать малышей? Вот когда они вырастут, другое дело. — Неужто Дорж, гроза волков, жалеть их стал? — удивился кто-то. — Я их не жалею, — возразил Дорж. — Но в животноводстве волки тоже нужны. Два-три зверя даже полезны. И поохотиться скотоводу есть на кого, и падаль волк может подобрать.Рассказ восьмой
Прошло два года, как Дорж жил на новом месте. И вот что однажды произошло с ним. В конце зимы вдруг приехала к ним легковая машина с кинооператорами, в сопровождении бригадира охотничьей бригады. — Мы приехали, Дорж, — сказал он, — по очень важному делу. До сих пор тебе не приходилось в кино сниматься? Так вот, теперь операторы снимут тебя для кинофильма. Ты ведь любишь кино? Помнишь фильм «Цогт тайджи»? Об Арслан тайджи и девушке Хулан. Так вот, сейчас снимается еще один фильм об Арслан тайджи, и в этом фильме есть эпизод охоты на волка. В нем и приглашают тебя сняться. Председатель объединения согласен, чтоб тебе за время съемок насчитали трудодни. — Ну как, ты согласен? — спросили Доржа. — Раз надо — значит, надо, — согласился охотник, и подготовка к киносъемкам началась. Дело оказалось не таким простым — волков стало гораздо меньше, чем прежде. А ведь по сценарию надо было снять не только как всадник на коне преследует волка, но еще и как он ловит его живым. На съемки были приглашены две бригады охотников. Они разбились на группы. Ночью волки, словно догадавшись о предстоящей облаве, громко выли. Охотники окружили гору, где были волчьи логовища и откуда доносился их вой. Волк всегда найдет, где укрыться от облавы. Вот охотники и засели неподалеку от логовищ, перекрыв также дороги к большим валунам, где волки любят прятаться, и стали приманивать хищников, подражая блеянью козленка. Облава прошла успешно. Одного волка пришлось застрелить, а двух других охотникам удалось заарканить. Потом их выпустили на открытое место, и начались киносъемки. Дорж был снят в погоне за двумя волками. Осенью, в октябре, Доржа вдруг вызвали в центральную усадьбу объединения. Его повели в красный уголок. Погас свет, и вот на экране он увидел себя — как он подкрадывается к волкам, как гонится за ними. Все получилось очень достоверно. По окончании кинофильма все поздравляли Доржа. — Ты не только храбрый охотник, но и артист замечательный, — говорили ему люди. Когда Дорж принимал поздравления, он краешком глаза вдруг заметил знакомое женское лицо. Присмотрелся — и сердце его забилось часто-часто. Выйдя из красного уголка, он увидел, что девушка стоит возле маленького кирпичного домика... Про охотников говорят иногда так: растратил, мол, всю храбрость в погоне за зверем, а на то, чтобы жениться да детей завести, ее и не осталось. Но в словах этих только половина правды: охота, требует храбрости и решительности. «Непременно зайду к ней, — подумал Дорж. — Но только когда стемнеет». Так он и сделал. Оба очень обрадовались встрече. В юрте они не остались и на концерт, который состоялся вечером в красном уголке, тоже не пошли, а отправились на берег реки. — Верно, тетушке Должин уже много лет? — спросила девушка. По взгляду, которым ответил ей на вопрос Дорж, она все поняла: умерла старая Должин, осиротел Дорж. — А я и не слышала об этой печальной новости, ты уж извини меня, что так получилось... Когда это случилось? Дорж взял себя в руки. — Несколько лет прошло с тех пор, как мать оставила меня одного. — Бедняжка... Сдается мне, что она относилась ко мне лучше, чем ты. Но я тогда глупая была... — В молодости нам кажется, что наши родители вечны. Ведь и в голову не придет, что они умереть могут. Некоторые за всю жизнь так ни разу ничем их и не порадовали. А когда лишаются самых близких людей, тогда начинаются запоздалые раскаяния: «Ах, если бы можно было вернуть прошлое, тогда бы я совсем по-другому себя вел!» Мне до сих пор не верится, что матери уже нет в живых. Возвращаешься домой, все кажется, она ждет меня дома. Они помолчали. Наконец девушка робко спросила: — Значит, ты одинок? — Вовсе нет! Ответ Доржа обидел ее: — Вот оно что!.. — Ты не так поняла мои слова, — сказал Дорж. — Я не одинок, но одиночество мое разделяет опять очень старая женщина, ей столько же лет, сколько было бы сейчас моей матушке. — Кто же это? — Жена старого Бавая. Ты знала старика по имени Бавай? — Знала. Говорят, он умер? — Да. — Жаль. — В мире уж так устроено — жизнь, а потом смерть. — Почему же ты до сих пор не обзавелся семьей? — Не каждой женщине по душе, что я охотник. Это во-первых. А во-вторых, сейчас моих сверстниц, которые еще не замужем, почти не осталось. Да и гоняться за ними у меня нет времени. Ну, и в-третьих, я уже человек не первой молодости. Кому я нужен? — Ох, не говори так, Дорж! — Как же иначе. — Да ты подумай как следует — и поймешь. Не эти слова хотел бы он услышать. Да и она ждала другого разговора. Первой все же отважилась молодая женщина: — А что, если придет молодая женщина, знакомая тебе чуть ли не с детских лет и к тому же любимая твоей матерью, — что ты на это скажешь? — Я приму ее охотно и ни о чем не стану спрашивать. Ну, а теперь читатель, верно, догадался, кто была эта женщина. Правильно, зовут ее Дуламханд. В годы войны она уехала в город с одним шофером, но жизни у них не получилось. Но, как говорится, нет худа без добра: расставшись с мужем, она поступила в медицинский техникум. Закончила его. Ее направили работать фельдшером в родные края. Тут и произошла их встреча с Доржем.Рассказ девятый
К середине шестидесятых годов у Доржа было уже четверо детей: три мальчика и девочка. О его внезапной женитьбе в свое время ходило немало разговоров — многие завидовали их любви. Но наш рассказ не об этом. Дорж продолжал охотиться. И однажды весной с ним приключились два интересных случая. Мы уже отмечали, что в местности, где жил охотник, волки стали редко встречаться. Говорили: Дорж перебил их, и это было в какой-то степени правдой. Зато в окрестностях соседнего госхоза Цаган-Чулун развелось этих серых хищников слишком много. Их появление тоже связывали с именем Доржа, от которого они якобы бежали. В этом госхозе состоялось совещание молодых охотников. Доржа пригласили в качестве почетного гостя. Вместе с председателем объединения Дорж ехал в «газике». Перекусив по дороге в бригадном центре, путники двинулись дальше и вскоре встретили директора совхоза, проверявшего ход подготовки к весеннему севу. Директор сказал, что хотел бы взглянуть на удивительную ловкость прославленного охотника, и пригласил Доржа пересесть в его машину. Машина с председателем и молодыми охотниками — делегатами объединения поехала следом. По пути то и дело встречались табуны лошадей. Стояло раннее утро. — Скота у нас много, но, к сожалению, и волков тоже достаточно, даже с лихвой, — сказал директор. — Наверняка встретим серого. Или волков видят все, кроме охотников? Э, глядите-ка, вон один нырнул в борозду и скрылся в стерне. — Опустить стекло? — спросил шофер. — На всякий случай, вдруг стрелять придется. Машины шли по краю поля. Почва была плохая — песок вперемешку со снегом. — Вот он, волк! — воскликнул вдруг Дорж и вскинул ружье. Все, кто был в машине, стали смотреть, куда указывал Дорж, но хищника никто не заметил. — Волк не один, их тут несколько, — добавил Дорж. Наконец все увидели хищников. — Их пятеро! — Они с одного поля на другое переходят! — Легко промахнуться! — Дорога плохая: песок со снегом. — Стоп! — крикнул Дорж. В тот же момент, когда машина остановилась, Дорж спустил курок, и первый волк, уже готовый скрыться в прошлогодней стерне, упал. Еще выстрел — упал следующий. Оставшаяся тройка метнулась в сторону поля, туда, где высилось нагромождение камней. Еще один выстрел, и хищников уже осталось двое. И наконец пятая пуля настигла последнего. Он перевернулся в воздухе и шлепнулся на землю. Но сразу же вскочил и скрылся в стерне. Стрелять ему вслед Дорж не стал. — Он ранен, никуда не денется. Можно ехать побыстрее. Притихшие было в машине люди словно ожили и принялись наперебой расхваливать его. А директор притянул охотника к себе и расцеловал. — Ты настоящий самородок, Дорж! — Ехать прямо? — спросил водитель. — Теперь направо! — скомандовал Дорж. Машина запрыгала по неровному полю. — Чуть назад давай и влево. Хватит, стой! Дорж выскочил из машины. Вот он! Огромный волк двигался, припадая на одну ногу. Выстрел! И этот хищник упал замертво. На совещании охотников выступил и Дорж. Он поделился опытом с молодыми охотниками, рассказал, какие их подстерегают ошибки. Потом вместе с участниками совещания он ходил в лесистые горы, объяснял, по каким признакам можно обнаружить волчье логово. Домой Дорж уезжал через неделю. До бригадного центра его провожал директор, а дальше, до фермы, он ехал с бригадиром. Дорога шла через белую и гладкую, как стол, степь. Пока машина набирала скорость, впереди мелькнуло что-то серое. Волк! — Стрелять будете? — спросил водитель. — Непременно. Гоните вовсю! Сейчас вы кое-что увидите. И машина помчалась в объезд. Но тут зверь вдруг исчез, словно сквозь землю провалился. Неподалеку оказался колодец. Не прыгнул ли волк туда? Нет, там его не было. Двинулись дальше. Только теперь бригадир решил ехать в кузове. Он смотрел по сторонам, крепко держась за верх кабины. Вдруг он случайно оглянулся. Позади него в кузове лежал волк. Бригадир испуганно просунул голову в окно кабины. — Волк в кузове. — Что? — обомлел водитель. Дорж не растерялся. — Пересаживайтесь в кабину на ходу, — сказал он и попросил дать полный газ. Машина мчалась на высокой скорости. — Далеко ли до аилов? — спросил Дорж. — Порядочно. — А дорога? — Везде такая же, как и здесь. — Тогда гони вовсю! — Ладно! Наконец показались аилы. На рев мотора выскочили собаки. С перепугу зверь выпрыгнул из кузова и дал тягу. Псы — за ним. Шофер развернул грузовик и стал преследовать. Обогнув два маленьких озера, они настигли волка, загнанного псами, и Дорж в один миг пристрелил его. Так в одну неделю у Доржа произошло два удачных и интересных случая.Рассказ десятый
О Дорже, герое этих рассказов, я многое узнал, когда ехал к нему и особенно в одном аиле, где останавливался на ночлег. На последнем перегоне меня застал вечер. Сколько я ни торопил коня, тот только хвостом крутил, словно говоря: «Чего тебе надо?», а ходу не прибавлял. Стояло начало зимы — время, когда сытого коня особенно не расшевелишь. Пробежит немного, а потом опять начинает плестись. Да если рассудить здраво, то и гнать животное не следует. Может, и впрямь лучше предоставить коню самому выбрать скорость? Так я и сделал. Теперь не я конем распоряжался, а он мною. К тому же и места были мне незнакомы — я оказался здесь впервые и, хотя дорогу мне объяснили, больше полагался на интуицию своей лошади. Авось вывезет к какому-нибудь аилу. Ехал я густым лесом, там и сям попадались каменистые осыпи. Луна все не показывалась, да и надежды на нее было мало: горизонт заволокли тучи. Внезапно издалека донесся волчий вой. Мне сделалось не по себе. В человеке, не привыкшем разъезжать по глухим местам, волчий вой, следы волка, не говоря уже о самом звере, неизменно вызывают тревогу. Конь мой запрядал ушами. Волк выл долго и заунывно. Затем к нему присоединились еще два-три голоса, и вот уже целый хор стал вести эту леденящую душу, жуткую мелодию. Мой конь заметно прибавил шагу. Интересно, где они скрываются, эти звери? Мне казалось, что они где-то позади меня, и очень близко. Приятное соседство! Ничего не скажешь! Наконец показался аил. Запахло жильем. Я вздохнул с облегчением. Навстречу бросились было собаки, но тут же поджали хвосты. Похоже, они узнали мою лошадь. Вероятно, ей не раз и не два приходилось доставлять сюда путников и оставаться на ночлег. Я вошел в юрту. Хозяин, рябоватый мужчина, был обут в старые войлочные гутулы. На нем были меховые штаны и белая рубаха. Хозяйка перекладывала вареное мясо из котла в деревянное продолговатое блюдо. По ее виду нельзя было сказать, что она жительница худона, но и горожанку в ней признать было трудно. Женщина была статная, хороша собой и казалась моложе своего мужа лет на десять. Хозяин оказался человеком словоохотливым. Звали его Дорж. Супруга его — Дуламханд. В середине шестидесятых годов у них было четверо детей, теперь к ним прибавилось еще двое — мальчик и девочка. Старшие учились в школе и зимой жили в интернате, но все равно казалось, что юрта битком набита детьми. Позже выяснилось, что супруги взяли на воспитание нескольких малышей. Нравилось им, когда в юрте звенят ребячьи голоса. Я замерз в дороге и изрядно проголодался. Мне тут же подали горячий чай с молоком, свежесваренную говядину. Дуламханд приготовила для меня согревающую смесь — водку с топленым маслом. Сам хозяин хмельного в рот не брал. После ужина меня разморило. Хозяйка, выходившая присмотреть за моей лошадью, сказала: — Ваш конь — это же гнедой Санжадамбы-гуая. Он хорошо знает дорогу сюда. А уж хитрюга какой, слов нет. Он отлично чувствует, как относится к нему седок. Вы его щадили в пути — сразу заметно. Я сняла с него седло и уздечку и задала ему сена. В юрте было тихо. Это еще надо уметь — так воспитать детей! Дуламханд приготовила мне постель и оставила неподалеку у печки чайничек со свежим чаем. В тот вечер я долго не мог уснуть — сон развеяли рассказы Доржа. Ему было под пятьдесят. Это был плотный мужчина с уверенными и размеренными движениями. В последнее время Дорж уже не так часто, как в молодости, ходил на охоту. Но два раза в год непременно участвовал в облаве на волков. Недавно он обнаружил сразу трех ощенившихся волчиц. Найти место, где рождаются волчата, человеку очень трудно. Волчицы устраивают свои тайные логова так, чтобы вблизи была и пища и вода. Дорж наблюдал за жизнью трех волчьих семей, пока щенки не прозрели и у них не встали уши. Самки вели себя чрезвычайно осторожно — уходили на охоту по очереди. Возвращались тоже украдкой и непременно запутывали следы. Волчица, когда у нее щенки, особенно бесстрашна на охоте, встреча ее с человеком последнему ничего хорошего не сулит. Глядя на своих подруг, самцы тоже впадают в ярость. Сперва Дорж уничтожил самцов, сопровождавших самок. После их гибели волчицы окончательно осатанели, и приближаться к ним было опаснее обычного. У одной волчицы оказалось семь щенят, у второй — девять. Третья принесла лишь одного. Возможно, она устроила себе нору еще где-нибудь в другом месте и украдкой перетаскала туда волчат. Но выяснить, так ли это, Доржу не удалось. Когда волчица, мать семерых щенков, отправилась за добычей, он выследил ее и застрелил. Волчицы с одним волчонком тоже не было поблизости. И охотник решился на отчаянный шаг: он вошел в логово той волчицы, у которой было девять щенков. Это было первый и, как он говорил, последний раз в жизни, когда Дорж рискнул войти в волчье логово. Зато на опыте убедился, что серый хищник не трогает вошедшего к нему человека. Дорж на ощупь продвигался в темноте. Руки натыкались на холодные носы и мягкие тельца. Стоял в логове острый специфический волчий запах. Вот ладонь коснулась свалявшейся шерсти волчицы, она попятилась и остановилась, упершись спиной в стену логова. Двигаться дальше было некуда. Сложить волчат в мешок? Волчица, пожалуй, воспротивится. Дорж накинул ей мешок на голову, завязал веревкой, его товарищи вытянули упирающегося зверя наружу и добили. Затем Дорж извлек из логова девять щенят, из другого логова — еще семерых, и потом одного. Домой он принес мешок с семнадцатью маленькими серыми щенками. Держал их позади юрты в каменной котловине. Щенята прожили там всю весну, лето и осень. Сейчас наступил январь, когда шкуры животных густеют и лоснятся, приобретают наибольшую ценность. Дорж показал мне своих питомцев. Стены котловины были каменные, из нее и ведьме не выскочить. По ночам и на рассвете молодые волчата понемногу завывали. Зимой вой их стал протяжнее и громче — приходилось изредка стрелять в воздух, чтобы утихомирились. Если звери голодны, они могут перегрызть друг другу горло. Дорж старался кормить их досыта. Хорошие выросли волки, крупные. Наверняка в их возрасте крупнее и не сыщешь. Самым большим был единственный сын третьей волчицы. Дорж жалел, что приручить волков чрезвычайно трудно, если не невозможно. Вот и получилось у Доржа что-то вроде волчьей фермы. Семнадцать отменных шкур сдаст он государству. — А что, если волки вовсе на земле переведутся? — спросил я. — Без волков тоже нельзя, — серьезно ответил Дорж. — Они приносят свою пользу, способствуют выживанию наиболее сильных животных. Все на свете имеет свое назначение. Что ж, он прав, подумал я, ученые должны сказать свое слово о пользе и вреде волков. В этой повести я вовсе не ставил перед собой задачу рассказать все о волках. Не собирался и обобщать опыт охоты на этих хищников. Я рассказал лишь несколько случаев, веселых и забавных, опасных и грустных, из жизни известного охотника Доржа. Пусть Дорж сам прочтет повесть и пригласит меня к себе. Пусть укажет на ошибки и неточности, я готов снова взяться за перо, чтобы исправить недостатки моего произведения.А теперь я желаю уважаемому Доржу долгих лет жизни и счастья.
Далантайн Тарва
Далантайн Тарва — видный писатель, публицист, общественный деятель. Родился в 1923 году в Восточном аймаке. В шестнадцать лет, во время боев у Халхин-Гола, служил младшим политруком эскадрона в одном из бронедивизионов 18-й дивизии. Окончил Монгольский государственный университет (1950 г.) и Высшие литературные курсы в Москве (1962 г.). Впервые выступил со стихами в 1940 году. С первых шагов в литературе Халхин-Гол, Великая Отечественная война советского народа, борьба за мир сделались постоянными мотивами творчества Д. Тарвы. Многие стихотворения поэта, положенные на музыку, стали популярными в Монголии песнями о родине, о дружбе монгольского и советского народов, о победах Советской Армии. В очерке «Товарищи по оружию» (1969; русский перевод — 1973), описывая совместную поездку монгольских и советских писателей по местам боевой славы, Д. Тарва пишет: «Победа на Халхин-Голе была победой двух армий, победой двух народов...» И далее об острове Даманском, где советские пограничники мужественно защищали рубежи своей родины: «...Мы возложили венки на могилы пограничников. Отдавая дань глубокого уважения героям, каждый из нас невольно задумался о многом...» Писателю принадлежит более двадцати книг, среди них поэтические сборники «За землю родную», «Кяхта», «Великие ряды», «Поэма, навеянная посещением Пискаревского кладбища» (русский перевод — 1969), а также поэмы «Солдат революции», «Мой отец» (русский перевод — 1979). Д. Тарва — лауреат премии имени Д. Нацагдоржа (1966 г.), секретарь Правления СП МНР, многие годы возглавляет редакцию общественно-политического и литературного журнала «Цог» («Огонек»). В 70-е годы, обратившись к жанру прозы, опубликовал повести «Звенящие стрелы» и «Первый Новый год» (русский перевод — 1974). «Первый Новый год» — это сцены из жизни молодых шахтеров. По путевке ревсомола группа вчерашних школьников трудится на крупнейшем в стране Шарынгольском угольном разрезе. Молодой задор и мягкий юмор помогает ребятам одолеть первые серьезные жизненные трудности. С большим чувством такта, художественно полноценно показывает писатель внутренний мир монгольского рабочего наших дней. Г. ЯрославцевПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД
I
Сотрудник, недавно побывавший в Дархане, привез и передал Батчулуну записку. Почерк показался знакомым. «Здравствуйте, как у вас дела? Какого числа собираетесь встречать Новый год? Когда мне приехать?» Всего три вопроса и подпись: «Норжма». Две недели назад девушка была здесь в командировке. Перед отъездом Батчулун пригласил ее приехать на встречу Нового года. «Хорошо, приеду», — согласилась она. Однако это приглашение могло означать тридцать первое декабря старого года и первое января нового. Новогодние вечера в разных цехах проводились в разное время и приурочивались, как правило, к дню выполнения годового плана. Смена Батчулуна впервые будет встречать Новый год сообща. До этого у них что-то не ладилось с планом. Но в этом году все поднажали, работали с огоньком, и появилась возможность выполнить программу досрочно. «Когда мне приехать?» — снова прочитал Батчулун и, явно взволнованный, подошел к зеркалу. Он причесался, поправил галстук и удовлетворенно улыбнулся. В самом деле, три года назад, когда Батчулун после окончания средней школы впервые приехал сюда, он выглядел желторотым юнцом. А теперь раздался в плечах, окреп, возмужал, в общем стал парнем хоть куда. Батчулун снова прочитал записку. Первый вопрос мог относиться ко всей смене, ибо «у вас» было написано со строчной буквы. Норжму, видно, интересовало положение дел с планом. А вот третий вопрос, несомненно, касался его лично... «Самое главное, — подумал Батчулун, — Норжма приедет, и это отлично! Хорошая девушка. Сказала, что приедет — и вот, пожалуйста, сдержала слово. Правда, день встречи Нового года в бригаде по-прежнему не установлен. Как и тогда, когда Норжма приезжала в командировку. В душе она, наверное, ругает нас за расхлябанность. Ну, ничего, в этом году мы все-таки справимся! Надо будет уточнить, сколько мы выдали на-гора за последние дни, а то знаем, что близки к выполнению плана, но сколько еще осталось — точно не известно. Когда все подсчитаем, тогда можно и день новогоднего праздника назначить». Батчулун перелистал свою записную книжку, сделал какие-то пометки. Затем надел полушубок, надвинул на глаза ушанку и вышел. Батчулун быстро шагал по скрипучему снегу вдоль горняцкого поселка, сплошь застроенного двухэтажными новыми зданиями. Порывы холодного ветра подталкивали его в спину. Пройдя несколько кварталов, Батчулун вошел в один из домов и поднялся на второй этаж. Постучал в дверь. Увы, никто не отвечал! Батчулун вырвал из блокнота листок и написал на нем: «Дорж! Найди Дамдина и в два часа приходи с ним ко мне!» Записку он скатал трубочкой и всунул в замочную скважину. Выйдя на улицу, Батчулун решил направиться во Дворец культуры. Там с утра до вечера полно молодежи — шахтеры работали в три смены. «Возможно, я встречу Доржа там», — решил Батчулун. Войдя во дворец, он побежал было в зал, но там только что началось кино. Тогда Батчулун направился в комнату, где помещался комитет ревсомола. Приоткрыл дверь и тут же снова ее закрыл. «Заседание у них, что ли? Нет, не похоже. Скорее всего, просто беседуют». — Что ни говори, а он здорово выглядит! — сообщила одна девушка. — Ты подметила что-нибудь особенное? — спросила другая. — Несомненно. Новая рубашка, новый галстук, новый шарф, новая шапка, да и чувства, наверное, новые... — Ну, уж тут ты пересолила... — Милый только вчера из Улан-Батора приехал — как же ему плохо выглядеть! — с явной иронией произнесла собеседница. — А на каком он факультете учится? — На ветеринарном... — Но у вас и скота-то нет. Лечить некого. Здесь одни машины, техника. Может, он из ветеринара в механика переквалифицируется? — Мне все равно, кем он будет. Я с удовольствием выйду за него замуж, только он об этом еще не знает! — рассмеялась девушка. И было совсем непонятно, шутит она или говорит серьезно. Батчулун, став невольным свидетелем этого разговора, задумался: «Нет, у них с Норжмой будет все по-другому! Ему уже обещали, если он привезет невесту из Дархана, то ее возьмут на работу на узел связи. Возможно, и инженером станет...» Затем заговорил секретарь — Батчулун узнал его голос. Все притихли, стали слушать. «Выходит, у них все-таки заседание!» — В целом мы успешно справляемся с годовым планом. Бригада Сэдэда идет впереди, скоро будет отмечать Новый год. Эти слова секретаря задели Батчулуна за живое. — А теперь поговорим о бригаде Батчулуна, — продолжал секретарь. — Они тоже взяли обязательство выполнить план досрочно. Однако пока они что-то молчат. Скоро подводить итоги соревнований, а от них не поступило никаких сообщений. И вообще нехорошо молчать, когда все ждут выполнения данного им слова... — А может, Батчулуну теперь и вовсе некогда думать о Новом годе, если все его мысли в Дархане, — сказал кто-то из членов комитета. — А разве он еще не перестал думать об этом? — Кто сказал, что перестал? Он даже в субботу на работу не вышел, в Дархан ездил, и, кажется, не зря: говорят, радушно был принят. — Да, нехорошо все это... Прослушав весь этот разговор, Батчулун не на шутку обиделся. Обсуждают его жизнь и работу, а говорят как о чем-то пустячном, не имеющем значения. «Ладно, была не была — войду», — решил он и толкнул дверь. — Входи, входи, — раздался голос секретаря.II
Когда Батчулун вернулся домой, в парадном его уже поджидали Дорж и Дамдин. Войдя в комнату, Дамдин снял пальто и, растирая уши, спросил: — Ты по какому поводу нас вызвал? — Вот что, ребята! Давайте решим, когда будем Новый год отмечать. — Мы тоже интересуемся — когда? — Я только что заходил в комитет, а потом — в контору. Выяснял обстановку. Мы немного просчитались: до плана не хватает трех тысяч тонн, ясно? Дорж внимательно посмотрел на Батчулуна и Дамдина. — По моим прикидкам — так оно и должно быть, — сказал он. — Три тысячи — это, в общем, не так уж много. Днем вы с Дамдином дадите норму, ночью — мы с Довчином. Глядишь, завтра во вторую смену мы и доберем остаток, не так ли? — Нет, так, пожалуй, не хватит. А вот если Сурэн с Жаргалом еще дадут на-гора пару сотен тонн, тогда... — Добро, так и решили. Завтра к вечеру закончим программу, — подытожил Дамдин. — А почему, собственно, обязательно завтра? — возразил Дорж. — Можно и послезавтра, ничего страшного. «Лучше всего встречать Новый год в день выполнения плана», — вспомнил Батчулун слова Норжмы. «Так обычно здесь все и делают, — подумал он. — Да и в комитете об этом говорили. И бригада Сэдэда собирается так поступить. Завтра — пятнадцатое декабря. Если мы выполним план, значит, сдержим слово — завершить программу на полмесяца раньше срока, и бригаде присвоят имя Ревсомола». — Нет, сделаем план завтра и завтра же отпразднуем, — произнес он вслух. — Надо сказать нашим — Сурэну и Жаргалу, да? — Конечно... А где будем устраивать встречу? — У нас дома, если нет других предложений, конечно, — сказал Батчулун. Он жил с Жаргалом в однокомнатной квартире. Нельзя сказать, чтобы она была заставлена мебелью. Две кровати, диван, стол, тумбочка под телефоном, несколько стульев — вот и вся обстановка. На кухне — тоже стол, табуретки да полка с посудой. — Ну что ж, у вас так у вас, значит, и этот вопрос решили. Тогда давайте втроем сядем и все как следует продумаем. Составим план, — предложил Дамдин. — Ты прямо-таки производственный отдел у нас! — воскликнул Дорж. — Ты к чему это сказал? — А как же? Тебе надо, чтобы все делалось по плану. — А ты разве не знаешь, что план — это одна из первых заповедей социализма! Говори, знаешь или не знаешь? — Знаю, знаю... Не буду спорить с тобой. Я согласен — давай твой план. — Для меня главное, — сказал Дамдин, — достать новые струны для гитары. А то сегодня утром старые порвались, и я их выбросил. И обшивка у гитары, что мы с тобой клеили, тоже ободралась... Друзья долго еще обсуждали, как им организовать праздник. Определили время сбора — в восемь часов вечера. Сурэн и Дорж придут с женами. Из Дархана приедет Норжма. Пригласят еще нескольких ребят, в том числе и из комитета. Придется собрать посуду. Своей мало будет. Надо будет принести еще стол и стулья. Договорились, что всем этим займутся Батчулун и Дорж. У них есть кое-какой опыт. Батчулун в прошлом году входил в комиссию по подготовке новогоднего вечера. Дорж наряжал елку во Дворце культуры, готовил маски для карнавала. Вообще, все должно получиться неплохо. Жаргал и Довчин хорошо поют. Дамдин на гитаре играет. Сурэн читает стихи. Ну, а стол они будут накрывать сообща. — Итак, — торжественно заявил Дамдин, — наш Новый год начинается завтра. Завтра бригада товарища Батчулуна с участием помощника машиниста товарища Дамдина побьет все рекорды и станет первой на угольных шахтах Шарын-Гола[95], выполнившей годовой план. Мы докажем, что никогда не бросаем слов на ветер... — Ладно тебе, — улыбнулся Дорж. — Слушай, Батчулун, — продолжал Дамдин. — А не попросить ли Норжму привезти струны? — Это можно. А теперь ответь, ты завтра домой один придешь? — Разве я прихожу домой не один? — Не притворяйся. Я наслышан о твоих похождениях. — Чепуха, я мамы боюсь... — А среди учительниц средней школы ты не знаешь одну — особенно ласковую и нежную? — Да как тебе сказать. Я однажды приглашал ее домой, уговаривал: мол, не бойся, моя мать тебя ругать не станет. Разве что спросит, сколько классов окончила, — засмеялся Дамдин. — Когда я с Цэрмой познакомился, она тоже боялась первый раз зайти ко мне, — задумчиво сказал Дорж. — Войдешь — не выйдешь, — сказал Батчулун.III
Друзья уже собирались прощаться, когда дверь распахнулась и вошел еще один член их бригады — Довчин. Ему было решено поручить закупку продуктов для новогоднего стола. Однако не успел Батчулун раскрыть рот, чтобы сообщить об этом Довчину, как Дамдин выпалил: — Да здравствует человек, который добровольно явился, чтобы принять на себя самое ответственное поручение!.. — Ладно, об этом мы еще поговорим, — ответил Довчин. — Но вот вы тут сидите, а к Дамдину отец приехал. Ищет его повсюду, волнуется. — Будет тебе сказки рассказывать, — без малейшего беспокойства ответил Дамдин... Да, действительно, очень разные по характеру люди собрались в бригаде. Батчулун был выдержанным и надежным человеком. Сурэн — очень вспыльчив и легко уязвим, Дорж внешне казался суровым, бывалым и опытным человеком, а в действительности был робок, нерешителен. Довчин был чересчур дотошным в работе; Дамдин — белоручка, а Жаргал — вообще еще совсем ребенок. Довчин, не снимая пальто, сел на краешек стула рядом с Доржем. — Говорят тебе, иди быстрей! Отец ждет тебя на морозе, а ты тут рассиживаешься! — снова обратился он к Дамдину. — Милый, я на эти шуточки давно уже не попадаюсь. — Я не шучу. Пойдешь — сам увидишь. А впрочем, как хочешь: не веришь, что отец приехал, так не верь. — А вы, ребята, — посмотрел на Батчулуна и Доржа Довчин, — выделите мне пачку самых хороших сигарет. — Дудки, мы сами курильщики, — ответил Батчулун. — Тогда давайте кило конфет! — Это другой разговор. Завтра вечером начнем накрывать новогодний стол, может, что и останется. Что, видно, уже прокутил премию? Между тем Дамдин на всякий случай решил все-таки сходить домой — а вдруг и правда отец приехал. Надевая пальто, он сказал Довчину: — Килограмм конфет не шутка. Так что ты завтра уж не поленись. Приходи сюда и, несмотря ни на что, проси, авось дадут! — С этими словами Дамдин поправил борта пальто и вышел. Вскоре стукнула парадная дверь и послышался скрип шагов на крыльце. Несколько удивленный поведением Дамдина, Батчулун обратился к Довчину: — Как бы я обрадовался, если бы мои родители приехали навестить меня... — К сожалению, я незнаком с его отцом. Хотя мы и из одного аймака, но сомоны у нас разные... — Отец — точная копия Дамдина, — сказал Довчин. — То есть как это? — удивился Дорж. — Отец копия Дамдина или Дамдин копия отца, уточни, пожалуйста! Они еще немного пошутили по этому поводу. Затем Батчулун посвятил Довчина в план встречи Нового года. Когда Довчин ознакомился со списком приглашенных, он сказал: — Надо добавить отца Дамдина. — Конечно, какие могут быть возражения! Может, ты еще кого-нибудь хотел бы пригласить? — Я бы предложил пригласить Сэдэда, мы с ним очень дружны, хотя это и необязательно. — Это какого Сэдэда? — Бригадира. — Так его бригада ведь сама собирается отмечать Новый год. — Когда? — Послезавтра, кажется. — Ты точно знаешь? — А как же! В комитете сказали. Это совершенно точно. Там все даты известны. Но ты об этом пока помалкивай. Слышишь? — Ясное дело! А насчет завтрашнего дня вы хорошо придумали! — Ты отвечаешь за покупки. — Согласен, собирайте денежки! — Легкая тебе досталась работа, — сказал Дорж. — А тебе что? Тяжелая? — Добыть елку, нарядить ее. — Что же, работенка под стать тебе, — съязвил Довчин и снова пробежал глазами список гостей. — Послушайте, — сказал он. — А если мы позовем Дашму-гуай? И, может, еще инженера Цагандая? — Да, верно, Цагандая надо позвать. Он у нас на курсах машинистов вел самые главные предметы, — сказал Батчулун. — Очень он серьезный, — улыбнулся Дорж. — Стоит ему, бывало, появиться, как я уже дрожу от страха. Подойдет и давай бубнить: «На современном карьере, оборудованном по последнему слову техники, каждый шахтер должен постоянно беречь рабочее время, должен соблюдать дисциплину, обладать чувством ответственности...» А что, если он и завтра, за новогодним столом, будет говорить то же самое? — Нет, я уверен, на нашем празднике он будет говорить совсем другое, — сказал Довчин. — Он вас всех удивит своим красноречием. Выпьет немножко, покраснеет и начнет: «У меня, мол, очень много младших братьев. Несколько сот молодых ребят, они работают в Шарын-Голе и составляют его главную рабочую силу — все они мои младшие братья. Наш карьер — это по-настоящему карьер рабочей молодежи. Из ее рядов выйдет много героев труда, которые покроют себя неувядаемой славой. Я люблю этот карьер больше жизни. Вы должны любить его еще больше, чем я. Ибо когда меня не будет, в карьере останетесь вы. Эй, как тебя, подойди ко мне! — позовет он кого-нибудь. — Слушай, — скажет Цагандай, — если завтра я подойду к тебе во время работы и учиню разнос, ты не обессудь, понял?» — «Понял», — ответит несчастный. А инженер растрогается и поцелует его в лоб. Думаю, завтра Цагандай-гуай всех нас обнимет и расцелует. Наверное, и отца Дамдина тоже. — Вполне возможно!IV
«Ночью опять туман будет. В нем вся загвоздка: может все планы сорвать. Луну бы сейчас — тогда был бы порядок!» — думал Батчулун, шагая на работу. Дорогу он выбрал сегодня не ту, по которой обычно спускался в карьер, а другую, короче, однако более крутую и скользкую. Шел он быстро, перепрыгивая через рытвины и ухабы, обходя крутые глыбы угля. Уже вблизи экскаватора он вдруг заметил, как напротив, за кучей земли, мелькает чья-то голова: кто-то торопливо карабкался к нему. Приглядевшись, Батчулун узнал Дашму, ту самую, которую они собирались пригласить на встречу Нового года. Перебравшись через кучу земли, Дашма стала медленно приближаться. Было слышно, как тяжело она дышит. — А ты, оказывается, живучий, черт! Я думала, что прикончила тебя! — закричала она. Люди говорили, что эту решительную и энергичную женщину назначили контролером за ее твердый характер, который, в свою очередь, мол, объясняется тем, что она вся состоит из одних сухожилий. Ее рабочее место помещалось в небольшом деревянном домике, прилепившемся на самом гребне карьера. Домик этот был явно рассчитан только на теплую погоду. Однако Дашма нашла выход из положения: завалила дощатый пол углем так, что он даже прогнулся от тяжести, и круглые сутки топила печь. А сама сидела за столом у окошка и собирала сводки. В этом заключалась ее работа. Когда она приехала сюда с мужем, проработавшим свыше десяти лет трактористом в госхозе, то поначалу и сама собиралась стать горнячкой. Но потом раздумала — испугалась, что не осилит всю техническую премудрость. А вот работать контролером ей нравилось: весь карьер был у нее на виду. Она первая узнавала, как идут дела у экскаваторщиков, у шоферов. Сменные контролеры и даже начальники участков обязаны были докладывать ей о ходе работы. Сейчас Дашма спешила выяснить, все ли в порядке у Батчулуна, — ведь всего несколько минут назад, когда Батчулун проходил мимо домика и хотел пошутить с ней, Дашма словно бы в шутку толкнула его локтем. А он возьми да и упади. Дашма в сердцах обозвала его коровой на льду, но потом встревожилась: парень долго не мог подняться, а когда наконец поднялся, захромал. — Ну, ладно, — успокоившись, сказала Дашма, — раз руки-ноги целы — тогда иди работай и в следующий раз не балуй, а не то... — ворчала она, и Батчулуну показалось, что сейчас, засучив рукава, она бросится на него с кулаками. Однако нападения не последовало. — Заруби себе на носу это! — сказала Дашма и повернула было обратно к себе. «Да, — подумал Батчулун, глядя ей вслед, — она такая: кого хочешь отбреет». — Дашма-гуай! — позвал он. Она снова обернулась. — Наша смена завтра вечером отмечает Новый год... — Ну и что? — Мы решили пригласить вас. — Черти вы полосатые, вот вы кто! Хотите меня задобрить! — Она, видно, хотела еще что-то сказать, нерешительно повернулась и пошла к себе. Батчулун не стал ее уговаривать. Он даже немного обиделся. «Разве с таким человеком можно договориться? Мы ее приглашаем, а она ругается. Не придет — ну, и не надо!» — решил он и полез в кабину. Ночной туман окутал все вокруг такой плотной пеленой, что в полуметре ничего нельзя было разглядеть. На какое-то время туманная морозная мгла немного рассеялась. Появилась было надежда, что в котловане можно будет работать. Но тут же опять все потемнело. Огни экскаваторов, будучи не в силах пробить темноту, лишь слабо мерцали сквозь клубящийся туман, подсвечивая его каким-то фантастическим светом. «Ладно, как только туман рассеется, быстро загружу всю колонну», — решил Батчулун, глядя на самосвалы, выстроившиеся в ряд. — А пока остается только набраться терпения и ждать. В этот момент дверь кабины открылась и вместе с холодом в нее влез водитель с соседнего самосвала. — Ну что, видимость совсем пропала? — сказал он. — Да, не только ковша, даже стрелы не видно. — А работать на авось нельзя! — Еще бы — насыплю тебе уголь на голову вместо кузова, тогда что делать будешь? — Да, пожалуй, далеко не уедешь, если тебя заживо погребут под углем, — засмеялся гость и вылез из кабины. Батчулун протер стекло рукавом и долго смотрел сквозь него на туман, который, как ему показалось, теперь стал еще гуще. Он выпрыгнул из кабины и пошел к соседу. Сел с ним рядом. — Похоже, что с туманом невозможно бороться! — Как это невозможно? Можно нагреть землю, и он поднимется кверху. Только это очень хлопотно. А так против всего средство есть, все можно преодолеть. На то и техника существует. Только вот больно холодно. Сейчас наверняка градусов сорок пять мороза будет! — Мороз — это полбеды! Хуже всего полное отсутствие видимости. Интересно, как будут выходить из положения в будущем, найдут средство рассеивать туман или научатся работать вслепую? — Когда это еще будет? — Как когда? Космонавты и сейчас летают строго по расписанию. Им туман не помеха. — Уж не собираешься ли и ты в космос? — Я бы с удовольствием полетел, да только кто будет уголь добывать? Шофер, в машине которого сидел Батчулун, громко расхохотался. Насмеявшись, он посмотрел на пелену тумана. — Туманы стоят с первых дней строительства карьера. — Значит, ты здесь работаешь с самого начала? — Да нет, с начала не получилось... Когда на разрез приехали советские строители, я служил в армии. Нашу часть перевели сюда на земляные работы. В армии я был шофером, водил легковушку. Ну, а потом меня посадили на самосвал. Много труда пришлось приложить, чтобы построить этот карьер. Ну, а после демобилизации я домой не поехал — прирос, прикипел к карьеру. Теперь он для меня что дом родной. Думал этим летом провести весь отпуск дома, приехал на родину, но через несколько дней почувствовал — чего-то мне не хватает... Меньше чем через двадцать дней сбежал назад, сюда, чтобы плясать в Доме культуры с такими вот молодцами, как ты. Как у вас насчет Нового года, готовитесь? — Не знаю, этот чертов туман может все испортить! — План, наверное, уже завершен? — Да нет, немного не хватает. — Будете отмечать, несмотря на недобор, да? — Откуда ты взял? Я этого не говорил. — Батчулун посмотрел на часы. — Похоже, что скоро туман рассеется. Так что невыполнения не будет, не беспокойся! И Батчулун выпрыгнул из кабины. Туман, кажется, действительно стал рассеиваться.V
Отпраздновать встречу Нового года за пятнадцать дней до окончания года — вот здорово! Они никогда и не мечтали об этом. Прошлой зимой присутствовали на новогодних вечерах в других бригадах и цехах и даже не надеялись, что придет праздник и на их улицу. Предстоящее празднество вдохновляло и радовало всех, но нужно было еще сделать главное — выдать на-гора недостающее количество угля и провести необходимые приготовления. Рано утром Дорж и Довчин сходили в красный уголок за цветной бумагой, красками, елочными украшениями. Поворчав немного по поводу того, что на их долю выпала самая трудоемкая работа, они целиком управились с нею за два часа. Потом расставили столы и стулья, которые принесли накануне вечером, и нарядили елку. Затем Довчин отправился в магазин за покупками, а Дорж, критически осмотрев елку, стал доводить ее наряд до совершенства. За этим занятием его и застал Дамдин. — Ходил с отцом к карьеру, — объяснил он причину своего опоздания. — Хотел прийти пораньше, думал, только покажу отцу карьер и сразу к вам, но не тут-то было... Подошли к экскаватору, — продолжал Дамдин, — отец давай меня обо всем расспрашивать. Я старался объяснять покороче, опуская детали, а то пришлось бы целый месяц говорить, как на курсах... Все его интересует... Ну, говорю, ковш экскаватора поднимает пять тонн угля. А самосвалы берут по двадцать семь тонн. Это его поразило. Сел на камушек, стал прикидывать. Говорит, если пять тонн угля перевести на мешки с мукой, то это груз для целого каравана верблюдов. А чтобы двадцать семь тонн погрузить, так вообще сто верблюдов потребуется. Интересные вещи у вас тут, говорит, происходят, могучую технику вы оседлали. Потом мы пошли с ним назад. Он долго молчал, а потом заговорил: «Поначалу мы с матерью волновались, — получалось вроде, что устроился плохо — ни мебели, ни посуды, учиться заставляют, а когда будет работа и заработок — неизвестно. Ну, а теперь я вижу — отлично ты живешь...» — И правда, совсем не плохо, — подтвердил Дорж. — А будет еще лучше. Стадион строят: летом будет бассейн, а зимой — каток, лыжная база. Читальный зал расширяют. Да еще новый танцзал скоро откроют. И все это для нас, рабочей молодежи. Ты разве не слышал? — Как не слышал? Только разве будущее молодежи на танцплощадке? В этот момент зазвонил телефон. Дамдин поднял трубку. — Алло! Алло! Молчание. Еще раз крикнув «алло!» и не получив ответа, Дамдин в сердцах опустил трубку на рычаг. Присел на корточки рядом с Доржем и стал рассматривать елочные украшения: — Здорово сделаны игрушки! Все есть тут: и заяц, и медведь, и лиса, и снег. Нет только Дамдина... — Ты думаешь, из тебя бы хорошая елочная игрушка получилась, да? — А что? Получилась бы. Из меня одна, из тебя другая. Вот бы елка была! А Жаргала бы внизу поместили в образе побитого песика, а Довчина — в образе великого слепого старца: вместо глаз щелочки, ха, ха... А самым лучшим украшением был бы красавчик Сурэн. На него все десятиклассницы заглядываются... Жаль только, что жена у него здесь. Начальника смены с его басом мы использовали бы вместо микрофона. Перед ним инженер Цагандай произносил бы речи. Вот елка была бы! Всем на удивление! — Выходит, наша елка тебе не нравится? Не смотрится, да? — Да нет, ничего! Обычная елка! Пестрит игрушками. — А само дерево, по-твоему, ничего не значит? — Как это? — Да так. А ведь о вечнозеленом дереве даже песни сложены. — Ну и что же? — Мой милый, самое главное, к твоему сведению, — это не игрушки, не украшения, а само дерево. — Тогда зачем же ее украшают? — А чтобы она выглядела еще наряднее. — Я смотрю, ты стал большим теоретиком, Дорж! — Теория тут ни при чем, практика... — Скажешь тоже. Практика! Первый раз наша смена елку устраивает, а он уже великим практиком стал! — Ладно тебе! Вот сегодня вечером инженер Цагандай тебе все растолкует. Чтобы в чем-то разобраться, надо проникнуть в самую суть вещей, понял? В это время снова раздался телефонный звонок. Дамдин опять схватил трубку. — Алло? Кого вам? В трубке зазвучал голос Довчина: — Это ты, Дамдин? Значит, все-таки пришел? — Я-то пришел, а вот ты где пропадаешь? — Я в магазине. Купил почти все, что нужно. Давайте-ка вместе с Доржем быстрее ко мне — одному не дотащить! — А в каком ты магазине? — В гастрономе, что в самом конце поселка. — Ладно, сейчас придем, — сказал Дамдин и повесил трубку. — Довчин не в силах поднять бутылки, бедняга, — обратился он к Доржу. — Пойдем, выручим приятеля. И они с Доржем вышли из дому. По дороге Дамдин стал вдруг декламировать нараспев:VI
С вокзала, где он встречал вечерний поезд, Батчулун возвратился в плохом настроении. С этим поездом должна была приехать Норжма, но не приехала, а лишь прислала записку с проводницей. Ребята ждали его за накрытым столом. И были очень удивлены, что он пришел один. — А где же Норжма? Батчулун протянул Дамдину записку Норжмы. — «Я рассчитывала, — прочел вслух Дамдин, — обязательно приехать сегодня вечером. Однако не получилось. У моего сменщика, Тумур-гуая, рожает жена. Он до сих пор у нее. Просил меня поработать вместо него, обещал вернуться как можно быстрее, но, видимо, не смог. Что делать, рождение ребенка — это ведь немаловажное событие. Не портить же ему праздник. А оставлять узел связи тоже нельзя. Вот я и вынуждена пропустить вечерний поезд. Желаю весело отпраздновать Новый год. А завтра утром я постараюсь приехать. Шлю вам всем новогодний привет и поздравления. Очень сожалею, что не смогла приехать сегодня вечером. Норжма». Да, нехорошо вышло, — заключил Дамдин. — А я думал, что сегодня мы и Новый год встретим, и свадьбу Батчулуна с Норжмой сыграем. — Ничего, наша свадьба обязательно состоится, и мы ее как следует отпразднуем, друзья! — ответил Батчулун. — Прекрасно, значит, будет повод собраться еще раз. Можно и в скором времени, но лучше, если после холодов. А то сегодня вечером зверский мороз. Как бы в подтверждение этих слов в комнату вошел весь белый от инея Жаргал. Жаргал сегодня был главным героем — именно он должен был завершить выполнение годового плана. Договорились, что он придет сразу после окончания смены. Ребята встретили его горячими приветствиями, Жаргалу полагалось бы радоваться вместе со всеми. Однако признаков веселья он не проявлял. Наоборот, сняв пальто, он опустил голову и молча подсел к столу. — Чепуха какая-то! — сказал вдруг он. Ребята, уверенные, что план наверняка уже выполнен, поначалу даже не обратили внимания на его огорченный вид. Да к тому же все знали характер Жаргала. — А что с Сурэном? — спросили его. — Сказал, что придет позже, ему надо зайти домой. — Поссорились, что ли? — Когда это было, чтоб мы ссорились? Разве что после смерти повздорим... — Тогда что же с Сурэном? — Не приставай, сказал — придет, значит, придет. Батчулун, прожив с Жаргалом в одной комнате несколько лет и хорошо изучив его, первым почувствовал неладное. Он подсел к Жаргалу и спросил ласковым голосом: — Вы пришли на работу без опоздания? — Без опоздания. — Ну, а сколько тонн дали? — Ни одной... — Как ни одной? Почему? — Карьер закрыли. Температура упала ниже сорока градусов, да к тому же еще и туман. Мы подождали, подождали, а потом решили, что за ночь не потеплеет, и закрыли карьер. — Кто это такое решение принял? — Там все начальство было, оно и решило. Сообщение Жаргала потрясло собравшихся. Только Батчулун не утратил самообладания. Оглядев всех по очереди, он сказал: — Ну и дела! Значит, наш Новый год, к которому мы так готовились, срывается, да? Довчин промолчал. Молчали Дорж и Дамдин. — Надо же, — наконец заговорил Довчин, — мы почти у цели, и вдруг — помеха! Мы тоже виноваты — не следовало затевать все это, раз не были уверены, что выполним план. — Мы думали, все сделаем, — вмешался Дорж. — Индюк тоже думал, да в суп попал. Надо было еще и еще раз все проверить. — Да, кажется, мы несколько поторопились со встречей Нового года. — Ну, елка там, украшения, — вступил в разговор Дамдин, — это все может подождать до тридцать первого. — А вот что делать с едой и питьем? Предлагаю рассматривать это как аванс. Ведь получаем же мы каждую первую половину месяца аванс, не так ли? — Однако это тебе совсем не аванс, — сердитым голосом оборвал его Довчин. В этот момент раздался стук в дверь. Батчулун нехотя пошел открывать. Щелкнул замок, в передней послышался стук каблучков, и в комнату не вошла, а прямо-таки вплыла Дашма. Никто бы не узнал ее, такая она была нарядная. — Ну, как вы себя здесь чувствуете? — спросила она, окинув взглядом комнату, елку, накрытый стол и мрачных гостей. — Кто же из вас руководил всем этим? — Батчулун. — А кто украшал елку? — Ну, я, — сказал Дамдин. — Не ври. Такие, как ты, дырку в бумаге и то проделать не могут. Наверное, всей бригадой поработали. Что у вас на вид неплохо получилось. А вот что на столе будет — это еще надо попробовать. И она, стуча каблучками, направилась на кухню. — Вот это да! — только и мог вымолвить Дамдин. «Что с ней случилось — не пойму! — подумал Батчулун. — Со мной поссорилась — еще куда ни шло, но ведь всех ребят разругала на чем свет стоит. А теперь вдруг явилась! И к тому же на целый час раньше. А узнает, в каком положении мы теперь оказались, разозлится, наверное! Ладно, семь бед — один ответ. Хорошо еще, что в комитете ревсомола нам не будут говорить таких горьких слов, каких мы наслушались от Дашмы-гуай. Из кухни донесся грохот крышек. Затем в дверь просунулась голова Дашмы. — Говорили, кажется, что к восьми собираться. — Да, кажется, к восьми. Дашма вышла из кухни: — Как это понимать? Кажется или точно? — Точно. — Ну, раз к восьми — точно, значит, ровно в восемь и надо начинать. Сколько бы к этому часу ни собралось гостей, двое ли, двадцать, все равно. Представители администрации Шарын-Гола в моем лице присутствуют, и достаточно! Надо научить опаздывающих уважать других. Она снова вернулась на кухню. В это время пришел Сурэн. Он действительно, прежде чем идти сюда, заходил домой. Жаргал, который до прихода Сурэна сидел в углу и не проронил ни слова, сразу оживился. — Явился, значит! Сначала убежал куда-то, а сейчас явился! — На обратном пути я встретил инженера Цагандая. «Получается, — говорю я ему, — что мы не сможем отметить встречу Нового года». А он в ответ: «Обязательно сможете. Иди сейчас прямо к ребятам. Скажи им: можно встретить Новый год!» Но я думаю, он что-то путает. Плана ведь у нас нет... — сказал Сурэн и замолчал. Дашма слышала Сурэна краем уха. Заинтересовавшись, кто всё это говорит, она снова прибежала из кухни. — Кто пришел? — спросила она. Однако никто ей не ответил. И она снова исчезла.VII
Полчаса они совещались. Говорили шепотом, чтобы Дашма не услышала. Дамдин старался уговорить ребят принять его предложение об «авансе». Однако никто его не поддержал. Особенно резко возражал Довчин. — Мы предпочитаем, — говорил он, — полный расчет и тебе советуем не надеяться на авансы, а получать, так сказать, получку сполна в конце месяца по итогам работы. — В таком случае, Батчулун, я пошел, — заявил Дамдин. — Куда это? — За отцом. Он ведь ждет, когда я за ним приду. — Этого только не хватает! — Хватает не хватает, а скоро восемь часов. Если я не приду — он рассердится. — Подумаешь — рассердится! У нас, кажется, есть неприятности покрупнее. — Конечно! Но обижать старика ни к чему! Меня он за это, конечно, не отшлепает, но обидится наверняка. И Дамдин, накинув пальто, выскочил на улицу. — А что, если нам представить все это как встречу отца Дамдина? — сказал вдруг Дорж. — Праздник в его честь! Что в этом плохого? У всех есть родители. К одному из нас приехал отец, значит, это радость для всех. Что скажете? — Дело не в этом, ребята, — немного подумав, ответил Батчулун. — Радоваться приезду отца Дамдина хорошо, но дело в том, что мы своих обязательств не выполнили, слова своего не сдержали, а уже устраиваем новогодний вечер. Что будут говорить об этом в комитете? Что скажут приглашенные нами уважаемые люди? Наконец, что расскажет о нас отец Дамдина, когда вернется домой? Разве не стыдно нам будет, когда земляки узнают, как мы работаем? Вот в чем суть. Из кухни снова появилась Дашма. — Ты тут, оказывается, целую речь произнес. Что, уже началось празднество? — Да, Бутчулун прав, нам только недоставало, чтобы Дамдин своего отца привел, — не выдержал Сурэн. Когда Дамдин прибежал домой, его отец сидел за столом, накинув на плечи праздничный дэл, и курил трубку. — Наконец-то ты пришел, — обрадовался он. — Неудобно будет, если мы опоздаем. — Он посмотрел на часы. Ему вдруг показалось, что они остановились. Удивленный, он поднес их к уху, прислушался — нет, идут. — Не было случая, чтобы мои часы остановились... Ну, что ж, пора идти. Сделав еще несколько затяжек, отец вдруг загадочно улыбнулся. «Как ему сказать о наших неприятностях?» — с тоской подумал Дамдин. — Все в порядке, папа! Мы отметим Новый год, как договорились. Гостей наприглашали — как же можно не отмечать? — Иногда можно! Ничего страшного! Даже, наоборот, хорошо может быть... Помнишь Гангасурэна, того, что перевели в учетчики, когда ты уезжал сюда? — Помню, вы говорили, что его могут перевести. — И перевели. Скандал в ту осень большой был. — Какой скандал? — Был Гангасурэн звеньевым в сенокосной бригаде. Так вот, когда его звено вроде бы на неделю раньше срока закончило покос, они решили отметить это событие. Сегодня, мол, погуляем, а завтра разъедемся по домам. Звеньевой хлопотал и шумел больше всех: айрак-де им нужен, барана зарезать надо, люди, мол, сколько ночей не досыпали, пусть хоть денек отдохнут, погуляют. Ну, ладно, все они устроили. Хорошо выпили, закусили, а тут в разгар танцев нагрянул к ним председатель объединения и давай еще раз как следует подсчитывать, сколько они там накосили. Оказалось, что план они не выполнили. Учинил им председатель разнос: праздник закрыл. Позору было — не оберешься. А ведь они сделали это без злого умысла. Никого обманывать не собирались, просто плохо посчитали: однажды дневную выработку записали дважды. Ну, а Гангасурэна чуть ли не исключили из ревсомола за это. Всякую работу надо доводить до конца, — после минутного молчания продолжал отец. — Подводить итоги надо точно и аккуратно. Вообще в любом деле надо быть аккуратным и обстоятельным. А ты очень легкомысленный человек. Мы с матерью тебе об этом много раз говорили. По сравнению с тобой Гангасурэн — воплощение серьезности. И то, видишь, как ошибся. — Что же теперь делать, папа? — Как что делать? Вести меня на вашу новогоднюю встречу, не так ли? — Отец поднялся и надел дэл. — Ну, что ж, пошли. Весь путь до дома Батчулуна Дамдин шел молча, не зная, что сказать отцу. Его товарищи также не решились объяснить все Дашме. Поэтому, когда Дамдин с отцом пришли к Батчулуну, женщина все еще продолжала греметь посудой в кухне. Войдя в комнату, отец Дамдина, улыбнувшись, приветливо оглядел всех собравшихся. — Ну, что же, здравствуйте, дети мои. — Здравствуйте, — хором ответили те, но уверенности в их голосах не чувствовалось. Чтобы разрядить обстановку, Батчулун позвал Дашму. — Дашма-гуай, познакомьтесь, это отец нашего Дамдина. — Вот как! Здравствуйте. Вы, конечно, пришли на встречу Нового года? — Кажется, да... — Она скоро начнется. А пока не угодно ли вам подождать здесь? Еще должны подойти приглашенные. Пожалуйста сюда! — И Дашма проводила старика на кухню. Там между ними завязался разговор, говорили громко, в комнате все было слышно. — Вы давно приехали? — Всего день как здесь. — Я работаю контролером. Ребята сказали, чтобы я пришла к ним сегодня вечером. Я решила прийти пораньше, посмотреть, не надо ли им чем-нибудь помочь. Но они молодцы, почти все сами приготовили. — Это хорошо, что они такие самостоятельные стали. Привыкли жить вдалеке от дома, от родителей. А то раньше баловнями были, ну и мы, родители, виноваты в этом — баловали их всячески, вот и росли они большими шалунами... — Пошалить они и сейчас любят. Соберутся вместе — шуму не оберешься. Особенно под Новый год всякие штучки любят выкидывать. «Уже выкинули», — мысленно усмехнулся Батчулун, и ему представилось, что Дашма с отцом Дамдина выйдут вот сейчас из кухни и Дашма скажет: «Так над кем вы решили подшутить сегодня? Кого обманываете? Членов комитета?! Такой обман — преступление». А Сурэн, как самый решительный из них, ответит: «Мы уже свою шутку сыграли». — «Над кем? Неужели надо мной и этим стариком?» — «Да, вы попались». — «Это вы бросьте! Знайте, что меня так просто не обманешь. Просто вам захотелось позабавиться. Что же, валяйте! Сегодня ведь праздничный вечер, все можно. И я пришла с намерением хорошо повеселиться. А завтра утром поговорим, если вы меня действительно надули, я вас всех поколочу половником...» Батчулуну даже показалось, что Дашма уже схватила половник...VIII
«Остается одно — сказать правду и перенести встречу на завтра, — решил Батчулун про себя. — И когда только мы научимся держать свое слово? А сейчас придется сказать, как обстоят дела на самом деле, что рассчитывали уложиться в срок, ведь никогда прежде не случалось, чтобы закрывали карьер. И все наши расчеты сорвались, извините». Тревожные мысли, однако, не мешали Батчулуну продолжать прислушиваться к беседе Дашмы и отца Дамдина. — У нас здесь много хорошей молодежи, — говорила Дашма. — Несколько сот человек, и все отличные ребята. Активисты. Я, правда, вот этих, что в комнате, иногда крепко ругаю... для порядка, особенно когда они по дороге на работу изволят шутить со мной. Однако зла не держу. Наоборот. В душе я их очень люблю. Только подумать, — они ведь совсем недавно пришли на карьер, а уже опытными рабочими стали. Двое женились, а их старшой — бригадир Батчулун — тоже, кажется, из Дархана невесту ждет. Правда, она почему-то не приехала сегодня, он бегал встречать ее на вокзал. А взять, к примеру, Довчина. Молод еще, а рассудителен: говорит, кончит горный техникум, тогда и женится. — Однако некоторые из них недостаточно серьезны — не понимают еще сути вещей. — А что с них требовать? В их возрасте это неизбежно. Ведь самому старшему едва двадцать стукнуло. А с вашим сыном Дамдином я только недавно познакомилась. Славный парень, добрая, чистая душа, однако тоже легкомысленный. Станет постарше, остепенится... — Самое страшное для таких, как он, — гулянки. Не дай бог, станет «душой общества», тогда пиши пропало. — Нет, это вы зря, ребята не так часто гуляют. Ну, в кино, конечно, сходят. И то изредка. Может, потому что подолгу показывают одни и те же картины, а что до гулянок, так они даже на Новый год и то лишнего не позволяют: водки не пьют, вот разве что хорошо поесть любят. Слова Дашмы подействовали на ребят. Батчулун вообще весь ушел в себя: «Все мы — законченные шалопаи, ветреные, легкомысленные... Плана не выполнили, итоги как следует не подвели, а шумиху подняли: Новый год, Новый год! И во всем этом прежде всего виноват я. А мороз, что остановил работу в карьере, тут ни при чем! Ох, и достанется нам в комитете! Ославят на весь карьер...» Батчулун обвел взором комнату. Дамдин сидел на диване и осторожно, еле слышно, перебирал струны гитары. Довчин возился у елки, делая вид, что хочет там что-то подправить... Дорж глубоко задумался. Все были расстроены. Да и как можно было оставаться спокойными! В довершение всего из кухни донесся голос Дашмы: — Эй, ребята! Уже почти восемь! Ваши гости не пришли еще? Что за народ вы наприглашали! — Всего двое должны еще прийти! — ответил Батчулун со вздохом. — И правда, у нас не так-то уж много гостей. Давайте скажем им все по-честному, — предложил Дорж. — Ведь главная причина не в нас: мороз, да еще туман. Не наша вина! Еще никто не научился управлять погодой. Мы бы завершили план еще сегодня к полудню, не будь всего этого и если бы не закрыли карьер. — Мороз виноват или еще что-нибудь, но факт остается фактом — план мы не выполнили, — отрезал Батчулун. — Праздновать в этом положении Новый год позорно. Лучше рассказать всем правду и отложить встречу. — Тогда вообще позор будет, — произнес Дамдин. — Стыдно перед отцом. Тут скандал выйдет похуже, чем... — Он вспомнил рассказанную отцом историю с Гунгасурэном. — Я вижу, никто из вас не отважится сказать Дашме-гуай и отцу Дамдина правду, — заключил Батчулун и встал было, чтобы пойти в кухню, как вдруг раздался стук в дверь. Никто не двинулся с места. Батчулун неуверенно двинулся в переднюю. — Кто там? — спросил он. — Это мы! Цагандай... Батчулун открыл дверь, и в квартиру ввалилась целая толпа гостей: инженер Цагандай, один из членов комитета ревсомола, несколько парней и девушек, среди них жены Сурэна и Доржа. То ли они случайно встретились по дороге, то ли договорились прийти вместе — неизвестно. Только квартира сразу наполнилась весельем и радостью. Под мышкой у члена комитета Батчулун заметил две папки в красном переплете. — С наступающим Новым годом вас! — Рановато, правда, но ничего! — А, Сурэн! — Цагандай обнял Сурэна. — Ты ведь говорил, что не будешь встречать Новый год, побежал домой, а потом, значит, пришел все-таки... — Здравствуй, Жаргал, ты тоже встречаешь Новый год? — Не знаю... — Послушайте, друзья! Ведь этот Новый год у вас, по существу, первый Новый год. А сколько их еще будет! Желаем вам всем успехов в вашем первом Новом году! — Привет, Довчин! — Наш Новый год — неважный, неудачный совсем Новый год, — сказал Довчин. — Зачем такие плохие слова говоришь! — Да, получилось так, что мы не смогли уложиться в срок с программой. — Правда, — тотчас поддержал Довчина Батчулун. — Так оно и получилось. Вечером ударил сильный мороз. Карьер закрыли. Вот мы и не успели дать на-гора сто тонн, которых нам не хватало до выполнения плана. Ну, а когда план не выполнен — какой может быть новогодний праздник! Решайте сами — мы не хотим ничего скрывать. Батчулун видел, как из кухни вышли Дашма и отец Дамдина. — Ах, вот почему у вас всех такие постные лица, — сказал Цагандай. — А я-то дивился! И правда, когда до плана не дотянули — Новый год отмечать нельзя. Обманывать товарищей тоже нельзя. Такого среди нашей замечательной молодежи быть не должно, не так ли? — Конечно, так, — воскликнули все. — Кажется, речь идет об обмане? Ну, черти полосатые... — А, Дашма? И вы здесь? — А как же? Меня пригласили. Более того, я хотела им помочь стол приготовить. — Это правда. — К ней подошел Батчулун. — Еще мой отец говорил: все тайное рано или поздно становится явным. Не выполнили мы своих обязательств. — Если все действительно так, — сказал Цагандай, — то это очень плохо. Но раз мы собрались и стол уже накрыт — не лучше ли всем вместе сесть за него? Что же, теперь хозяева будут сторониться гостей, а гости — хозяев? — Цагандай даже рассмеялся. Кто нехотя, а кто очень даже охотно, но все потянулись к столу и стали рассаживаться. — А в кухне кто остался? — спросил Цагандай. — Дашма-гуай и мой папа, — ответил Дамдин. — Твой отец приехал? Отлично. Зови его сюда. Дамдин пригласил отца к столу. Цагандай сердечно приветствовал старика и усадил его рядом с собой, по правую руку. — Друзья, — подняв бокал, сказал Цагандай, — замечательные, прекрасные события происходят в нашем карьере. У нашей молодежи рождаются новые традиции. Одна из них — это празднование Нового года. Вот возьмем смену Батчулуна. В этом году ребята из этой смены прекрасно трудились. Сейчас у них все идет хорошо. Рабочий человек в процессе труда должен постоянно расти, совершенствовать свои знания, квалификацию, приобретать качества, присущие только рабочему классу. В настоящее время эти ребята выдвинулись в число передовых производственников карьера. Они могут служить примером для остальных горняков. Впереди их ждут еще более вдохновенные дела. Однако следует сказать, что для того, чтобы сделать эту встречу Нового года более забавной и веселой, они решили подшутить. Но судьба сыграла шутку с самими заговорщиками, не так ли? При этих словах Дашма и отец Дамдина заулыбались, а Батчулун, наоборот, почувствовал себя очень неловко. — Мы правду говорим: так уж получилось, что годовую программу сможем выполнить только завтра вечером. Вот и отметим Новый год не пятнадцатого декабря, а с чистой совестью завтра или тридцать первого. Всех вас мы приглашаем на эту встречу, — решительно сказал Батчулун. — Батчулун, дорогой, меня-то ты не введешь в заблуждение! Понял?! — возразил Цагандай. — Что-то вы там напутали, но меня это не касается. Вчера вечером партком рассматривал ваши показатели. Еще вчера вы не только выполнили годовой план, но и перевыполнили его. Сто четыре процента — вот ваш показатель. Поздравляю всех вас! Верно, — продолжал инженер, — сначала у вас вроде бы была небольшая нехватка, но при окончательном подсчете оказалось, что вы перевыполнили план. Вот почему я и не поддавался вашему унынию. — И Цагандай снова рассмеялся. — Бюро парткома поручило мне от его имени поздравить вас. К тому же вы меня пригласили. Получается, что я пришел сюда и по вашему приглашению, и по поручению парткома. — В таком случае... — перебил его Дамдин. Но Дорж толкнул его локтем. — Помолчи, дай человеку договорить. Лица у всех засветились радостью. В громе аплодисментов встал Батчулун. — Большое вам спасибо, Цагандай-гуай! — только и сказал он. — За что «спасибо»? Это ваш успех, ваше достижение! Себя и благодарите! — Правду сказать, мы все очень расстроились! — Расстроились — это что! У вас могут быть и неприятности, и дни тяжелых переживаний, дни потерь. Но больше, конечно, у вас впереди радостных дней, вроде сегодняшнего. Так всегда бывает, когда люди растут! — Кажется, пришла пора вышибать пробки! — закричал » во весь голос Дамдин. — Какие пробки? — От шампанского! — И, наклонив бутылку, он стал снимать обертку. Все захлопали в ладоши, и шипящее шампанское полилось в бокалы. Праздник, который принес так много волнений и чуть было не сорвался, начался. В перезвоне бокалов, в шуме приветствий негромко прозвучал звонок телефона. Да, вы не ошиблись, это звонила Норжма. Из Дархана она горячо поздравляла и приветствовала всех присутствующих и особенно Батчулуна. Сказала, что завтра приедет.Япония
Ибусэ Масудзи
Ибусэ Масудзи (род. В 1898 г.) — известный японский писатель, член японской Академии художеств. Учился на отделении французской литературы университета Васэда и одновременно в художественном училище в Токио. Печатается с 1923 года (рассказ «Саламандра»). Литературную известность принес писателю роман «Скитание Джона Мандзиро по морям» (1937), удостоенный одной из крупнейших литературных премий Японии — премии Наоки. В 1941 году Ибусэ Масудзи был призван в армию. Опыт военных лет наложил глубокий отпечаток на дальнейшее творчество писателя (антивоенный сатирический рассказ «Командир, кланяющийся Востоку» (1950), роман «Черный дождь» (1965). «Черный дождь» — роман о трагедии Хиросимы. Выбранная автором форма — дневниковые записи очевидцев атомной бомбардировки — придает роману огромную убедительность: словно сам бродишь по улицам разрушенного города, окунаясь в людские страдания и беды. Автор показывает необратимость случившегося. Трагедия дает о себе знать и сегодня, спустя тридцать пять лет. Статистика показывает: из 22 485 хиросимцев, которые в момент бомбардировки находились в радиусе двух километров от эпицентра взрыва, к концу 1975 года от лучевой болезни скончались уже 11 727 человек, то есть 52,2 процента. Только за один 1976 год, например, от последствий радиоктивного облучения умерли более 2700 японцев. Болеют и дети тех родителей, которые были застигнуты бомбардировкой в Хиросиме. Обследование показало, что около 3000 представителей второго поколения жертв атомной бомбардировки, родившихся уже после окончания войны, страдают тяжелыми формами желудочных заболеваний, болезнями дыхательный путей, крови... Роман на первый взгляд не поднимает политических проблем, в нем почти не упоминается страна, совершившая чудовищное преступление против японского народа. И вместе с тем это глубоко злободневный роман, проникнутый пафосом борьбы против ядерной угрозы. В этом его непреходящая актуальность. В 1966 году за роман «Черный дождь» писатель был удостоен еще одной литературной премии Японии — имени Нома и награжден орденом Культуры. На русском языке роман печатался в сборнике «Восточный альманах» № 1 за 1973 год и выходил отдельным изданием в 1979 году (в серии «Зарубежный роман XX века»). РедакцияЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ Роман
Глава I
В последние годы на Сигэмацу Сидзума из деревни Кобатакэ тяжким грузом лежали заботы о племяннице Ясуко. И не было никаких оснований надеяться на облегчение — он знал, что ему придется и впредь нести двойное, нет, тройное бремя. Причина на первый взгляд казалась простой: Ясуко никак не удавалось выдать замуж. Кто-то пустил слух, будто в конце войны ее направили отбывать трудовую повинность в Хиросиму, она работала там кухаркой в трудовом отряде второй средней школы и попала под атомную бомбардировку. Поэтому жители Кобатакэ, деревни в доброй сотне километров к востоку от Хиросимы, убеждены были, что Ясуко больна лучевой болезнью, а супруги Сигэмацу, мол, это скрывают. Вот почему Ясуко так и не смогла выйти замуж. Если кто и приходил свататься, то тут же ретировался, узнав от услужливых соседей эту историю. В то памятное утро шестого августа, когда была сброшена атомная бомба, трудовой отряд второй средней школы находился то ли на мосту Тэмма, то ли на каком-то другом мосту в западной части Хиросимы. Школьники слушали указания инструктора. Внезапно вспыхнуло нестерпимо яркое пламя. По распоряжению инструктора обожженные школьники тихо запели «Уходим в волны морские». Затем последовала команда «Разойдись!», и вслед за инструктором все кинулись в реку. Было как раз время прилива, и вода в реке покрыла их с головой. Обо всем этом рассказал единственный уцелевший школьник, но и он прожил недолго. Разговоры о том, что Ясуко служила кухаркой в отряде второй школы в Хиросиме, были далеки от правды. Но даже если бы и были они верны, место кухарки — на кухне, а отнюдь не на мосту, откуда отряд бросился в воду. На самом же деле Ясуко работала курьером у господина Фудзита — директора текстильной фабрики в Фуруити в окрестностях Хиросимы. При чем же тут кухня второй средней школы? С тех пор как Ясуко поступила на фабрику в Фуруити, она жила у супругов Сигэмацу, которые снимали квартиру в районе Сэнда-мати, и вместе с дядей Сидзума каждое утро садилась в электричку, следовавшую до станции Кабэ. Ко второй школе она не имела решительно никакого отношения. Правда, один солдат, бывший выпускник второй школы, воевавший в Северном Китае, написал ей однажды письмо, в изысканно вежливой форме благодаря за полученный им на фронте подарок. Вскоре он прислал Ясуко несколько стихотворений собственного сочинения. Ясуко показала их жене Сигэмацу. — Да это никак любовные стихи, — удивилась та, и Сигэмацу заметил, как неожиданно покраснела его жена — в ее-то годы! Во время войны действовал указ о борьбе со слухами, и в квартальных комитетах следили даже за разговорами, которые вели между собой соседи. Когда же война окончилась, страну буквально наводнили всевозможные слухи о бандитских шайках, ограблениях, аферах, толки о подпольных военных складах, новоиспеченных миллионерах, о поведении оккупантов... Но проходило недолгое время, слухи исчезали, а разговоры забывались. Хорошо бы и болтовня о Ясуко имела такую же короткую жизнь... Но нет! Всякий раз, когда кто-нибудь сватался за Ясуко, вновь оживали разговоры о том, что она-де служила кухаркой в отряде второй школы в Хиросиме, когда была сброшена атомная бомба. Вначале Сигэмацу пытался разыскать источник этих несусветных сплетен. Среди жителей деревни Кобатакэ, подвергшихся атомной бомбежке, кроме Сигэмацу, его жены и Ясуко, оказались и ребята из отряда добровольного служения родине и трудового отряда. Отряды добровольного служения родине были укомплектованы из молодежи различных уездов префектуры. Юноши из Кобатакэ входили в отряд Кодзин, состоявший из представителей уездов Коно и Дзинсэки. В противопожарных целях они должны были разобрать некоторые дома в Хиросиме. На следующий же день по прибытии в Хиросиму, так и не успев приступить к работе, юноши из отряда Кодзин и трудового отряда оказались жертвами атомной бомбы. Все уцелевшие получили сильные ожоги; их отправили во временные госпитали в Миёси, Сёбара и Тодзё. И вот ранним утром того дня, которому суждено было стать последним днем войны, жители деревни Кобатакэ собрались провожать юношей из отряда добровольного служения родине в Миёси, Сёбара и Тодзё, где они должны были разыскать пострадавших и привезти их домой. Перед отъездом деревенский староста обратился к юношам со следующими словами: — Юные мои друзья! Вы уже немало потрудились на благо родины. Теперь вы едете на поиски своих несчастных односельчан. Они сильно обожжены. Постарайтесь не причинять им лишних страданий, когда будете везти их обратно в деревню. Враг применил новое оружие. Сотни тысяч беззащитных жителей Хиросимы приняли неслыханные муки. Один вернувшийся оттуда парень рассказывал мне, что крики сотен тысяч людей: «Помогите, помогите», — сотрясали небо. По пути домой он видел развалины города Фукуяма и пепелище на том месте, где стояла главная башня и летняя галерея Хиросимского замка. «Какой ужас — эта война!» — подумал парень. Но война есть война, вам надлежит выполнить важное задание: разыщите ваших боевых соратников и привезите их в деревню. Пусть каждый из вас бережет свою бамбуковую пику — этот символ решимости бороться до конца, до последней капли крови. Простите, что мы провожаем вас без надлежащей торжественности, к этому вынуждают нас обстоятельства военного времени. Закончив свое напутствие, староста повернулся к толпе провожающих, поднял обе руки и крикнул: — Ура в честь наших славных юношей! Ура! Ура! За околицей добровольцы разделились на три отряда. Один отряд двинулся в направлении Миёси, другой — к Сёбара, а третий — к Тодзё. Парни молчаливо шагали за телегами с вещами. Группа, направлявшаяся к Тодзё, остановилась передохнуть на полпути, в деревне Юки. Добровольцы присели у веранды крестьянского дома, близ дороги, и развязали узелки с едой. А тут как раз стали передавать по радио выступление императора, в котором он объявлял о капитуляции. Повернувшись к дому, все молча выслушали его речь. — Что-то староста разговорился сегодня утром, — промолвил возчик. Все разом загалдели, обсуждая, куда девать ненужные теперь пики. В конце концов решили оставить их в знак благодарности возле крестьянского дома, где они отдыхали. В Тодзё пострадавших от атомного взрыва поместили в большом ветхом доме. К ним приставили двоих санитаров, которые не имели, однако, никакого представления о том, как их лечить. Раненые валялись на циновках. Лица у многих были неузнаваемо обезображены. У одних полностью выгорели волосы, и обычный цвет кожи сохранился лишь у небольшой полоски на лбу, которая была, видимо, прикрыта хатимаки[97]. У других отвисли щеки, отвисли так сильно, что походили на дряблые старушечьи груди. К счастью, большинство раненых не лишились слуха, поэтому санитарам удалось выяснить их имена и фамилии. Эти имена и фамилии они писали тушью на обрывках одежды. Совершенно голым имена писали прямо на теле. Конечно, это был примитивный способ, и все же благодаря ему удалось навести некоторый порядок. А это было не так легко, потому что пострадавшие то и дело переползали с места на место. — Почему их не лечит доктор? — с удивлением спросил у одного из санитаров молодой доброволец. Санитар спокойно ответил, что врач не знает, как лечить, а рисковать не хочет; он никак не может понять, в чем причина страданий, шестерым он впрыснул пантопон, им стало чуточку легче, а на остальных пантопонане хватило. Обо всем этом рассказал Сигэмацу парень из отряда после своего возвращения из Хиросимы. К тому времени у самого Сигэмацу появились признаки лучевой болезни. Стоило ему чуть-чуть переборщить с работой в поле, как его разбивала странная слабость, на голове появилась мелкая сыпь. Волосы вылезали при первом же прикосновении и без всякой боли. Как только Сигэмацу становилось хуже, он прекращал работу, стараясь побольше отдыхать и получше питаться. Больные лучевой болезнью, как правило, испытывали те же самые страдания. Все они нуждались в отдыхе и хорошем питании. Те, кто через силу продолжал работать, постепенно слабели и гибли, словно сосенки, пересаженные неумелым садовником. В соседних с Кобатакэ деревнях таких было немало. Люди казались вполне здоровыми. Месяц или два они работали в полную силу, потом недуг укладывал их в постель, и спустя неделю, самое большее дней десять, они умирали. Первым симптомом болезни была специфическая боль, особенно резкая в плечах и пояснице. Участковый врач, осматривавший Сигэмацу, без обиняков сказал, что у него лучевая болезнь. Такой же диагноз поставил и доктор Фудзита из Фукуяма. К счастью, у Ясуко никаких признаков лучевой болезни не обнаружили. Ее много раз подвергали медицинскому осмотру, регулярно обследовали в диспансере, где состояли на учете больные лучевой болезнью. Все было в норме: лейкоциты, кровь, моча, РОЭ, гемоглобин. Ее выстукивали и выслушивали, но никаких нарушений здоровья не оказалось. Это было спустя четыре года и десять месяцев после того, как окончилась война. Как раз в то время к Ясуко посватался жених. Партия была завидная. О таком муже Ясуко, по чести говоря, могла только мечтать. Принадлежал молодой человек к почтенной семье, которая жила в деревне Ямано. Где этот парень увидал Ясуко — неизвестно, но он вскоре прислал свата, вернее, сваху. Ясуко дала согласие, и Сигэмацу, опасаясь, как бы сватовство и на этот раз не расстроилось из-за слухов о болезни Ясуко, получил у врача свидетельство о здоровье племянницы и отправил его свахе. — Теперь-то все будет в порядке, — сказал Сигэмацу жене. — У нынешней молодежи вошло в обычай перед женитьбой предъявлять друг другу справки о здоровье, поэтому сваха ничуть не удивится. К тому же, слышал я, она замужем за отставным военным и наверняка знает новомодные городские обычаи. На этот раз все пройдет без сучка и задоринки. Однако последующие события показали, что в рассуждениях Сигэмацу были слабые места. По-видимому, сваха уже успела справиться у соседей о здоровье Ясуко, и вскоре Сигэмацу получил письмо, в котором она просила подробно рассказать, где находилась и что делала в Хиросиме Ясуко, когда была сброшена атомная бомба. Сваха, правда, утверждала, что действует по собственной инициативе, жених об этом ничего не знает. Сигэмацу понял: надо что-то срочно предпринять. Прочитав письмо, жена молча передала его Ясуко. Некоторое время девушка сидела, опустив глаза, потом поднялась с циновки и ушла в кладовую. Жена последовала за ней. Когда спустя несколько минут Сигэмацу заглянул в кладовку, жена сидела на полу, склонив голову на плечо Ясуко, и обе они беззвучно рыдали. — На этот раз я дал промашку, — сказал Сигэмацу. — Но как можно верить всяким слухам?.. Ну, ладно, ничего, мы еще что-нибудь придумаем. — Сигэмацу пытался говорить уверенно, но чувствовалось, что уверенность эта наигранная. Ясуко тихо встала, вытащила из сундука толстую, украшенную изображением флагов тетрадь и молча передала ее Сигэмацу. Это был дневник, который девушка вела в 1945 году во время своего пребывания в Хиросиме. Записи она вносила ежедневно, обычно после ужина, сидя за круглым китайским столиком. Как правило, девушка делала сначала короткие записи — строк пять-шесть, не больше. Через несколько дней на основе этих заметок она подробно описывала происшедшие за это время события. Этому научил ее Сигэмацу, который вел дневник много лет. Жизненные обстоятельства складывались так, что Сигэмацу обычно возвращался домой поздно, усталый и сонный. В такие дни он ограничивался лаконичными записями, а потом, в удобное время, писал обо всем подробно. Короче говоря, дневник Ясуко был написан в стиле, который Сигэмацу окрестил: «быстрые записи и вдумчивые размышления». Сигэмацу решил переписать дневник Ясуко и отправить его свахе, чтобы доказать беспочвенность распространявшихся о ней слухов. Ниже следуют записи нескольких дней, начиная с пятого августа 1945 года.«5 августа.
Попросила директора завода Фудзита отпустить меня назавтра с работы, пришла домой и занялась упаковкой вещей. Увязала в соломенную циновку теткины вещи: летнее и зимнее выходные кимоно с гербами, три оби[98], три зимних кимоно (среди них шелковое в желтую полоску, которое, как мне сказали, надевала еще прабабушка, когда была невестой. Вещь очень дорогая), потом вещи дяди, четыре летних кимоно, его зимнее и летнее кимоно с гербами, праздничную хаори[99], два зимних европейских костюма, одну белую сорочку, один галстук, диплом, мои зимнее и летнее форменные платья, два оби, диплом. В сумку я положила три го[100] риса, дневник, авторучку, печатку, сурьму и платок. («Все вещи, упакованные в циновку, мы получили в Кобатакэ через год после окончания войны». — Сигэмацу.) В полночь объявили воздушную тревогу, пролетела, не сбросив бомб, эскадрилья Б-29. В три часа утра — отбой. С ночного дежурства вернулся дядя. Рассказал, что накануне бомбардировщик, пролетая над Кобатакэ, сбросил листовки. «Не думайте, что мы забыли о городе Футю. Скоро прилетим». Под некоторой игривостью таилась угроза. Неужели будут бомбить и Футю? Один наш знакомый, приехавший из префектуры Яманаси, рассказывал, что незадолго до бомбежки города Кофу американцы сбросили брошюры на меловой бумаге, в которых расписывалась веселая и сытая жизнь японцев то ли на Сайпане, то ли на другом острове, оккупированном американской армией. Сейчас в Хиросиме меловую бумагу днем с огнем не сыщешь. В половине четвертого легла спать.
6 августа.
В пять тридцать утра за нами приехал на грузовике Нодзима. Проезжая через Фуруэ, мы увидели яркую вспышку пламени, потом услышали ужасающий грохот. Над Хиросимой, как при извержении вулкана, повисло черное облако. На обратном пути мы ехали через Миядзу, там пересели на рыбацкую лодку и поплыли к мосту Миюки. Тетя не пострадала, у дяди на лице легкая рана. Разрушения страшные, и представить их во всей полноте еще трудно. Наш дом покосился, поэтому пишу у входа в противовоздушную щель.
7 августа.
Вчера собирались было переселиться в общежитие завода в Удзина, но это оказалось невозможным. По предложению дяди эвакуируемся в Фуруити. Тетя едет вместе с нами. Глядя на сгоревшую Хиросиму, дядя не смог сдержать слез. Теперь это город пепла, город смерти. Кругом громоздятся горы трупов — безмолвный протест против бесчеловечности войны. Сегодня подсчитывали ущерб, нанесенный заводу бомбардировкой.
8 августа.
Утром варили рис для рабочих. Днем нам сообщили основные пункты инструкции по управлению заводом, принятой на совместном совещании правления, в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
9 августа.
Сегодня прибыла еще одна партия пострадавших. Некоторые из них не имеют никакого отношения к заводу. Почти все ранены, одеты кто во что. Один из беженцев прижимал к груди урну с пеплом родственника. Эту урну он привязал к карнизу за окном, непрерывно повторяя: «Намуамидабуцу, намуамидабуцу»[101]. Пожилой, с грубыми чертами лица мужчина раздавал беженцам почтовые открытки, приговаривая с мрачным юмором: «Берите, не стесняйтесь. Сообщите своим близким, что вы живы и вполне здоровы. Могу принести сколько угодно открыток — я сам их делаю. Но только никому ни слова». Эти открытки он утащил, наверное, с разрушенной взрывом почты. Час дня. Все отдыхают, многие спят. Постепенно возвращается способность к размышлению. Решила подробно записать все, что произошло, начиная с 6 августа. Утром в половине пятого приехал Нодзима, и мы погрузили в его грузовик вещи, которые надо было отправить в деревню. Рядом с вещами, в кузове примостились жены Нодзима, Миядзи, Ёсимура, Дои — наши соседки. В пять тридцать мы отправились в путь. По дороге из Кои в Фуруэ, посреди просяного поля, мы увидели большую лиловую куклу в человеческий рост. Нодзима сбавил скорость и постучал в заднюю стенку кабины, как бы говоря нам, сидевшим в кузове: — Взгляните, какая странная штука! Кукла — вероятно, это было пугало — походила на глиняное изваяние: так рельефно были вылеплены лицо, руки и ноги. На бедрах висела травяная циновка. При более внимательном рассмотрении я решила, что кукла изготовлена из папье-маше. — Наверное, это пугало привезли откуда-нибудь с юга, — предположила жена Нодзима. — А мне кажется, это манекен. Только он потемнел от дыма, который поднялся при взрыве нефтяной бомбы, — возразила Миядзи. — Да? А я-то подумала, что это обгоревший человек, только говорить об этом не хотела, — сказала Дои. Около шести тридцати мы прибыли в Фуруэ. Окна в крестьянских домах были еще закрыты ставнями. Но родители жены Нодзима уже дожидались нас у сарая. Мы сгрузили вещи и внесли их в сарай. Жена Нодзима выдала нам для порядка расписки, пригласила всех в дом и угостила чаем. Вместо сладкого она подала огурцы с бобовой пастой. Старики были очень любезны. По всему видно, что своего зятя Нодзима они считают опорой семьи. Тесть вышел во двор и принес в корзинке добрый десяток персиков. — Попробуйте, — предложил он, — правда, еще не совсем спелые, но зато холодные с ночи, после росы. Он сказал, это сорт «окубо». Персики и в самом деле были еще зеленые. Старуха очистила их и подала на стол. Сам Нодзима и его жена старались дружить с соседями. Ходили слухи, будто Нодзима водил дружбу с неким ученым из «левых» по имени Мацумото. Поэтому во время войны Нодзима остерегался давать повод для доносов. Мацумото окончил университет в Соединенных Штатах и до войны переписывался с американцами. Не потому ли в последнее время его так часто вызывают в полицию? Мацумото старался всегда ладить и с городскими властями, и с чиновниками из префектуры, и с членами отрядов гражданской обороны. Когда объявляли о воздушном налете, он первым выскакивал на улицу и оповещал всех криком: «Воздушная тревога, воздушная тревога!» Мацумото всегда ходил в гетрах и не снимал их даже дома. Говорят, будто маститый ученый предлагал свою помощь в обучении женщин искусству владения бамбуковыми пиками. Поистине трогательная забота. Однажды, когда зашел разговор о Мацумото, дядюшка Сигэмацу сказал: — Видимо, в этом мире что-то не в порядке, если такой человек, как Мацумото, вынужден лебезить перед чиновниками. Говорят, что и прогулочная яхта бывает иногда нагружена редькой, но эта поговорка, пожалуй, здесь не подходит. Полководцу Ямамото Кансукэ[102] приходилось одно время выращивать цветы, но и здесь, пожалуй, мало общего с действиями Мацумото. Нельзя его считать и приспособленцем. Просто он опасается, как бы его не заподозрили в шпионстве. Сейчас это особенно страшно. Но вот что я вам скажу. У каждого мужчины в жизни бывает момент, когда он должен поступить, как подобает мужчине. Можете не сомневаться, что Мацумото не опозорится. Такой человек, как Мацумото, мог бы при желании эвакуироваться, но он боялся обвинения в шпионаже и изо всех сил старался угодить жителям своего квартала. Если такие же причины руководили поступками Нодзима, то пользоваться этим, заставлять его гонять взад-вперед грузовик да еще хранить наши вещи было не очень честно. К тому же мои вещи, диплом и все прочее до войны представлялись бы Нодзима ненужным хламом. У родителей жены Нодзима был обширный дом. «Сколькими же акрами, нет, десятками акров владели они!» — думала я, глядя на небольшую скалу у забора. В этот момент сирена возвестила отбой воздушной тревоги. Стрелки на моих часах показывали восемь. Обычно в это время над Хиросимой пролетал американский метеоразведчик. Поэтому мы не обратили на приближающийся гул в небе никакого внимания. Соседские детишки гроздьями висели на бортах загнанного во двор грузовика и, болтая ногами, весело переговаривались. Старик, обещавший угостить нас зеленым чаем, принес на большом подносе все необходимое для чайной церемонии. Я была плохо знакома с тонкостями чайной церемонии и с любопытством наблюдала за его действиями. Как самую молодую, меня усадили на крайнее место. В комнате веяло приятной прохладой. Старик снял крышку с котла, в котором бурлил кипяток. В этот миг снаружи вспыхнул ослепительный бело-голубой свет. С быстротой молнии он распространился с востока на запад — от Хиросимы к холмам позади Фуруэ. Казалось, пронесся невероятно большой метеор. И почти одновременно послышался грохот. Старик удивленно вскрикнул. Все вскочили с циновок, выбежали наружу и спрятались кто за скалой, кто за деревьями. Дети спрыгнули с грузовика и гурьбой кинулись за ворота. Один мальчик упал на землю, с трудом поднялся и, волоча ушибленную ногу, заковылял прочь. Должно быть, его сбило воздушной волной. — За домом есть убежище, — сказал Нодзима, но никто туда не пошел, даже он сам. Из-за белой глинобитной ограды мы отчетливо видели огромный столб дыма, поднимавшийся высоко в небо над Хиросимой. Дым этот походил то ли на облако, то ли на гряду кучевых облаков с четко очерченными краями. Одно можно было сказать определенно: за всю свою жизнь я не видела ничего подобного. У меня задрожали колени, и я прислонилась к скале — возле расщелины, откуда выглядывал маленький белый цветок. — Какую-то необычную бомбу сбросили, — послышался из-за скалы голос Нодзима. — Опасность, наверное, уже миновала, — неуверенно произнесла его жена, и мы все начали потихоньку, словно пресноводные рачки, выползать из своих укрытий. Немного успокоясь, мы поспешили к воротам и стали глядеть в сторону Хиросимы. Столб дыма постепенно расширялся кверху. Мне вспомнилась фотография, запечатлевшая пожар на нефтехранилище в Сингапуре. Она была сделана сразу же после вступления японской армии. Зрелище было настолько ужасающее, что, глядя на снимок, я невольно задумалась, оправданны ли действия нашей армии. Дым поднимался все выше и выше, расползаясь в огромное плоское облако. Теперь он походил на чудовищно большой зонт, раскрытый над землей. «Б-29, вероятно, сбросил огромную нефтяную бомбу», — подумала я. Остальные женщины согласились с предположением Нодзима о том, что американцы применили новый вид оружия. Крытый соломой дом, который виднелся у подножия холма, обрушился. У многих домов осыпалась с крыш черепица. Нодзима о чем-то пошептался с тестем. Потом они уединились возле источника, снова посовещались, и только тогда наконец Нодзима подошел к нам и с решительным видом сказал: — Вы, конечно, беспокоитесь о своих близких. Если хотите, я могу отвезти вас обратно в Хиросиму. Моя жена тоже волнуется за оставшихся там детей. Глядя на чудовищное облако, расползавшееся по небу, я усомнилась в разумности его предложения. Однако женщины в один голос стали благодарить Нодзима, и в конце концов все решили немедленно выехать. Прощаясь с гостеприимными стариками, я вдруг заметила, что крышка от котла с кипятком валяется на камнях, обрамлявших дорожку у веранды. Каждому из нас бабушка дала в дорогу по свертку с рисовыми колобками, говоря: «Извините, пожалуйста, что угощаю вас простым рисом. Вот бы угостить вас просяными лепешками, которые взял с собой Момотаро, когда отправился покорять дьявольский остров Онигасима»[103]. Раздав колобки, она приказала старику слуге бросить в кузов несколько мокрых циновок на случай пожара. Мы отправились в обратный путь около девяти утра. Выехав на шоссе, мы увидели в небе над Хиросимой черные тучи и услышали грозный гул, похожий на раскат грома. Навстречу ехал велосипедист. Нодзима затормозил, знаком остановил его и стал о чем-то шептаться. Наверно, спрашивал о состоянии дороги. Говорил он тихо, стараясь не встревожить нас. На развилке Нодзима развернул грузовик и помчался в обратном направлении. На берегу моря, возле города Миядзу, он нанял у знакомого рыбака парусник, оставив в залог свой грузовик. Парусник, водоизмещением тонны в две с половиной, был чуть побольше обыкновенной рыбачьей лодки. Рыбак, очевидно, был человеком, на которого можно положиться. Да и наш Нодзима внушал всем доверие — с такой находчивостью он вывернулся из трудного положения. Женщины, словно сговорясь, не смотрели в сторону Хиросимы. И я тоже не отрывала глаз от видневшихся вдалеке островов Ниносима и Этадзима. Нодзима держал в руках большой сак и, то и дело перегибаясь через борт, вытаскивал всякий мусор. Ему, видимо, хотелось знать, что плывет из Хиросимы. «Эй, Таномура, сейчас вроде бы отлив?» — неожиданно спросил Нодзима у хозяина парусника, внимательно разглядывая выловленный им обломок дерева. Это был обломок доски шириной в три и длиной около шести дюймов. Чем дольше глядел на него Нодзима, тем сильнее омрачалось его лицо. Не в силах сдержать любопытства, я подошла к Нодзима, посмотрела на обломок и тут же отвела глаза в сторону. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять: это был кусок половой доски из коридора какого-то дома. Доска вся обуглилась, светлым на ней был лишь узор, изображавший гору Фудзи, парусник и сосну. После некоторого размышления я догадалась, что вспыхнувший над Хиросимой громадный огненный шар отпечатал на этой доске узор, украшавший матовое стекло в верхней части двери. А взрывная волна забросила ее в реку. И Нодзима это понял. Он размахнулся и бросил обломок в воду. Рыбак причалил свой парусник к правому берегу реки Кёбаси у моста Миюки. Высоко над рекой стлались клубы черного дыма, и трудно было различить, что происходит близ городской ратуши. Район Сэнда-мати не был охвачен пожаром, мы без помех высадились на берег, но тут же наткнулись на полицейский кордон. — Мы живем в Сэнда-мати. В доме остались дети. Пропустите нас! — кричала Дои. Но все было напрасно. Полицейские лишь повторяли: — Запретная зона. Проход закрыт. Сказано: возвращайтесь — значит, возвращайтесь. Нодзима отошел прочь, притворяясь, будто подчиняется приказу. Когда мы собрались вокруг него, он тихо сказал: — Идите за мной. Воспользуемся мудростью или, если хотите, хитростью древних. Поступим, как Осио Хэйхатиро[104]. Не отставайте. Юркнув в один из соседних домов, Нодзима прошел его насквозь по коридору с земляным полом, вышел через черный ход, затем, через черный же ход, вошел в дом напротив, миновал его, идя по такому же коридору, и выскользнул на широкую безлюдную улицу. Дома стояли покосившись, кое-где обвалились стены. — Какой ужас, — дрожа воскликнула Миядзи. Меня тоже всю трясло. Отдавая должное находчивости Нодзима, я в то же время представляла себе, как неприятно поражены были бы владельцы домов, увидев нас здесь. Но кругом не было ни души. И все же мое сердце колотилось сильнее всякий раз, когда я выходила из чужого дома, чем тогда, когда входила в него».
Глава II
Переписав дневник племянницы до этого места, Сигэмацу попросил Сигэко продолжить переписку. Почерк у жены был гораздо лучше. К тому же у Сигэмацу не хватало теперь свободного времени. Третьего дня вместе с Сёкити и Асадзиро он выпустил в садок мальков карпа и, хотя в этом не было никакой надобности, каждый день ходил к пруду, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Позавчера он ходил дважды, а накануне, несмотря на дождь, даже три раза. За ужином Ясуко сказала Сигэмацу: «Вы, дядя, ходите к пруду, будто на службу к самому Сёгуну»[105]. Сигэмацу ощущал глубокое удовлетворение, непонятное для непосвященных. Его не оставляло предвкушение чего-то радостного, то самое предвкушение, которое испытывает закинувший удочку рыбак. — Эй, Сигэко! — крикнул Сигэмацу перед уходом. — Мне пора идти на службу к Сёгуну, как говорит наша племянница. А ты пока переписывай дневник. Только пиши попроще, без всяких выкрутасов, а то сваха ничего не поймет. В это лето Сигэмацу и его друзья решили вырастить мальков, подкармливая рисовыми отрубями и куколками шелкопряда, а потом пустить их в большой пруд Агияма. Лучевая болезнь поразила более десяти жителей деревни. В живых остались только трое, среди них Сигэмацу. Эти трое спаслись благодаря хорошему питанию и отдыху. Разумеется, они не могли себе позволить валяться целыми днями в постели. Врач советовал ограничиваться самой легкой работой и побольше гулять. Но как же мог здоровый с виду мужчина прогуливаться без дела по деревенской улице? В их деревне такого сроду никто не видывал. Это противоречило всем исконным обычаям. — А не заняться ли вам рыбной ловлей? — предложили тогда терапевт из поликлиники и специалист-кардиолог из города Футю. — При легкой форме лучевой болезни это полезно для здоровья, да и лишняя еда не помешает. «С лодки, конечно, ловить аю[106] не следует: можно простудиться, лучше ловить с дамбы», — решили друзья. Одним ударом убиваешь двух зайцев. Когда удишь рыбу, мозговые клетки отдыхают, как во время глубокого сна. Одно плохо. Когда вполне бодрый и еще не старый человек сидит и удит рыбу, люди, которые в тот час не покладая рук работают в поле, смотрят на него косо. Однажды женщина из дома Икэмото высказала друзьям в лицо — и не без сарказма — все, что она о них думает. Дело было в разгар полевых работ, когда вся деревня занималась жатвой пшеницы и посадкой риса. В это же самое время начался хороший клев. Только что окончился дождь, небо прояснилось, и Сигэмацу с Сёкити, поудобнее устроившись на дамбе у пруда Агияма, закинули удочки. И тут-то послышался ехидный женский голосок: — Хороша погодка, да? Ограничься женщина только этими словами — все было бы в порядке, но ей показалось этого мало. Она поправила за спиной пустую корзину, притронулась к обмотанному вокруг головы полотенцу и продолжила: — У всех работы по горло, а они рыбку ловят. Счастливчики. — Что тебе нужно? — спросил Сёкити, не отрывая глаз от поплавка. — Я тебя по голосу узнал: ты Икэмото. Тут бы в самый раз и идти Икэмото своей дорогой, но нет — она подошла еще ближе. — Кого это ты называешь счастливчиками? Если нас, то считай, что ошиблась, здорово ошиблась! Так ошиблась, что дальше некуда. Пошевели мозгами, женщина, и подбери какое-нибудь более подходящее слово. — Сёкити говорил спокойным и вежливым тоном, но кончик удилища, которое он держал в руке, сильно подрагивал. — Послушай, женщина. Мы все больны лучевой болезнью и удим рыбу по предписанию доктора. А ты говоришь «Счастливчики». Вот я хочу работать. Но стоит мне чуть-чуть переборщить, как я начну гнить заживо. И тогда мне конец. — Стало быть, вам не так уж худо живется? — Что ты несешь? Заткнись! Нашла над чем шутить. Может, у тебя память отшибло и ты забыла, как меня жалела, когда я вернулся из Хиросимы. — Так ведь это когда было, Сёкити! Война еще не кончилась. В ту пору все так говорили. Зачем же ты напоминаешь мне об этом? Поссориться, что ли, решил? Ей бы самое время ретироваться, но она не собиралась покидать поле боя, упрямая, как та вдова, которая хотела, чтобы последнее слово непременно осталось за ней. — Ты говоришь, забыла, как жалела тебя. Ничего я не забыла. Это ты все забыл. Нехорошо попрекать людей за добро, которое они тебе делают. — Какое еще там добро? На что ты намекаешь? Может, ты считаешь этот пруд своим, потому что вашей семье поручена охрана шлюза? Если так, то ты глубоко ошибаешься. Все, кто имеет право пользоваться этой водой для полива, могут и рыбу ловить. Или ты не знаешь об этом? — Вот я и сказала вам, что вы счастливчики, ловите себе рыбу... — Ах ты, чертова кукла, опять за свое! — воскликнул Сёкити, пытаясь подняться. Но при его хромоте это было не так-то просто. Сёкити сидел на дамбе, и, чтобы не свалиться в воду, ему пришлось сначала перевернуться на живот, подтянуть к себе ноги, и только потом он смог встать. Тем временем женщина из дома Икэмото уже ушла далеко вниз по тропинке. Она нарочно сняла с одного плеча лямку, и при каждом шаге пустая корзина вызывающе подпрыгивала на ее спине. Вид у нее был развязно-игривый и в то же время независимый. — Слышал ты что-нибудь подобное, черт подери! — вскричал Сёкити, глядя ей вслед. В порыве возмущения он забыл, для чего пришел к пруду, и неистово заколотил удилищем по воде. — Никто уже ничего не помнит. И Икэмото запамятовала, как сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А вот нам не забыть этот ад. И кому теперь нужны все эти кампании протеста, которые проводят каждый год. — Замолчи, Сёкити, не надо так говорить!.. Гляди-ка лучше на поплавок. У тебя клюет. И правда, поплавок удочки, которой он только что колотил по воде, вдруг резко ушел под воду. Сёкити подсек, дернул удилище вверх и вытащил здоровенного карася — крючок застрял у него глубоко в горле. Неожиданная удача утихомирила Сёкити. В тот день ему, видимо, помогал сам бог — охранитель их краев, потому что он только успевал подсекать да вытаскивать карасей. В сумке у него оказалось добрых четыре килограмма рыбы. И все же после этого происшествия Сёкити и Сигэмацу перестали ходить к пруду Агияма. Третьим в их компании был Асадзиро, который, так же как и Сёкити, состоял в отряде добровольного служения. Симптомы болезни у него были такие же, что и у Сигэмацу. Стоило повозить тяжелую тележку или поработать в поле, как на голове, у корней волос, высыпали мелкие нарывы и сыпь. Нарывчики засыхали только после того, как он начинал питаться поплотнее, чаще ходить на рыбалку и больше отдыхать. Однако ел он не то, что ему рекомендовал участковый врач. Знакомый прижигатель моксой посоветовал Асадзиро питательное и дешевое меню. Трижды в день он съедал по две чаши супа из бобовой пасты с сушеной редькой и обязательно выпивал при этом сырое яйцо. Кроме того, один раз в день ел чеснок. Стены в кладовке Асадзиро были теперь увешаны связками сушеной редьки. Лечение же ограничивалось еженедельным прижиганием моксой. Асадзиро с самого детства любил рыбную ловлю. Он даже смастерил из бамбука замечательную ловушку. Вечером, накануне того дня, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба, Асадзиро отправился к мосту Сумиёси, спустился к реке и погрузил на дно свою бамбуковую трубку. На следующее утро он вместе с Сёкити пошел на работу. Воздушная тревога застала друзей около моста Сумиёси, они кинулись под мост и спрятались в лодке с навесом. Было время прилива, и глубина воды в реке достигала добрых двух метров. Вскоре дали отбой. Асадзиро вылез из лодки, извлек из воды свою бамбуковую трубку и снова скрылся под навесом, чтобы незаметно вытащить попавшегося в ловушку угря. Сёкити скользнул за ним под навес — старый залатанный кусок парусины, выкрашенной в ядовито-желтый цвет. Ловушка для угрей представляла собой двухметровую бамбуковую трубку, снабженную специальным устройством, которое придумал Асадзиро. Трубка была мокрая, и Асадзиро стал тщательно вытирать ее полотенцем. Внезапно полыхнуло бело-голубое пламя, раздался неимоверный грохот. Лодку развернуло, и она ударилась бортом о соседнюю. Сёкити кубарем покатился по днищу и больно ударился лодыжкой о борт. Оправясь от неожиданности, они заметили, что та часть бамбуковой трубки, которая выступала из-под навеса, обуглилась — то ли от ослепительного света, то ли от сильного жара. Когда трубку перевернули, из нее вытекло немножко теплой воды. Нос, корма и борта лодки обгорели, только металлический трос остался неповрежденным. Уцелел и желтый навес. Только это и спасло Асадзиро и Сёкити. Они не обгорели, не получили ожогов, хотя избежать последствий облучения им не удалось. Сёкити сломал себе ногу, когда стукнулся о борт, и хромает до сих пор. Обо всем этом друзья и рассказали Сигэмацу, когда он возвратился в Кобатакэ.———
Итак, Сигэмацу и его друзьям пришлось отказаться от рыбной ловли. Тогда-то Сёкити и предложил заняться разведением карпов. — Я все места себе не находил, думал, как бы утереть нос этой проклятой бабе из дома Икэмото. Вот и придумал, — повторял он. По правде говоря, ничего особенного в его предложении не было. Да и осуществить его было нетрудно. В сезон посадки риса купить на рыбоводческой ферме в деревне Токиканэмару мальков, запустить их в садок близ дома Сёкити, подкормить, а перед наступлением сезона тайфунов выпустить в большой пруд Агияма. Друзья решили скинуться и купить три тысячи мальков. — Вложим свои кровные денежки, и тогда никто уже не скажет, что мы занимаемся пустяковым делом. Неплохо бы только распустить слух, что купили мы двадцать, нет, двадцать пять тысяч мальков. Сигэмацу и Асадзиро приняли план Сёкити без каких-либо возражений. Асадзиро тут же отправился в деревенскую управу и получил разрешение на запуск мальков в большой пруд. Предоставляя разрешение, управа оговорила, что право на ловлю рыбы распространяется на всех членов ирригационного комитета. Асадзиро не протестовал. Для него и друзей главным было то, что они могли теперь без стеснения ловить рыбу в пруду. Как говорил Сёкити, ловля рыбы, на которую потрачены деньги, пусть небольшие, — это уже не развлечение, а работа. Врачи продолжали настаивать на ежедневных прогулках, но друзья всячески от них уклонялись. Занятие это было не из тех, в какое можно вложить капитал. Другое дело — побеседовать у обочины дороги или в полдень подремать у часовни — это, правда, тоже не требует капитала, но освящено вековыми обычаями. Получив заказ на мальков, молодой владелец рыбоводческой фермы в Токиканэмару самолично приехал на мотоцикле и тщательно обследовал весь пруд. Измерил температуру воды, сток, глубину, площадь, проверил, не загрязнен ли пруд химическими удобрениями, попадающими с полей, установил наличие естественного корма. Затем он вручил друзьям специальную карточку с пояснениями на английском языке, где были указаны количество и виды искусственной подкормки, необходимой для трех тысяч мальков. — Температура воды в пруду не ниже пятнадцати градусов в разгар зимы и не выше двадцати пяти в середине лета. Идеальные условия для выращивания мальков карпа. Лучших не придумаешь, — сказал он. Молодой рыбовод обследовал затем большой пруд Агияма и уехал. Спустя несколько дней он привез на грузовике цистерну с мальками и баллоны с кислородом. В цистерне плавали десятки тысяч мальков, которых рыбовод партиями развозил по близлежащим деревням для запуска в садки. Сёкити принес бамбуковую палку с нанизанными на веревку раковинами аваби[107] и воткнул ее у пруда, чтобы отпугивать хищных ласок. Увидев эти раковины, молодой владелец рыбоводческой фермы воскликнул: — Аваби! Они напоминают нам о прошлых днях. Старики, наверное, не могут смотреть на них без волнения. Он запустил в пруд ровно три тысячи мальков и уехал. Это произошло три дня тому назад, когда дул удушливо жаркий, насыщенный влагой ветер.———
Понаблюдав за мальками в садке и удостоверясь, что все в порядке, Сигэмацу отправился домой. Едва войдя во двор, он услышал лязг железа — вооружившись цепью, Ясуко очищала от сажи трубу в бане. Жена в это время таскала циновки из сада в кладовку. Завидев Сигэмацу, она остановилась. — Не пропустить ли нам ту часть в дневнике Ясуко, где она рассказывает, как попала под черный дождь? — спросила жена. — Ведь в то время никто не знал, что это был очень опасный дождь, а теперь все об этом знают. Боюсь, если мы перепишем все, как есть, сваха может вообразить себе невесть что. — Сколько ты тут переписала без меня? — Я хотела с тобой посоветоваться, поэтому и остановилась на том самом месте, где девочка рассказывает про черный дождь. — Выходит, ты не переписала ни строчки? Сигэко утвердительно кивнула головой. И вдруг воспоминания с такой силой навалились на Сигэмацу, что он едва не застонал под их тяжестью. На столе лежала толстая тетрадь и дневник Ясуко. Перелистав тетрадь и дневник, Сигэмацу убедился, что переписано менее одной пятой. — Черт бы побрал этот черный дождь и всех тех, кто может вообразить невесть что, а заодно и тех, кто всего боится, — ворчал Сигэмацу, принимаясь за переписку. «...Вначале мне показалось, будто уже смеркается, и только по возвращении домой я вдруг поняла: еще самая середина дня, — а темно потому, что все небо застлано черным дымом. Когда я вошла в дом, дядя и тетя как раз собирались отправиться на поиски. Бомбежка застигла дядюшку на станции Ёкогава. На левой щеке у него рана. Наш дом покосился, но тетя осталась жива и невредима, отделалась испугом. Дядя заметил у меня на коже какие-то пятнышки, похожие на брызги грязи. Белая кофта с короткими рукавами тоже была запачкана, и ткань кое-где расползлась. Испачкано было все лицо, кроме той части, которая была прикрыта капюшоном. Тут я вспомнила, как хлынул черный ливень, когда мы плыли на рыбачьей лодке, которую раздобыл Нодзима. Кажется, это случилось около десяти утра. Со стороны города надвинулось черное облако, сверкали молнии, громыхал гром, внезапно на нас обрушились струи дождя толщиной с карандаш. Хотя был самый разгар лета, стало так холодно, что мы все задрожали. Дождь вскоре прекратился. На меня нашло какое-то странное затмение. Почему-то вдруг почудилось, будто дождь полил еще в то время, когда мы ехали на грузовике. Почему он так скоро кончился, этот мерзкий черный ливень? Да и ливень ли это? Какой-то хитрый оборотень... Много раз мыла я руки родниковой водой, но никак не могла оттереть пятна — так крепко въелись они в кожу. — Наверно, это нефть. Не иначе, как на нас сбросили нефтяную бомбу, — сказал дядюшка Сигэмацу и, осмотрев мое лицо, добавил: — А может быть, это капельки ядовитого газа? Потом еще раз внимательно оглядел меня и высказал новое предположение: — Нет, это не ядовитый газ, а частички пороха. Должно быть, взорвался секретный пороховой склад недалеко от того места, где вы проезжали. Наверняка это дело рук шпионов. Я был на станции Ёкогава, когда произошел взрыв, долго шел по путям, но черного дождя и в глаза не видел. «Если это ядовитый газ, мне конец», — подумала я со страхом. И мне стало так грустно, что я чуть было не заплакала. Много раз ходила я к источнику и пыталась смыть пятна, но тщетно. Вот бы заполучить такую стойкую краску...» На этом заканчивались записи Ясуко от девятого августа. Сигэмацу хорошо понимал, что жена права, переписывать этот отрывок не стоит. Но что, если сваха потребует подлинный дневник? Тогда беда! Надо все это хорошенько обсудить, решил Сигэмацу. Шестого августа, около восьми утра, когда была сброшена атомная бомба, Ясуко была километрах в десяти от эпицентра. Никак не ближе. А он, Сигэмацу, — всего в двух километрах. Ему обожгло щеку, но он жив и здоров. Мало того, рассказывают, что многие девушки, которые тоже оказались на станции Ёкогава, не только уцелели, но и вышли замуж, завели детей. Пожалуй, есть смысл показать свахе дневник. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы помолвка Ясуко расстроилась и на этот раз. За последнее время девушка похорошела, налилась, как яблочко. В глазах такой блеск, что все только диву даются. Все время красоту на себя наводит — думает, никто не замечает. Нетрудно догадаться, как ждет она этого замужества, последний я буду человек, если не помогу племяннице, решил Сигэмацу. В конце концов его беспокойство прорвалось в крике: — Эй, Сигэко! Принеси-ка мой дневник. Ты его припрятала в комоде. Хочу показать его свахе. Неси дневник, да побыстрее! Орать было, разумеется, незачем. Сигэко сразу же принесла дневник из соседней комнаты. — Мне все равно надо его переписать. Для школьной библиотеки. Я им подарю свой дневник, вот только прежде хочу показать свахе. — Может быть, хватит с нее дневника Ясуко? — Ничего, мой кое в чем дополнит то, что она написала. — Зачем тебе лишняя работа? — Ничего, я человек привычный. А мой дневник теперь исторический документ, который будет храниться в школьной библиотеке. Сигэко ничего не возразила. Сигэмацу с довольным видом вытащил новую тетрадь и вывел начало:«Писано Сигэмацу Сидзума в августе 1945 года в городе Фуруити, район Аса, префектура Хиросима. Называется «Записи об атомной бомбардировке».
6 августа. Погода ясная
Каждое утро вплоть до вчерашнего дня один и тот же голос объявлял по радио: «Внимание! Эскадрилья бомбардировщиков Б-29 пролетает над морем в северном направлении в ста двадцати километрах южнее канала Кии». И когда сегодня утром сообщили: «Один самолет противника летит на север», — мы не обратили на это внимания. Сигнал воздушной тревоги стал для нас таким же привычным, как звук сирены, которая в былые времена оповещала о наступлении полудня. Утром, как обычно, я отправился на работу. Когда я подошел к станции Ёкогава, на платформе не было ни души. Электричка стояла, готовая к отправлению. Быстро пройдя мимо знакомого контролера, я вскочил в тамбур. — Доброе утро, господин Сидзума, — послышался за моей спиной женский голос. Я обернулся. Позади стояла владелица прядильной фабрики Такахаси. — Извините, что я обращаюсь к вам по деловому вопросу, — сказала она, заправляя под шляпку выбившуюся прядь, — но мне необходимо поставить печать на присланные вами вчера документы... В этот момент я увидел ослепительно яркий шар. И сразу же все окутала кромешная непроницаемая тьма. Эту тьму пронзили возгласы: «Пропустите!», «Выходите же!» Вопли, проклятия, стоны... Вывалившись под натиском толпы через противоположную от платформы дверь, я упал на что-то мягкое, вероятно, женское тело. Сверху посыпались люди. Я закричал, и где-то совсем рядом, словно эхо, послышался крик. С помощью нечеловеческих усилий я вылез из-под навалившейся на меня кучи тел. Спина моя уперлась во что-то жесткое. Это был край платформы. Расталкивая локтями людей, я взобрался на нее. Движущаяся куда-то толпа увлекла и меня. Я закрыл глаза. Шаг, другой, третий... Лоб мой ударился о что-то твердое. Передо мной был столб, который я тут же изо всех сил обхватил руками. Меня толкали то справа, то слева, но я не разжимал крепко сцепленных рук. Плечи пронизывала острая боль. Чтобы избавиться от нее, надо было отпустить столб, но какой-то инстинкт не позволял мне сделать это. И все время в голове у меня вертелось предположение, что в нашу электричку попала бомба с ядовитым ослепляющим газом. Наконец наступила тишина, и я медленно, с опаской открыл глаза. Все вокруг тонуло в светло-коричневой дымке, а сверху сыпалось нечто белое, напоминавшее пудру. На платформе — ни души. Там, где было скопление народа, теперь стало пусто — даже железнодорожники куда-то скрылись. Прошло, по-видимому, немало времени с тех пор, как я ухватился за столб. Сверху свисали оборванные провода. Я подобрал валявшийся рядом кусок доски и соединил два провода: искрения не было. Это меня не успокоило: идя по платформе, я осторожно раздвигал доской провода. Дойдя до забора, сооруженного из старых шпал, я перелез через него и оказался на улице. Моим глазам открылась ужасающая картина: почти все дома вокруг были разрушены. Внезапно я заметил впереди девушку, наполовину погребенную грудой черепицы. Разбрасывая черепицу, она громко вопила. Вероятно, ей казалось, будто она кричит: «Помогите», но из ее рта вырывался нечленораздельный, нечеловеческий вопль. — Эй, девушка, — обратился к ней похожий на европейца старик, проходивший мимо, — ты зачем швыряешься черепицей? Подойти невозможно. Когда он попробовал приблизиться, девушка стала кидать в него обломками черепицы, и он вынужден был обратиться в бегство. По-видимому, ее придавило бревном, поэтому она и не могла выбраться. Странно было видеть, как свободно движется верхняя половина ее тела. Она разбивала черепицу на мелкие куски, чтобы легче было бросать...»
Глава III
Днем, часов около трех, когда Сигэмацу отправился на кухню попить чаю, из сосновой рощи, у холма, послышалось пение цикады — впервые в этом году. Сигэко готовила на кухне лепешки из гречневой муки. — Послушай, Сигэмацу, — сказала она, — ты хочешь подарить свой дневник школьной библиотеке для вечного хранения, не так ли? — Да, меня об этом просил сам директор школы. Мой дневник — это исторический документ. — Чернила с годами выцветают, поэтому тебе нужно переписывать его не чернилами, а тушью. Совет был дельный, и Сигэмацу решил переписывать дневник тушью. Он взял новую кисть и бумагу. Начало дневника он попросил Сигэко тоже переписать тушью. ...Ох, как в тот день его мучила жажда... Где бы попить, где бы попить?.. Он попробовал открыть кран колонки на обочине дороги, но оттуда потекла струя кипятка, окруженная облачком пара. Вспоминая об этом, Сигэмацу продолжал переписывать дневник. «От главного храма Ёкогава, расположенного к востоку от железнодорожной станции, осталось лишь несколько покосившихся опор. Молельня сметена начисто, сохранился лишь фундамент. Люди, проходившие вдоль храмовой ограды, были сплошь покрыты не то пылью, не то пеплом. У тех, у кого сохранилась одежда, кровоточили руки и лицо. У голых до пояса — грудь, спина и ноги. Мимо, словно привидение, прошла женщина, вытянув руки вперед. Щеки ее страшно распухли и свисали толстыми складками. За ней следовал обнаженный мужчина. Нагнувшись, он прикрывал руками срам, словно собирался войти в общий бассейн в бане. Еще одна женщина пробежала в рубашке, третья женщина, прижимая к себе грудного ребенка, то кричала: «Воды, воды!», то принималась вытирать ребенку засыпанные пеплом глаза. Давка на улицах была такая же, как в часы «пик». Без единой мысли в голове я брел в том же направлении, что и остальные. Внезапно среди воплей и причитаний я услышал свое имя, выкрикнутое резким пронзительным голосом. — Эй, кто меня зовет? — закричал я. В тот же миг кто-то протиснулся сквозь толпу окружающих и схватил меня за руку. — Ах, Сидзума, какое счастье, что я вас встретила. Это была та самая владелица прядильной фабрики Такахаси, с которой я встретился в электричке. Откуда она появилась, как заметила меня в этой толпе — один бог ведает! Женщина судорожно приникла ко мне, ее била дрожь. Кое-как выбравшись из толпы, мы остановились между разрушенными домами у шоссе. Владелица фабрики была очень бледна и продолжала дрожать всем телом. — Какой ужас, Сидзума. Что это? Что они сделали? — Сбросили бомбу. — Кудаона попала? — Точно не знаю. Ясно одно — на нас сбросили какую-то необычную бомбу. — Ах, Сидзума, вы где-то поранили лицо. Кожа у вас странного цвета и облезает. Я потер обеими руками лицо. К левой ладони прилипло что-то похожее на катышки влажной темно-синей бумаги. Я снова потер лицо — и снова липкие катышки. Странное дело. Когда это я успел ободрать лицо? Наверное, это хлопья пепла или куски грязи скатываются, словно кусочки омертвевшей кожи. Я хотел еще раз потереть щеку, но женщина ухватила меня за руку. — Что вы делаете? Нельзя. Подождите, пока смажут лекарством. А то ведь и внести инфекцию недолго. Особой боли я не ощущал. Меня только слегка знобило, и дергалась какая-то мышца на шее. Что это за комочки на левой щеке? Я несколько раз широко открыл и закрыл рот, раздражающее ощущение усилилось. Женщина продолжала держать мою левую руку, и я провел по щеке правой. На ладони снова оказались катышки. Мне стало не по себе. Все окружающее отдалилось, поблекло. Сознания я не потерял, но потрясение было очень сильное — трудно даже описать, насколько. Внезапно мне вспомнилась угроза, содержавшаяся в листовке, которую не то в начале, не то в середине прошлого месяца сбросил вражеский самолет: «Жители Хиросимы, ждите от нас в скором времени подарочка». Что-то в этом роде. Сам листовки я не читал, но о ней рассказывал старый инженер Тасиро с консервного завода Удзина. Говорили о листовке и сослуживцы Ясуко. — Случилось что-то страшное, госпожа Такахаси. Что-то из ряда вон выходящее. Поэтому, прежде чем действовать, надо успокоиться, хорошенько все обдумать. — Можно было ждать всего, только не этого... Не знаю, бомба это либо что-нибудь другое, но такое испытание свыше сил человеческих... нельзя так, нельзя... — Госпожа Такахаси, на вас столько пыли. Как будто седой парик на голове. Женщина наконец выпустила мою руку и стала отряхивать волосы. Пепел посыпался на лицо, на плечи. Тогда она начала его сдувать. Это получалось у нее еще успешнее. Затем она наклонилась вперед, продолжая энергично отряхивать волосы. Я последовал ее примеру. С головы у меня посыпался мелкий пепел, словно я дунул в потухшую жаровню, полную золы. — Так дело не пойдет, госпожа Такахаси. Надо найти воду и умыться. Хорошенько умыться! Найти воду оказалось не так-то просто. Все дома вокруг были разрушены, а противопожарные бочки погребены под развалинами. Мы вернулись к колонке. Кран был открыт, вода из него не лилась. Ни холодная, ни горячая. Оказывается, кран был подсоединен к стоявшему у входа в магазин баку, и вся вода, разумеется, давно уже вытекла. Сам же магазин был разрушен до основания. Людей на улице стало меньше, реже слышались стоны раненых. Почти все направлялись к парку Митаки или к железнодорожному мосту Сандзё. Мы тоже пошли в ту сторону. Вдоль железнодорожных путей двигалась бесконечная вереница беженцев. Вот так, должно быть, в очень давние времена шли паломники к священным храмам Кумано. Холм в парке Митаки издали был похож на круглый пирог, облепленный бесчисленными муравьями. Проходя мимо начальной школы Ёкогава, мы заметили во дворе большой противопожарный бак. Такахаси бросилась к нему. Я рванулся было вслед, но резкое движение отдалось болью в щеке. «Спокойно, спокойно», — сказал я себе, замедляя шаг. Когда я протянул к переносице руку, чтобы снять очки перед умыванием, оказалось, что очков нет. Да и шапки не было. — Потерял очки и шапку, — сказал я Такахаси. Та растерянно оглянулась, затем неожиданно схватилась за плечо, за пояс и тихим голосом проговорила: — А я потеряла сумочку. В ней три тысячи иен наличными, сберегательная книжка и фабричная печать. — Нужно ее найти. Наверное, вы обронили ее на станции Ёкогава — там, где мы увидали этот огненный шар. Три тысячи иен — сумма нешуточная. Но прежде чем идти на поиски, надо было умыться. Мы подобрали лежавшее рядом ведро и стали поливать друг другу воду на голову. — Старайтесь только не тереть щеку, Сидзума, — сказала мне Такахаси. Я и сам понимал, что этого нельзя делать. Набрав полные легкие воздуха, я сунул голову в ведро. Поднимаясь вверх, пузырьки приятно ласкали щеки. Улыбнувшись, я вдруг почувствовал сильную жажду, набрал чистой воды и, трижды прополоскав горло, стал жадно пить. Никто меня не учил, но с детских лет я никогда не пил воду из колодца или из источника в незнакомом месте, не прополоскав предварительно горло. Так же поступали мои сверстники в деревне. Считалось, что это не только предохраняет от болезней, но и является необходимым обрядом поклонения водяному божеству, обитающему в колодцах и источниках. К этому времени улицы почти совсем обезлюдели, я двинулся в обратный путь к станции. Такахаси пошла следом за мной в надежде найти пропавшую сумку с деньгами. — Черная лакированная сумка с позолоченной застежкой, — без конца твердила она. — Вы, вероятно, уронили ее в суматохе, — всякий раз говорил я. На станции не было ни души. Повсюду — от входа и до самой платформы — валялись ботинки, деревянные сандалии, парусиновые туфли, зонты, шапки, пиджаки, корзинки, узелки, коробочки с едой. Как в театральной уборной во время спектакля, устраиваемого выпускниками школы. Особенно много валялось коробочек с едой. Большинство из них было раскрыто. Удивляться тут нечему — еды не хватает, люди все время голодные и едят где попало. Да и что это за еда! Колобки из риса вперемешку с соевым жмыхом, бобами или овощами. На закуску — соленая редька с рисовыми высевками. — А вон моя сумка, — воскликнула Такахаси и спустилась с платформы на рельсы, на то самое место, куда мы спрыгнули с площадки вагона, когда на небе появился огненный шар. — Должно быть, и очки мои здесь, — сказал я. И правда, очки валялись около столба, за который я держался. Стекла, к счастью, остались целы, а вот целлулоид с левой стороны оправы скрутился в спираль, обнажив белый металл. Я собрал остатки целлулоида и поднес очки к глазам. Оправа выглядела странно: левая половина металлическая, а правая — целлулоидная. — Мне повезло, все на месте, — воскликнула Такахаси, обследовав содержимое своей сумки. Я попытался протереть стекла очков воротником рубашки, но руки так дрожали, что мне никак не удавалось это сделать. — Позвольте, я вам помогу, — предложила Такахаси. — Спасибо. Я сам. Знаете, почему у меня дрожат руки? Я думаю о том, как жесток наш враг. Этот адский свет, который излучала бомба, не только опалил мне левую щеку, но и расплавил очки. Что это за бомба? Страшно даже подумать. Враг не останавливается ни перед чем, стараясь поставить нас на колени. — Как вы думаете, Сидзума, налетов больше сегодня не будет? — Если бы только враг видел эти коробочки с едой, он сразу понял бы, что в налетах нет больше никакой необходимости. Все уже и так уничтожено, неужели это не ясно? — Не говорите так, Сидзума. Я надел очки. Невдалеке валялась раздавленная форменная фуражка. Я поднял ее, осмотрел: похожа на мою, хотя и чужая. «Э, да какая разница», — подумал я, нахлобучил ее на голову, и мы вместе с Такахаси вышли на улицу. — Завяжите щеку, а то попадет пыль, — посоветовала Такахаси. Я достал индивидуальный пакет, вытащил из него марлевую салфетку и повязал ее, как косынку. Вот только когда я попытался надеть фуражку, она уже не налезла. — Чужое барахло не в пользу, — сказал я и нацепил фуражку на фигурную черепицу, торчавшую из развалин дома, — авось кому-нибудь пригодится. Мы продолжали идти к парку Митаки. Беженцев попадалось теперь уже совсем мало, но их вид надрывал сердце. Особенно запомнилась мне женщина, которая печально стояла на обочине, придерживая раненую руку, из которой сочилась темно-бурая кровь. Немного погодя нас обогнал мальчик. На нем были парусиновые туфли и рубашка с короткими рукавами, заправленная в рваные штаны. Мальчик остановился перед юношей в железной каске и закричал: — Брат, брат, это я! Юноша пристально взглянул на него и в замешательстве спросил: — Кто ты? Я и Такахаси стояли на месте, наблюдая за этой сценой. Распухшая голова мальчика напоминала темно-синий футбольный мяч. Волосы на голове, брови, ресницы — все это исчезло. Узнать его, разумеется, было мудрено. — Брат, да это же я, я, — повторял мальчик, заглядывая в лицо юноши. Тот недоверчиво морщился. — Скажи, как тебя зовут и где ты учишься? — Мое имя — Кюдзо Сукунэ, учусь во второй группе первого класса первой Хиросимской средней школы. Юноша, словно уклоняясь от удара, отшатнулся. — Кюдзо, говоришь... Но ведь мой брат был одет в гетры и рубашку в синий горошек, перешитую из кимоно. — Гетры порвались, а все пятнышки прогорели насквозь, когда упала бомба. Брат, это я, Кюдзо! Рубашка у мальчика в самом деле была как решето, но юноша упорно отказывался узнать своего младшего брата. — А ну-ка, покажи мне пояс. — Вот он, гляди, брат! — Обожженными руками мальчик быстро снял пояс и протянул юноше. Пояс был сделан из кожаного ремешка, которым перевязывают плетеные корзины. Около коричневой пряжки виднелась такого же цвета вращающаяся трубочка. — Да, это и впрямь ты, Кюдзо! — проговорил сдавленным голосом юноша, едва сдерживая слезы. Он быстро нагнулся к мальчику и стал продевать ему пояс в петли. Госпожа Такахаси и я, так и не решив окончательно, куда идти, повернули обратно. Я колебался: то ли мне пойти на службу, то ли вернуться домой. Такахаси тоже не знала: отправиться ли ей на фабрику либо к заказчику. — Пойду-ка домой. Надо посмотреть, все ли там в порядке. По железнодорожным путям можно добраться, даже если в городе пожары, — наконец решил я. — А я все же схожу к заказчику, получу от него деньги и сдам в банк, а то как бы не прекратилась поставка товаров. — Но ведь у вас там, в конторе, Ивасита. Если случится пожар, он не покинет своего поста. Такой уж он парень. — На Ивасита, конечно, можно положиться, но прежде всего я должна сдать деньги в банк — иначе поставка товаров прекратится. — Вряд ли сейчас есть кто-либо в банке, да и вашего заказчика, я уверен, нет на месте. — Пусть так. Все равно я пойду. Кто не рискует, тот не выигрывает. Деловой человек должен в первую очередь думать о деле. — Ну что же, тогда наши пути расходятся. Всего доброго. Если по дороге заглянете в наш офис, передайте, пожалуйста, директору, что я приду на службу сегодня вечером или завтра с утра. Расставшись с Такахаси (больше мне с ней не довелось встретиться; вероятно, она погибла в огне. — Из более поздних записей), я вернулся на станцию Ёкогава. Кругом все горело. Пожары распространялись в сторону Удзина. Пламя вздымалось и у моста Сандзё. Пройти по улицам было невозможно. Оставался один путь: по железнодорожной ветке на Санъё, затем перебраться через железнодорожный мост Ёкогава и идти по насыпи к Футаба-но Сато. Этим путем я и пошел. Редкие встречавшиеся мне беженцы почти все были в тяжелых ожогах. Впереди меня брел мальчик лет шести-семи. Я догнал его и окликнул: — Ты куда идешь? Он ничего не ответил, продолжая идти с застывшим лицом. — Не страшно одному через железнодорожный мост? Ответа и на этот раз не последовало. — Пойдем через мост вместе. Хорошо? Мальчик кивнул головой. «За мостом уже недалеко до Футаба-но Сато, дальше он спокойно доберется один», — решил я. Славный мальчик, совсем еще маленький. Я боялся, что не смогу его потом оставить, а это было бы неразумно, и поэтому не спрашивал ни его имени, ни откуда он. Сам он не говорил ни слова. Только шел, приоткрыв рот и думая о чем-то своем. Время от времени мы натыкались на горящие шпалы. Мальчик останавливался, удивленно глядел на огонь, несколько раз замахивался рукой, будто хотел закинуть камень, и снова пускался в путь. Я тоже никак не мог понять, почему воспламенились шпалы. Дымились не только шпалы, но и опорные столбы. Бомба, вероятно, нефтяная? Я решил проверить это предположение, затоптал пламя на одной из шпал, лег на живот и принюхался. Пахло только горелым деревом. А ведь я слышал, что от нефтяных бомб исходит необычный, ни на что не похожий запах. Когда я поднялся с земли, мне бросилось в глаза огромное слоистое облако, напоминавшее грозовую тучу во время великого землетрясения в Канто, которую я видел на фотографии. Опираясь на толстый дымовой столб, облако поднималось все выше и выше. Оно было плоским и походило на шляпку исполинского гриба. — Взгляни на это облако, — сказал я, обращаясь к своему маленькому спутнику. Тот молча поглядел вверх — и вдруг широко разинул рот. На первый взгляд казалось, будто облако недвижимо, но это только казалось. На самом же деле оно расползалось к востоку и к западу, колыхаясь и вспучиваясь изнутри, сверкая мощными вспышками то красного, то фиолетового, то голубого, то зеленого цвета. Его опора, как будто сделанная из сложенной во много раз вуали, увеличивалась прямо-таки на глазах. Облако грозно надвигалось на Хиросиму. У меня было одно желание: стать маленьким-маленьким, забиться в какой-нибудь уголок, спрятаться от этого страшилища. Но ноги у меня стали как ватные, я даже не мог пошевелиться. — Взгляните туда, видимо, начинается ливень, — послышался вежливый голос. Я обернулся. Рядом стояла миловидная женщина средних лет; она держала за руку пышущую здоровьем девочку. — Ливень... Вы думаете, это ливень? — пробормотал я, вглядываясь в небо, застланное какой-то странной пеленой. «Не гигантский ли это смерч?» — подумал я. Ничего подобного в жизни не видел. Содрогаясь всем телом, я представил себе, что будет, если на нас обрушится этот смерч. Тем временем облако продолжало ползти в юго-восточном направлении. — Вряд ли вам удастся перебраться через мост, — сказала женщина, глядя на мальчика. — Перевернулся товарный поезд. Проход закрыт. Поэтому перед мостом сидят сейчас сотни, а то и тысячи людей. — Отчего же они не уходят? — Отдыхают. Идти обратно у них нет сил. Одни тяжело ранены, у других — ожоги. Есть и такие, что лежат в беспамятстве. — Что это за облако? — Я слышала, кто-то назвал его дьявольским облаком. Оно и впрямь дьявольское... А с мальчиком вам, поверьте мне, не перейти через мост. — Ты слышал, мальчик, что сказала тетя? — неуверенно вымолвил я. — Через мост тебе не переправиться. Иди вместе с тетей сначала вдоль железной дороги в сторону Кабэ, а там свернешь к горам. Мой маленький спутник поднял на меня глаза. — Понял? Здесь мы с тобой расстанемся... Он молча кивнул. Женщина положила ему руку на голову и вежливо простилась со мной. Малыш повернулся и молча побрел вместе с женщиной в обратную сторону. Жалкая фигурка на тоненьких ногах в парусиновых ботинках со сбитыми каблуками. Короткие штанишки, рубашка с короткими рукавами. Руки, висящие, как плети... Облако колыхалось, словно огромная медуза. Но от медузы оно отличалось тем, что, казалось, было наделено громадной животной — именно животной — силой. На своей единственной ноге-опоре оно неудержимо двигалось на юго-восток, извергая то красные, то фиолетовые, то голубые, то зеленые молнии. Словно кипящая вода, вспучивалось оно изнутри, росло вширь, каждый миг угрожая обрушиться на наши головы. Не зря назвали облако дьявольским. Это было сущее исчадие ада. Только сам дьявол мог породить такое чудовище. Выберусь ли я отсюда живым? Что будет с моей семьей? Смогу ли я ей помочь или буду вынужден уйти в одиночку. Хотя я и торопился, я все же старался не обгонять других беженцев. У меня не было такого ощущения, будто — как это бывает в ночных кошмарах — тебя удерживают какие-то невидимые силы, я мог бы даже броситься бежать, если бы не глубокое внутреннее убеждение, что все следует предоставить воле небес. Внезапно один из проходивших мимо беженцев рванулся было вперед с криком: «Парашют, парашют», — но тут же остановился. В самом деле, далеко впереди и чуть левее избранного мною направления, над грядой белых облаков, цепляющихся за вершины горной гряды, виднелся одинокий парашют. Его медленно сносило к северу. Пока я раздумывал, свой это или вражеский парашют, раздался ужасный грохот, земля вздрогнула и в нескольких сотнях метров к северо-западу взметнулся ввысь столб черного дыма. Медленно тянувшиеся по путям беженцы побежали, но вскоре, запыхавшись, остановились. Последовал еще взрыв, за ним третий. Каждый раз земля содрогалась и в небо устремлялся огромный столб черного дыма. И каждый раз беженцы бросались вперед, но чуть погодя останавливались и снова тащились, с трудом передвигая ноги. — Это нефтехранилища взрываются, — крикнул один из беженцев, но никто не отозвался на его слова. У железнодорожного моста Ёкогава я увидел сидевших на насыпи беженцев — их было не менее двух тысяч. Лишь несколько юношей пытались перебраться через мост. Мост был высотой метров тридцать. Глянешь с такой высоты вниз — и начинают трястись поджилки. Но другого пути на противоположный берег нет. Почти все беженцы, примостившиеся на насыпи, страдали от ран или ожогов. Они были в таком глубоком унынии, что, по-видимому, даже не помышляли о возможности переправиться через мост. Некоторые смотрели немигающим взором в небо. Но остальные даже не глядели в сторону похожего на гигантскую медузу облака. Лишь какая-то женщина, простирая кверху руки, тонким голосом выкрикивала одно и то же: — Убирайся прочь, дьявольское облако! Что тебе от нас надо? Мы не военные, не солдаты. Убирайся прочь! «Странно, — подумал я, — почему эта женщина, такая здоровая на вид, даже не пытается перебраться через мост?» Сидящие рядом беженцы не отзывались на ее крики. Надо было действовать немедленно, не теряя ни минуты. Стараясь не смотреть вниз, я пошел вслед за юношей с окровавленным плечом. В самом конце моста лежали опрокинутые товарные вагоны. Я лег на живот и пополз. Внизу, подо мной, бежала река, должно быть, совсем неглубокая, потому что на дне были хорошо видны груды репчатого лука, вывалившегося из вагонов. Беженцы, которым удавалось переправиться на тот берег, устремлялись к холмам Футаба-но Сато, все выше и выше, словно редкая цепочка муравьев. Кое-где в горах горел лес. Человеку, не жившему в горной местности, трудно понять опасность лесных пожаров. И люди, которые сейчас поднимались в горы, напоминали летящих на огонь ночных бабочек. В детстве я не раз видел пожары в горах. Издалека кажется, что пожар небольшой, а подойдешь ближе — и видишь, что горят целые леса. Падают пылающие деревья, раскаленные камни. — Идти туда опасно, — предостерегал я идущих рядом. Но никто не внял моему предупреждению. Все продолжали подниматься в горы. Наконец я добрался до западного плаца, который буквально кишел беженцами. Многие, не останавливаясь, пошли дальше. Глядя на них, я представлял себе гигантские цунами, затопляющие прибрежные холмы. Мне пришлось долго идти вдоль плаца наперерез толпам беженцев, чтобы попасть на станцию Хиросима...»Глава IV
Едва Сигэмацу успел дописать последний абзац, как из кухни послышался голос жены: — Сигэмацу! Знаешь ли ты, который час? Хватит уже работать. Иди ужинать. — Иду, — отозвался Сигэмацу, вставая. Увлекшись, он совсем забыл про ужин, тем более что, переписывая дневник, грыз соленые бобы домашнего приготовления. Сигэко и Ясуко давно уже поели, и Ясуко легла спать, на следующий день девушка собиралась первым же автобусом отправиться в Синъити, где был косметический кабинет. Стараясь не пролить ни капли, жена налила Сигэмацу чашку супа из вьюнов. — Неплохо я сегодня потрудился, — проговорил Сигэмацу. — Описал, как я дошел до западного учебного плаца, где собрались беженцы. Ох, и много же их там было — что сельдей в бочке. А ведь я рассказал лишь тысячную долю того, что видел. Не так-то просто передать свои впечатления. — Это потому, что ты разводишь всякие теории, — откликнулась жена. — Да нет, дело не в этом. Я описываю события, если говорить литературно, в духе жестокого реализма. Кстати сказать, ты не знаешь, долго ли держали вьюнов в проточной воде? Может быть, у них в брюхе еще полно грязи? — Котаро принес их сегодня. Сказал, что держал их в проточной воде полмесяца. Он поймал их в канале, около буддийской молельни, и запустил в пятисотлитровый глиняный кувшин. Там из них вся грязь и вышла. Во время войны Котаро спилил во дворе огромное дерево гиннан: государству требовалась древесина. Выкорчевывая корни, он наткнулся на зарытый в землю старинный глиняный кувшин еще бидзэновского[108] обжига. Кувшин вмещал литров пятьсот, если не больше, но был расколот на несколько частей. Котаро кое-как соединил разбитые части цементом и приспособил кувшин для своих нужд. Сигэмацу уселся перед лакированным столиком и поднял чашку с коричневой жидкостью. Это был лечебный настой из сушеных листьев герани, алзины и подорожника, который он пил каждый вечер перед ужином. Жена поставила перед ним тарелку с бобовой пастой и мелко нарубленными клубнями криптотении, сковороду с яичницей, судок с маринованной редькой и чашку супа. — Сегодня у нас настоящий пир! — воскликнул Сигэмацу. — В своем кувшине Котаро всегда держит какую-нибудь живность, — продолжал он, лакомясь супом. — Однажды, помню, он насыпал туда речного песка и посадил черепаху: думал, она будет нести ему яйца. Оказалось, пустая затея. — Прошлым летом я видела у него в кувшине угрей — штук семь или восемь! — Да, кувшин у него замечательный. Сущий рог изобилия. Вот бы нам такой. Это, разумеется, была только мечта. Дом Сигэмацу стоял на возвышенности, и подвести к нему воду с помощью бамбуковых труб было не так-то просто. Участок же Котаро находился в низине. Котаро перегородил ручей, начинавшийся у дальних холмов, и проложил бамбуковые трубы от образовавшегося пруда к своему кувшину. По счастливой случайности в нижней части кувшина осталось два-три небольших отверстия, через которые вода, как раз в нужном количестве, вытекала наружу. Так что в кувшине всегда имелась свежая проточная вода: условия для разведения угрей, форели и карпов были идеальные. Котаро на двенадцать лет старше Сигэмацу. Во время войны он дважды ездил в Хиросиму за покупками для себя и соседей. И оба раза заходил к Сигэмацу, который в то время работал в Хиросиме, с деревенскими гостинцами: маринованными лепестками вишни. В первый раз он приезжал в город за эмульсией, суррогатом мыла, и за пищевым жиром. Эмульсия не соответствовала стандартам, установленным законом о контроле за производством моющих материалов, поэтому производили ее нелегально и продавали на черном рынке. Это была вязкая масса, которая шла на изготовление твердого мыла. Продавали ее обычно в больших консервных банках. Жир отделяли от мясных консервов, когда запечатывали их в банки на армейской продовольственной базе. Картонная коробка десять на семь сантиметров такого жира, сдобренного специями, стоила на черном рынке десять сэн. Котаро приносил свои покупки к Сигэмацу, увязывал их в огромные узлы и тащил на станцию. — В нашей семье все начиная с деда были бродячими торговцами, — весело говорил Котаро, прощаясь с Сигэмацу. Во второй приезд Котаро удалось раздобыть всего лишь одну коробку жиру, но он и этим был страшно доволен и в благодарность оставил Сигэмацу силок для ловли птиц. Этот силок Котаро сам установил на соседнем пустыре. Сигэмацу ежедневно ходил проверять силок, но ни одна птица в него так и не попалась. Тут Сигэмацу вспомнил, что на этом самом пустыре жена его собирала ростки лебеды, которые они ели в вареном виде вместе с соей. — Интересно, что стало с той ловушкой, которую Котаро поставил тогда на пустыре, там, где росла лебеда? — В нее не попалась ни одна птица. Никудышная оказалась ловушка...Глава V
Жена попросила Сигэмацу сходить к Котаро. Близился день поминовения погибших насекомых, и надо было отнести рисовые клецки. Сигэмацу положил лакированную коробочку с клецками в тот самый таз, в котором Котаро накануне принес вьюнов, и завернул все это в фуросики[109]. Церемония поминовения обычно совершается девятого июня. Во время полевых работ крестьяне помимо своей воли губят живущих в земле жуков и червяков, и для поминовения их душ жертвуют рисовые клецки. В этот же день, по древнему обычаю, надо возвращать соседям все принадлежащие им вещи, которые по какой-либо причине оказались у вас в доме. Дом Котаро стоял у тропинки, ведущей к дальним холмам. У входа Сигэмацу увидел сверкавший лаком лимузин. В машине никого не было. У большого кувшина, сдвинув фуражку на затылок, стоял человек средних лет — судя по наружности, шофер — и глядел, как из бамбуковых труб в него втекает вода. Сигэмацу смекнул, что к Котаро пожаловал важный гость, и ощутил сильное волнение. — Славная нынче погодка! — заговорил Сигэмацу, подойдя к человеку в фуражке. — Эта машина принадлежит клинике Фудзита в Фукуяма? И гость, должно быть, оттуда? — продолжал он, заведомо зная, что это не так. — Ошибаетесь, машина заказная, я ее водитель. Привез сюда женщину из деревни Ямано. — Должно быть, эта женщина — доктор? Котаро тяжело заболел? Не знаете, что с ним случилось? — Эта женщина не доктор. Я понял по ее словам, что она сваха. А разговор у нее, видать, надолго. Я здесь уже битый час торчу. «Сваха из Ямано... Значит, приехала наводить справки о Ясуко. Других женихов в Ямано нет. Если были бы, я бы знал: деревня там маленькая», — с беспокойством подумал Сигэмацу. Он поглядел сквозь заросли сада на дом Котаро. Раздвижные перегородки со стороны открытой галереи были задвинуты, входная дверь закрыта. «О чем говорит сваха с Котаро, что ей удалось выведать о Ясуко? Что-то их беседа затянулась. Скоро, наверно, закончится. Как бы не попасться им на глаза, неловко получится», — испугался Сигэмацу. — Извините, если я вам помешал, — сказал он шоферу. — У нас заболел сосед. Вот я и подумал, может быть, врач приехал, заодно и к нему заглянет, а здесь, оказывается, совсем другое дело. Сигэмацу простился с шофером и пошел по тропинке к дубовой роще. Там он уселся на плоский камень в тени дерева. «Подожду здесь, пока сваха не уедет, — решил он. — Все равно нужно занести Котаро рисовые клецки. Не могу же я вернуться с ними домой. Женщины — народ любопытный, непременно допытаются, что из Ямано приезжала сваха». Немного погодя — к этому времени уже стемнело — хлопнула дверца автомобиля и заурчал мотор. Машина уехала. Сигэмацу вышел из своего укрытия и направился к дому Котаро. Раздвижные перегородки на веранде по-прежнему были задвинуты, но входная дверь распахнута настежь. Сигэмацу вошел внутрь. Котаро сидел на небольшом возвышении, скрестив на груди руки и потупив глаза, — видимо, в той же самой позе, в какой простился со свахой. — Добрый вечер, — произнес Сигэмацу. Котаро вздрогнул, оторвал взгляд от пола, ответил на приветствие и сразу же стыдливо опустил глаза. Хотя в комнате было не слишком светло, Сигэмацу прочитал по его лицу все, что произошло: припертый свахой к стене, Котаро рассказал о Ясуко все, что знал, даже то, чего, может быть, не хотел рассказывать, и теперь сидит совершенно обессилевший, выжатый, как лимон. Сигэмацу лишь поблагодарил его за вьюнов, выложил в тарелку рисовые клецки и без лишних слов покинул дом. Этот случай оставил у него на душе тяжелый осадок. Ужас как неприятно, что чужие языки треплют имя его племянницы. Остается одно: побыстрее закончить переписку дневника и вручить свахе, чтобы она сама сравнила его с записями Ясуко. Теперь это уже дело чести — довести задуманное до конца. Сигэмацу быстро поужинал и снова принялся переписывать дневник. «Наконец плац остался позади. Толпы беженцев по-прежнему заполняли дорогу, ведущую к нему из города. Кроме верхней одежды, никаких других вещей почти ни у кого с собой не было. Лишь однажды я заметил в толпе большую телегу, груженную домашним скарбом, на котором сидели дети. Затертая в толчее телега не двигалась вперед, а толкавшие ее домочадцы спорили и ругались между собой, не решаясь бросить свое имущество. Какая-то супружеская пара тащила на шесте несколько узлов и чемоданов. За ними следовало человек двадцать школьников; чтобы не потеряться, они держались за длинную веревку. На станции Хиросима, куда я наконец добрался, стояли товарные и пассажирские составы, битком набитые беженцами. Люди сидели на крышах, гроздьями висели на подножках. Время от времени раздавались громкие крики: «Отправляйте поезд!» Но в толпе на станции не мелькало ни одного железнодорожника и, судя по всему, вряд ли можно было ожидать скорого отправления. Тем не менее беженцы продолжали осаждать вагоны. В окнах станционного здания не осталось ни единого стекла, оконные рамы и двери были выбиты, от стен отваливались целые куски. Проходя мимо, я ускорил шаг, с опаской глядя на большой обломок на уровне второго этажа, который держался лишь на металлической балке. Какой-то молодой железнодорожник, дергая за рукоятки, пытался перевести стрелки. Наконец, отчаявшись, он сплюнул, выругался и побежал прочь от станции. Улицы вокруг станции были охвачены пожаром, я решил пойти кружным путем, мимо холма Хидзи. К своему удивлению, я не обнаружил храма Гобэндэн на привычном месте. Мост Матоба горел. Я снова изменил направление, миновал мост Тайсё, затем обогнул холм Хидзи с юга и вышел к женскому коммерческому колледжу. Здесь начинался крупный жилой массив. Дома стояли пустые, прохожие встречались редко. На обочине стояли несколько женщин; они жаловались друг другу на то, что водопровод не работает, негде даже умыться. Их разговор вызвал у меня новый приступ жажды. Горло пересохло и сильно болело. Огромное, похожее на медузу облако поблекло; оно приблизилось к западной оконечности холма Хидзи. Когда дул восточный ветер, облако скрывалось за пеленой дыма, но стоило ветру сменить направление, как оно появлялось снова. В кошельке у меня лежало сто двадцать иен и кое-какая мелочь. Если бы мне встретился продавец воды, я, не раздумывая, отдал бы все деньги за одну кружку. Кто-то рассказывал мне, будто чайные листья спасают от жажды. С удовольствием пожевал бы чайные листья! Терзаемый жаждой, я шел вперед и вдруг заметил ведро около водопроводной колонки. На мое счастье, оно было на две трети наполнено чистой водой. Я опустился на четвереньки, сунул голову в ведро и стал пить, как пьют собаки, забыв о привычке трижды прополаскивать горло. Пил я долго — пока во всем моем теле не разлился приятный холодок. До чего же вкусная вода! И вдруг я почувствовал ужасающую слабость. Руки, на которые я опирался, разъехались в стороны. Неимоверным усилием я вцепился в край ведра, подтянул ноги и с трудом встал. На шее у меня висела мокрая тряпка. Оказалось, это была та самая салфетка, которой я перевязал щеку. Я и не заметил, как она сползла. Слабость не проходила. Едва я сделал несколько шагов, как все мое тело покрылось обильным липким потом. Запотели даже очки. Я остановился, потер их и двинулся дальше. Очки запотевали еще несколько раз, но я больше не останавливался и протирал их на ходу. К тому времени, когда я добрался до ворот армейского вещевого склада, облако увеличилось раз в пять или шесть. Оно поблекло еще сильнее, очертания его стали расплывчатыми, неясными, словно у туманной дымки. Это была лишь тень — страшная тень прежнего облака. По двору вещевого склада сновали солдаты. — Ну, как, связался с начальником отдела обороны? — крикнул один из них. — Пытаюсь наладить связь, — ответил другой. Деловитость этих людей действовала успокоительно. Пожары кругом продолжались. И я никак не мог понять, что горит, где горит, в каком направлении распространяется пламя. Что стало с нашим жилищем? Если Сэнда-мати в огне, жена моя, Сигэко, должна уйти на спортивную площадку университета. Такая у нас с ней договоренность. О племяннице Ясуко можно не беспокоиться: она уехала с соседскими женщинами в Фуруити. Я пошел дальше, оглядываясь по сторонам и отыскивая подходящее место, чтобы передохнуть. Неожиданно услышав громкое мяуканье, я оглянулся и увидел пятнистую кошку, которая следовала за обутым в сапоги человеком. — Кис-кис, — позвал я. Не обращая на меня внимания, кошка прошла мимо, но человек в сапогах остановился. Тогда она вернулась к нему и прилегла у его ног. — Никак Сидзума, ну конечно, Сидзума! — воскликнул человек в сапогах. — Ты ли это, Миядзи? Вот так встреча! Вот уж не ожидал встретить здесь своего соседа. Месяца два тому назад он стал почему-то в любую погоду — даже в сильную жару — надевать военные сапоги, бриджи, строгую гимнастерку цвета хаки и в таком виде ходил на деловые встречи в частные фирмы и государственные учреждения. На нем и сегодня красовались бриджи, заправленные в сапоги, но он был обнажен до пояса и без шапки. — Как дела? Ты не ранен? — спросил я его. — Да, нечего сказать, повезло мне, — ответил он, показывая на плечи. Кожа на плечах и на тыльной стороне рук свисала клочьями, похожими на куски мокрой газеты. На сером, словно присыпанном пеплом лице не было ни ран, ни ожогов. Я было подумал, что Миядзи пострадал во время пожара, но, по его словам, дело обстояло не так. Рано утром мой сосед отправился в гости к знакомым, которые живут невдалеке от Хиросимского замка, — из их дома хорошо видна главная башня. Шел он очень быстро и был весь в поту, поэтому, подойдя к дому, начал стягивать с себя гимнастерку (поговаривали, что в этом районе у него любовница, и, надо полагать, он спешил к ней на свидание). Мой сосед почти совсем стянул с себя гимнастерку — оставалось только высвободить голову, — как вдруг послышался ужасающий гул и вспыхнул ослепительный свет, ощутимый даже сквозь материю и сомкнутые веки. Потом в памяти наступил провал. Когда Миядзи пришел в себя, оказалось, что он бежит к внутреннему рву замка, а недалеко от него, в доброй сотне метров от фундамента, валяется на земле главная башня. — Я потерял голову, — продолжал свой рассказ Миядзи, ковыляя рядом со мной. — У меня была одна только мысль: надо уходить в горы. Я вышел к мосту Ёкогава, затем добрался до штаб-квартиры второй армии, там за мной увязалась кошка. Уж не знаю, к добру или нет. Штаб-квартира второй армии располагалась к северу от плаца. Выходит, мой сосед проделал от Ёкогава тот же путь, что и я. От армейского вещевого склада мы направились к местному управлению монопольной торговли. Наш путь проходил по улице, где прежде стояли богатые особняки. Все кругом было разрушено, повсюду валялись обломки стен и куски черепицы, а со столбов, словно змеи, свисали оборванные провода. Кошка сопровождала нас, то забегая вперед, то отставая. Миядзи чувствовал себя все хуже. Казалось, еще шаг — и он потеряет сознание. Он даже не соображал, куда идет и зачем. А нам надо было спешить. Я подобрал бамбуковую палку, собираясь дать ее соседу вместо трости, но тут же отшвырнул ее, вспомнив, что на руках у него содрана кожа. Мы продолжали медленно идти вперед, отодвигая попадавшиеся нам по дороге обломки дверей и рам, обходя свисающие со столбов провода. Ботинки скользили, тонули в грудах черепицы, мы теряли равновесие, падали. Потом, опираясь на руки, с трудом поднимались и шли дальше. Тяжелый это был путь. На улицах ни души, все тихо, и только, словно выстрелы, раздается треск лопающейся черепицы. Немного погодя мы увидели среди черепицы платяной шкаф. Возле него лежала, раскинув ноги, молодая женщина в нижнем белье. На месте левой груди зияла глубокая рана. Женщина не подавала никаких признаков жизни. Кошка по-прежнему следовала за Миядзи: вероятно, ее привлекал запах его сапог. Наконец мы добрались до широкой дороги, по которой пролегала трамвайная линия на Удзина. Трамваи не ходили. Облик города был здесь иной. Непрерывно проносились набитые ранеными грузовики. Проехала машина с офицерами. Проползла тележка с тяжелоранеными, которую раненые же толкали перед собой. Беженцы мало чем отличались от тех, которых я видел на железнодорожной насыпи и на плацу. Многие шли пешком, опираясь на обломки досок или бамбуковые палки. Шли молча, не взывая о помощи. Шли медленно, не пытаясь даже бежать. Да и куда было спешить — разве что на тот свет? Особенно запомнился мне безногий калека: перебирая руками рычаги своей тележки, он быстро продвигался вперед, не обращая внимания на обгоняемых им раненых. Миядзи брел, держась за ограду дома, где помещалось местное управление монопольной торговли. Доковыляв до трамвайных путей, он прислонился к стоявшему на рельсах вагону и стал тихим голосом просить воды. К этому времени я тоже смертельно устал. Мне казалось, что я теряю сознание. С большим трудом вскарабкался я на площадку трамвая. Миядзи присел на подножке. В вагоне сидели дети: маленький мальчик, который, по-видимому, лишь недавно начал самостоятельно ходить, девочка лет семи-восьми и школьник, судорожно сжимавший в руке ракетку для игры в пинг-понг. Я вытащил салфетку из своего индивидуального пакета, набросил ее на кровоточащие плечи Миядзи и завязал концы на шее. Получилось что-то вроде белого платка. — Хотите, я смажу вам плечи ментоловой мазью, — предложил я Миядзи, вытаскивая баночку из санитарной сумки, где хранились индивидуальные пакеты. Миядзи отрицательно покачал головой и еще раз попросил воды. — Взгляните, — неожиданно вскричал он, протягивая руку, — что там творится! Над центром города взметнулся огненный смерч. Казалось, он вобрал в себя все пламя, весь дым бесчисленных пожаров и, вознесясь высоко в небо, расплылся наверху в многослойную тучу, а вокруг него крутились, опускаясь на землю, странные клубки пламени. Это падали пылающие деревянные доски и балки, поднятые вихрем. Хотя ветер не менял направления, огненные языки над крышами метались то в одну, то в другую сторону. Они лизали стены и окна, перебрасываясь с дома на дом. — Огонь вползает в окна и двери, как змея, — произнес Миядзи дрожащим голосом. — Загорелся уже универмаг Фукуя! Пожар распространялся волнами, поглощая крупные здания — универмаг, контору электрокомпании Тюгоку, газетное издательство, муниципалитет. Обыкновенные деревянные домики он проглатывал целыми десятками. И всякий раз из окон вымахивали длинные языки огня. Внезапно — должно быть, переменился ветер — над городом взлетел большой сгусток пламени. Сначала он походил на веретено, затем округлился в шар. На наших глазах этот шар взорвался и вся масса огня понеслась вверх. Я прижал руку к груди. Сердце билось ровно. Должно быть, чувства мои притупились настолько, что я перестал испытывать страх. Только подумал: сейчас меня завалят обломки, и все кончится. — Пойдемте домой, Сидзума, — предложил Миядзи, поднимаясь с подножки. Выходя из трамвая, я заметил, что сидевшие в нем дети куда-то скрылись. С берега реки я увидел свой дом. Он был цел. Значит, огонь до нашего квартала еще не добрался. Только в отдалении виднелся поднимавшийся к небу столб дыма. Силы внезапно покинули меня, и я тихо опустился на землю. Одноэтажный дом моего соседа был загорожен более высокими зданиями, и обеспокоенный Миядзи сказал: — Извините меня, Сидзума, я пойду побыстрее. Боюсь, как бы не загорелся мой дом. С этими словами Миядзи заковылял к мосту Миюки. (Я слышал, что на следующий день он умер. — Из поздних записей.) Передохнув немного, я пошел вслед за ним. Дойдя до середины моста, я вдруг обратил внимание на отсутствие перил. Гранитные тумбы, поддерживавшие, с промежутком в два метра, перила с северной стороны, валялись на мосту, а те, что стояли на южной стороне, свалились в реку. А ведь тумбы были не такие уж маленькие — квадратный фут у основания, а вверху и того больше. Перебравшись через мост, я поспешил к спортивной площадке университета, где меня должна была ждать жена. Сквозь толпу многочисленных беженцев я пробрался к бассейну и там-то наконец увидел Сигэко. Она сидела на противоположной стороне. За плечами у нее был рюкзак, ноги прикрыты одеялом. Я быстро напился, зачерпывая пригоршнями воду из бассейна, и поспешил к жене. Перед уходом из дома я предупредил ее, чтобы она взяла с собой не чемодан, а рюкзак; так ей будет легче проталкиваться сквозь толпу. И посоветовал ей занять место поближе к бассейну: в случае пожара можно броситься в воду. Все мои советы Сигэко выполнила в точности. Она сидела у бассейна, положив к ногам котел для варки риса и сковородку. — Ты не ранена? — спросил я. — Нет, — ответила она, взглянула на мою щеку и не добавила ни слова. — Как дом? — спросил я спустя несколько минут. — Покосился, но стоит. — Пожара не было? — Загорелась верхушка сосны в саду, но огонь был высоко, и я ничего не могла сделать. — С Ясуко, должно быть, все в порядке. Ведь мы вовремя отправили ее в Фуруэ. — Надеюсь, она в безопасности. — Есть хочешь? — Нет, я не голодна. — Как наши соседи? — Как только все это началось, я сразу побежала сюда. Кроме Нитта, никого не видела. Жена была в таком состоянии, что я прекратил расспросы и сказал, что схожу посмотреть, все ли у нас в порядке. — Пока не вернусь, никуда не уходи, жди меня здесь, — сказал я и отправился к нашему дому. Верхушка сосны потухла. Зато загорелись подпорки телеграфного столба. Я сбил пламя бамбуковой метлой. Дом наклонился градусов на пятнадцать к юго-востоку. Ставни на втором этаже сорвало. Весь пол в гостиной был усыпан осколками стекла. Здесь, как и во всех других комнатах, раздвижные перегородки перекосились и намертво застряли в пазах. Летняя кухня нашего соседа Хаями вдавилась в нашу ванную. В бочке, заполнявшейся обычно теплой водой, оказались чашки, ковши, палочки для еды и решетка для углей. К стенам предбанника, где мы снимали одежду, прилипли листья испитого чая, какие-то соления, остатки еды, очевидно сваренной в сое. На полу валялась сушеная каракатица: по-видимому, она попала сюда из дома Хаями. Я хотел было пожевать ее, но потом спрятал в сумку, где у меня хранились индивидуальные пакеты. «Не для того, чтобы набить себе утробу, а на память», — сказал я самому себе. Зайдя в чайную комнату, я напился холодного чаю и стал искать в аптечке какую-нибудь мазь, чтобы смазать щеку, но ничего подходящего не нашел. Большое трюмо было разбито вдребезги. Со стены на меня смотрел листок календаря с надписью: «Никогда не унывай!»Глава VI
На следующее утро к Сигэмацу зашли Сёкити и Асадзиро. Одеты они были по-дорожному, у каждого в руке саквояж. Друзья рассказали Сигэмацу о своем намерении построить садок для выращивания карпов. На этот раз они решили сами выводить мальков из икринок, а потом выпускать их в большой пруд Агияма. — Я узнал, что карп начинает метать икру на восемьдесят восьмой день, — сказал Сёкити, — когда вода становится достаточно теплой. Мечет он икру доиюля, а иногда даже до августа, если не холодно. Мы едем на рыбоводческую ферму, чтобы немного подучиться. — Да, мы едем на ферму, — подтвердил Асадзиро, — а когда подучимся, вернемся и начнем строить садок. Дело решенное. Если хочешь, присоединяйся к нам. Сигэмацу тут же дал согласие. «Чтобы изучить все тонкости, им потребуется дня три-четыре, а я за это время постараюсь переписать дневник», — подумал он. Сёкити и Асадзиро простились и с тяжелыми саквояжами в руках быстро зашагали к остановке, надеясь попасть на первый автобус. Глядя на них, никто бы не поверил, будто они больны лучевой болезнью. Сигэмацу решил, что и ему не пристало вешать нос, и с новыми силами приступил к переписке дневника... «Я подошел к небольшому бассейну, который был вырыт у нас в саду за домом. На воде плавали зонтик и противомоскитная сетка. Каждый вечер после ужина я клал на край бассейна доску с посудой, котлом для варки риса и некоторыми другими вещами. В случае неожиданного воздушного налета достаточно было приподнять доску, и все, что на ней лежало, соскальзывало в воду. Сигэко знала об этой процедуре, но впопыхах скинула в бассейн зонт и противомоскитную сетку, забыв их затопить. Я подобрал у разрушенной ограды несколько кирпичей и положил их на сетку и зонт. Особенно тщательно я затопил сетку, чтобы она, не дай бог, не всплыла. Вещь дорогая, и по нынешним временам ее вполне можно обменять килограммов на десять риса. Осматривая бассейн, я заметил в углу под листьями алоэ большого дохлого карпа и несколько плотвичек, плавающих брюхом кверху. Так оставлять их нельзя: весь бассейн с вещами пропахнет тухлой рыбой. Я тут же вытащил рыб — животы у них были вздутые, жесткие — и бросил их к забору. Много лет тому назад, когда я снимал комнату у чужих людей, во время землетрясения в пруду всплыло несколько дохлых карпов. Одного из них отдали мне. Я взрезал его ножом, оказалось, что пузырь у него огромной величины и тугой, словно надутый мяч. Теперь я вспомнил тот случай. По-видимому, сильный шок парализует регуляторы деятельности пузыря да и всю нервную систему, пузырь переполняется газами и начинает давить на внутренние органы. Нарушаются все функции, и рыба дохнет. Мне вспомнилось, как я ловил рыбу у себя в деревне с помощью кувалды. Этим способом обычно пользуются зимой, когда река мелеет и течение замедляется. Надо размахнуться и изо всей силы ударить о скалу, нависающую над водой. Громкий звенящий звук. Кажется, будто пахнет порохом, и в тот же миг из-под скалы всплывает рыба. Она стоит не шевелясь, ее можно хватать руками. Должно быть, от удара парализуется на время ее нервная система. Почему же я не испытывал ничего подобного в электричке на станции Ёкогава, только увидел ослепительную вспышку и услышал громовой удар? Как это может быть? Рыбы гибнут в воде, рушатся гранитные тумбы, а человек остается невредимым. Известно, правда, что рыбья кожа значительно чувствительней к звуку, чем человеческая. Впрочем, пока трудно судить, какое воздействие на организм окажет эта странная вспышка. Что же это все-таки за бомба? Как она устроена? Я обошел все соседние дома, дома Нодзу, Наканиси, Нитта, Миядзи, Окоти, Сугаи, Нодзима, Ёсимура; все они покосились градусов на пятнадцать, а то и больше. Нигде никого не было. Я знал, что Нодзима и жены Ёсимура и Миядзи вместе с Ясуко отправились в Фуруэ. Значит, за них можно не беспокоиться. Несколько раз я звал Миядзи, которого видел еще совсем недавно, — никакого ответа... Сильнее всех пострадал дом Накамура. Он был полностью разрушен, а разрушенный дом — зрелище гораздо более удручающее, чем просто пустой. — Эй, есть тут кто-нибудь? — крикнул я и внимательно прислушался, надеясь уловить хоть слабый стон или крик. Но стояла полная тишина. Все двери были открыты настежь. Точно так же, как и в других домах. То-то раздолье ворам. Бери что твоей душе угодно. Глядя на эти разрушения, я понял, что наши занятия по противопожарной обороне были напрасны: зря мы передавали ведра по цепочке, дежурили. Все это была лишь детская игра. Как и моя прежняя жизнь. «А уж если жизнь — игра, то играть надо с азартом, так-то вот», — сказал я себе и, вернувшись к своему дому, тщательно осмотрел крышу. С северной стороны не осталось ни одной черепицы, с южной — уцелело штук двадцать, не больше. На коньке сохранилась только одна: та самая, которую во время ремонта я прикрутил медной проволокой. В проломе стены, около бассейна, виднелись несколько слег и большой брус. Видимо, их закинуло туда взрывной волной с соседнего склада лесоматериалов. А до него добрых сто пятьдесят метров. Я тут же смекнул, что они пригодятся как подпорки для моего покосившегося дома. Не хватало всего одной, и я подошел к пролому в стене, надеясь найти что-нибудь подходящее. Сквозь большое отверстие я увидел в соседнем дворе парня. Сидя на куче обломков, он перематывал обмотки. Это был студент промышленного колледжа, квартировавший у соседей. — Эй, Хасидзумэ! — окликнул я его. Парень испуганно вскинул голову. — Да, да, — пробормотал он. — Где твоя тетка Нитта? — Да, да, — повторил он, уставясь на меня. — Что с тобой, парень? Возьми себя в руки, — сказал я, пролезая сквозь пролом. — Как ваш колледж? Цел или нет? — Колледж разрушен, — ответил он невыразительным голосом. — Мои друзья почти все погибли. Есть раненые. Хасидзумэ, дальний родственник семьи Нитта, обычно такой живой, веселый, был явно не в себе. Из его сбивчивого рассказа мне с трудом удалось уяснить себе, что после взрыва он выкарабкался из-под груды столов и стульев, через чердак и крышу выбрался на улицу и поспешил домой. — А тут никого нет, — закончил он. — Давай-ка, пока еще не начался пожар, попытаемся разыскать твоих домашних. Они, вероятно, все на спортивной площадке университета. Моя жена тоже сейчас там. Пойдем туда? — Да, да, — ответил юноша и зашагал следом за мной. Спортивная площадка по-прежнему была заполнена ранеными и беженцами. Мы пробрались сквозь толпу к бассейну. Сигэко сидела на прежнем месте. Рядом с ней была наша соседка Окоти. — Никак Хасидзумэ? — воскликнула она. — Вот не повезло тебе, бедняжка! Да и всем вашим тоже... Твоя тетка — в больнице Кёсай. Окоти рассказала обо всем, что случилось. Она стояла на улице и беседовала с Нитта о проводах одного их знакомого призывника, которого отправляли в армию. Внезапно что-то ослепительно сверкнуло в небе, грозно раскатился гром. В следующее же мгновенье острая черепица, как бритвой, срезала кусок щеки у Нитта. Черепицы, словно картонные, взмывали в небо и возвращались, как бумеранги. Нитта видела что-то похожее во время землетрясения в Канто, черепицы тогда отлетали метров на пятьдесят, а то и дальше. А этот взрыв куда сильнее, чем какое-то там землетрясение. Тем временем Хасидзумэ пришел в себя. Из его глаз не переставая текли слезы. — Пойду в больницу. Спасибо вам обоим. Будьте осторожны, — сказал он и, сжимая в кулаке насильно всунутые ему Окоти пять иен, покинул площадку. Посовещавшись, мы с Сигэко решили отправиться в транспортную контору в Удзина. Если даже Ясуко попытается вернуться в Хиросиму на грузовике, то навряд ли она доберется до Сэнда-мати: пожар в восточных районах города усиливается и оттуда нескончаемым потоком идут раненые. Ясуко безусловно догадается, что по Сэнда-мати ей не пройти. Нодзима не дурак, он повезет их до Удзина по воде. Он ведь не раз говорил, что отправится в Миядзу на рыбачьей лодке, если Хиросиму начнут бомбить. Он даже договорился с рыбаками из Удзина и Миядзу: как только понадобится, они предоставят ему лодку. До чего же он предусмотрителен, этот Нодзима, просто диво! — Ясное дело, Нодзима поплывет в Удзина на лодке. Не поедет же он по дороге в такой пожар. Ясуко обязательно зайдет в транспортную контору. Я там непременно сегодня должен быть. Ясуко об этом знает и, конечно же, придет в контору. Жена была всецело согласна с моим предположением, и мы решили не мешкая отправиться в Удзина. И все же это был риск, потому что полной уверенности, что Ясуко зайдет в контору, у нас не было. Сигэко повернулась лицом к бассейну, сложила руки ладонями вместе и сотворила короткую молитву. — Надеюсь, вам удастся встретиться с Ясуко в Удзина, — сказала, прощаясь с нами, Окоти. — А я что-то начинаю все больше беспокоиться. Окоти договорилась с мужем — служащим банка — о встрече здесь, у бассейна. А он все не приходил. У них был всего один сын, которого после окончания университета мобилизовали в армию и отправили в Палембанг, на Суматру. На всякий случай Сигэко положила в котел и на сковородку по кирпичу и осторожно опустила их в бассейн. Я смотрел, как сковорода плавно погружается на дно. — Когда-нибудь вернемся за ними, — сказал я. — Только бы поскорее! — Неплохо бы! — вздохнула Окоти. — Ну, будьте здоровы, передайте привет Ясуко. Я и Сигэко направились к мосту Миюки. Перед мостом лежал труп. Рот и нос были густо облеплены мухами. Вместо ушей багровели запекшиеся сгустки крови. Я ускорил шаг. Позади послышался голос Сигэко: — Может быть, зайдем сначала домой. Оставим записку — а вдруг Ясуко придет в наше отсутствие. «И то дело, — подумал я. — Как же это я, глупец, сам не догадался?» Мы вернулись домой, и, пока я искал бумагу, в дверях появилась Ясуко. Сигэко, сидевшая на корточках среди обломков стекла, заплакала навзрыд. Ясуко, не снимая рюкзака, примостилась на ступеньке в коридоре и тоже зарыдала от радости. — Не три лицо, Ясуко, — предупредил я, — у тебя все руки не то в дегте, не то в смоле. Ты пришла в самый раз. Еще несколько минут, и мы ушли бы разыскивать тебя в Удзина. Ясуко стала для меня как родная дочь. Случись с ней что-нибудь, не представляю, как я глядел бы в глаза родителям Ясуко. Ведь это по моему предложению Ясуко приехала в Хиросиму. В то время всех девушек и молодых женщин — и в городе и в деревне — поголовно отправляли работать на военные заводы и там их заставляли и тяжелыми молотками орудовать, и ящики со снарядами таскать. Я служил тогда на фабрике в Фуруити, и всякими правдами и неправдами мне удалось устроить Ясуко курьером у нашего директора... — Что с вашей щекой? — воскликнула, глядя на меня, Ясуко. — Ничего особенного, небольшой ожог, — ответил я. Когда мы немного успокоились, Ясуко рассказала обо всем с ней происшедшем. Нодзима нанял в Миядзу рыбачью лодку и переправил женщин на правый берег реки Кёбаси, к мосту Миюки. Жена Нодзима тоже хотела поехать вместе со всеми, но Нодзима убедил ее остаться в доме родителей. А жены Ёсимура, Миядзи и Дои приехали вместе с Ясуко. Нодзима довез их всех до места, заявив, что его «долг — доставить всех женщин домой целыми и невредимыми». Итак, предположение, которое я высказал у бассейна, наполовину оправдалось. Дым от пожаров превратил день в сумерки. Воды в кранах не было, и я посоветовал Ясуко вымыть руки у источника, но сколько она их ни терла, темные пятна не сходили. Ясуко объяснила, что это следы от черного дождя, под который она попала. Я пошел к Нодзима, чтобы узнать, как у него дела, и заодно поблагодарить за все, что он сделал для Ясуко. Нодзима торопливо собирал вещи, готовясь к отъезду. На его руках я увидел такие же, как у Ясуко, следы черного дождя. — Должно быть, вам на кожу попал ядовитый газ? — предположил я. — Нет, не газ, — ответил Нодзима, запихивая в рюкзак провизию и блокнот. — Говорят, что черный дым после взрыва смешался с каплями воды. Вот и получился черный дождь. Этот черный дождь пролился в западной части города. Недавно я разговаривал с сотрудником санитарного отдела муниципалитета, он-то и объяснил мне. Этот человек утверждал, что никакого вреда от черного дождя не должно быть. «Кому-кому, а сотруднику санитарного отдела можно верить», — подумал я. По словам Нодзима, пожар вот-вот перекинется на район Сэнда-мати. Поэтому сразу же после возвращения домой Нодзима поспешил к мосту Миюки и попросил рыбака подождать его: сейчас он соберет вещи и придет. Нодзима хотел отправиться в Миядзу и предложил мне поехать вместе с ним. — С удовольствием, — радостно воскликнул я. — Все равно здесь скоро начнется пожар. К тому же по делам фирмы мне надо обязательно побывать в транспортной конторе Удзина. Скажите, Нодзима, а вы можете захватить с собой Сигэко и Ясуко? Нодзима кивнул. — Я думаю, что на спортивной площадке они в безопасности, но какой смысл оставаться там, ведь ваш дом все равно сгорит, — сказал он. К этому Нодзима добавил, что жены Дои и Ёсимура, которых он привез из Фуруэ, тоже находятся на площадке. Жена Миядзи же, прочитав оставленную ей записку, отправилась к родственникам в Китидзима-тё. Меня, как всегда, удивила его осведомленность: только-только приехал, а уже в курсе всех событий. Решение уехать из Хиросимы придало мне бодрости. Вернувшись домой, я громким голосом сообщил жене и племяннице: — Мы уезжаем в Удзина. Нодзима берет нас с собой в лодку. Сигэко и Ясуко чрезвычайно обрадовались. Вместе с Нодзима мы быстро зашагали по дамбе к мосту Миюки. Однако никто нас там не ждал. — Ничего не понимаю. Куда девалась лодка? — пробормотал Нодзима. — Сейчас отлив. Вряд ли она поднялась вверх по течению, скорее всего стоит где-нибудь ниже. Давайте поищем ее. — Вон там какая-то лодка, — крикнул я, указывая пальцем на темное пятно посреди реки. — Нет, это полузатопленный катер, — ответил Нодзима. — А у рыбака из Миядзу рыбачий бот — тонны на две с половиной. Называется «Кюсин-мару»... Вот незадача, нет лодки... С высоты дамбы мы видели многочисленные дома. Все они покосились. Чем дальше на запад мы уходили, тем меньше становился этот перекос. Но разрушения и здесь были значительные. Куда ни кинь взгляд, всюду виднелись сильно поврежденные крыши — пострадали и большие новые дома. Нодзима воспринимал постигшую нас неудачу как унизительную для своего достоинства. Он то хранил молчание, то вдруг, словно о чем-то вспомнив, начинал бормотать извинения. По насыпи в том же направлении, что и мы, брели многочисленные беженцы. Нодзима шел быстро, и я едва поспевал за ним. В горле пересохло, ноги разболелись. Оглядываясь на Сигэко и Ясуко, я видел, что они изнемогают под тяжестью рюкзаков. — Извините, Нодзима, но нам за вами не угнаться, — наконец решился я сказать. Нодзима остановился. — Простите меня. Зря я потащил вас с собою. Но кто мог подумать, что меня так подведут. — Что вы! Что вы! — воскликнула Сигэко. — Вы тут ничуть не виноваты. Но нам лучше идти порознь. Будьте здоровы, Нодзима, берегите себя. — Простите меня, я очень виноват перед вами, — повторил Нодзима. — Я пойду дальше, может быть, мне все-таки удастся разыскать лодочника. — Приложив ладонь к шапке, он стремительно зашагал вперед. Чувствуя сильную жажду, я вытащил из рюкзака бутылку с водой и стал пить прямо из горлышка. Когда Нодзима скрылся из вида, я снова закинул рюкзак за плечи и, стараясь выяснить настроение Сигэко, сказал: — Во всяком случае, мы должны быть благодарны Нодзима за то, что он уговорил нас уехать. Главное — решиться. Пожар в Хиросиме быстро распространялся, и оставаться в городе было неразумно. Лучше где-нибудь переждать несколько дней. Наконец мы добрались до транспортной конторы в Удзина. Стекол в окнах почти не осталось, в комнатах гулял ветер. Начальник конторы Сугимура расспрашивал меня о текстильной фабрике в Фуруити, но я ничего не смог ему сообщить — мне так и не удалось там побывать. О том, что случилось в Хиросиме, я рассказал ему очень сбивчиво, ведь и мне самому далеко не все было ясно. Когда я передал рассказ Миядзи о том, как главную башню хиросимского замка подняло в воздух и отбросило на добрую сотню метров, Сугимура воскликнул: «Неужели? Башня же такая огромная!» — и тут же замолчал. Видно, он был потрясен этим больше всего. Я передал Сугимуре квитанцию от директора фабрики в Фуруити и получил от него расписку. Затем устно сообщил ему о некоторых интересовавших его вещах. Сугимура любезно угостил нас горячими рисовыми колобками, маринованной редькой и овощами, сваренными в сое и сахаре. Угощение было превосходное. Покончив с едой, мы простились с Сугимурой и на следующий день по трамвайным путям отправились обратно. Наконец мы добрались до моста Миюки. Весь наш квартал представлял собой груду еще дымящихся развалин. Сгорели все дома до единого. Стлавшийся по земле дым сносило к востоку. Казалось, будто он нежно гладит пепелище. Стало быть, не зря мы ушли отсюда. Тщательно обходя раскаленные угли, я пересек спортивную площадку, миновал какой-то небольшой мостик и вышел к задам нашего дома — вернее говоря, нашего бывшего дома. Сигэко и Ясуко неотступно следовали за мной. От дома не осталось даже стен. Лишь роща камфарных деревьев вдали, за пеленой дыма, по-прежнему, словно напоказ, выставляла свои ярко зеленеющие ветви. Чуть поближе виднелась одинокая ива. Ветви ее свисали, как черные проволоки. Растения у нас в огороде сморщились от жара, их листья свернулись и пожухли. Огромной свечой пылал уже наполовину сгоревший телеграфный столб. Когда поднимался ветер, негромко потрескивали обугленные остатки нашего дома, ало вспыхивали посеребренные пеплом угли. Покинув пепелище, я еще долго оглядывался на то место, где стоял наш дом. — Где мы сегодня будем ночевать, тетя? — спросила Ясуко. Сигэко ничего не ответила. — Надо идти на фабрику, — предложил я. — Не то придется ночевать на берегу реки. Другого выхода нет. Мы пересекли поле и пошли вдоль берега, пока не поравнялись с начальной школой Сэнда. Рядом со школьным двором, на улице, лежала лошадь. Ее обгоревший дочерна большой живот через короткие промежутки времени то вздувался, то опадал. Лошадь была еще жива. Зайдя в школьный двор, мы отыскали противопожарную бочку и смочили в ней полотенца, чтобы прикрыть рот и нос от дыма. Обдумав кратчайший путь до фабрики в Фуруити, я повел обеих женщин за собой. Миновав мосты Хидзияма и Сагино, мы выбрались на главную улицу. Временами ветер разгонял дым и можно было видеть здания универмага Фукуя, газетного издательства, отделения японского банка, электрокомпании Тюгоку, муниципалитета. Из окон валил дым. Когда менялось направление ветра, дым, словно обессилев, медленно выползал из окон с противоположной стороны, и тогда становились видны трамвайные пути и редкие прохожие. Потом снова все вокруг окутывалось клубами дыма. Мы шли, прикрывая лицо мокрыми полотенцами, но вскоре они высохли и почернели от сажи. Идти сквозь густые клубы дыма опасно. Наступишь невзначай на раскаленные угли — и не миновать тяжелого ожога. Я громко предупреждал обеих женщин, чтобы они ждали, пока дым не рассеется. Так мы и продвигались вперед: чаще стояли, чем шли. Я уже начал раскаиваться, что потащил за собой жену и племянницу. Выберемся ли мы когда-нибудь из этого ада? Но ведь навстречу — пусть изредка — попадаются люди: стало быть, и мы должны пройти. Больше всего я беспокоился за Ясуко. Ведь это по моей вине она оказалась в Хиросиме. Нас снова захлестнула волна дыма. Жара нестерпимо усилилась. Дышать было нечем. Ясуко не выдержала и заплакала. — Стой на месте! — закричал я. — Стой на месте! Не то сгоришь в этом пекле! Немного погодя мы двинулись дальше. За мостом Сагино дышать стало легче. На северо-востоке пожар прекратился и дыма было меньше. Справа смутно маячила гора Футаба. Огромное, похожее на медузу облако исчезло. — Ну вот, самое худшее позади. Мы спасены! — воскликнул я, пытаясь приободрить Ясуко и жену. Но они так устали, что не могли вымолвить ни слова. Глаза у обеих покраснели, налились кровью. Отдыхать пока еще рано, решил я, и пошел вперед. Перед нами расстилалось царство обугленного дерева. Кое-где дотлевали деревянные балки, и бесчисленные дымки лениво плыли в небо. В стороне Ёкогава пожар продолжался. То там, то тут вздымались столбы пламени. От храма Хакусима осталась лишь каменная ограда. Три громадных лавра около храма Кокутайдзи были словно выкорчеваны чьей-то могучей рукой. Обуглившиеся стволы валялись на земле, широко раскинув огромные корни. Сотни лет жили эти исполины — и вот им пришел конец. Поминальное надгробье над могилой самурая Ако повалилось к югу. Памятники на могилах клана Асано походили на поваленный бурей лес. Ботинки утопали в вязком асфальте. Оболочка кабелей расплавилась, и капли свинца, словно роса, длинной серебристой цепочкой окропили землю. Стальные опоры над трамвайными путями покосились, и свисавшие с них провода нагоняли на всех страх: может быть, по этим проводам еще бежит высоковольтный электрический ток! Погибших попадалось здесь меньше. Они лежали в различных позах, но, как правило, лицом вниз. Таких было, пожалуй, процентов восемьдесят, если не больше. Недалеко от остановки Хакусима лежали на спине тела мужчины и женщины. Оба были совершенно обнажены, руки раскинуты, колени подтянуты к животу. Волосы сгорели полностью, и лишь по очертаниям грудей можно было, хотя и с трудом, отличить женщину от мужчины. «Странная смерть!» — подумал я. Сигэко и Ясуко прошли мимо, даже не взглянув в их сторону. Однако чаще всего погибшие лежали, уткнувшись лицом в землю. Теперь мы понимали причину их гибели: они задыхались от жара и дыма. Стоило только упасть — и все кончено. Мы и сами совсем недавно были на волосок от смерти».Глава VII
Наступил июнь. Сигэмацу продолжал переписывать свой дневник. Июнь богат праздниками. Третьего — Праздник начала лета и поминовения погибших насекомых, одиннадцатого — Праздник посадки риса, четырнадцатого (по старому лунному календарю)— Праздник ирисов, пятнадцатого — Праздник каппа[110] и, наконец, двадцатого — Праздник рубки бамбука. Все эти скромные празднества выражают интерес бедняков крестьян к мелким событиям повседневной жизни, хотя она их и не очень балует. Сигэмацу писал и писал, события тех страшных дней все живее, все неотразимее всплывали в его памяти, и он часто задумывался над тем, как дороги — как бесконечно дороги стали ему скромные крестьянские празднества... «Наконец мы добрались до остановки Камия-тё. Здесь пересекались две трамвайные линии и скрещивалось великое множество проводов, целых и оборванных. Некоторые, вероятно, до сих пор были под напряжением. На своем пути я уже не раз видел, как из проводов начинают вдруг сыпаться сине-белые искры. Редкие прохожие тщательно обходили все провода, а там, где обойти было нельзя, проползали под ними на животе. Я шел по левой стороне дороги, намереваясь выйти к мосту Аиои, а оттуда к Сакан-тё. От пепелищ шел такой сильный жар, что я вынужден был перейти на другую сторону, но и здесь было не лучше. К тому же прямо передо мной рухнула пылающая рама. Она выпала из окна на верхнем этаже кирпичного дома в европейском стиле. Оставалось идти по самой середине улицы, под грозно нависающими проводами. Особенно опасными казались мне скрещения проводов. Под одним из таких скрещений я увидел три обуглившихся трупа — мужчину и двух женщин. «Нас тоже трое», — подумал я и предупредил жену и Ясуко: — Идите прямо за мной, ни шага в сторону. Я буду разводить провода. Если упаду, тащите за одежду, поняли? Лучше всего хватайте за штаны. Но только не касайтесь голого тела. Я поступал точно так же, как и все беженцы: палкой раздвигал провода, полз где на четвереньках, а где и на брюхе. — Намотайте на левый локоть полотенце, — посоветовал я женщинам, глядя на других беженцев. — А то обдерете кожу. Наконец мы выбрались на открытое место и остановились, оглядывая друг друга. У Сигэко все было в порядке, а вот Ясуко сильно ободрала левый локоть — должно быть, плохо обмотала его полотенцем. Немного погодя мы подошли к воротам западного плаца. Трава на насыпи была выжжена начисто, земля оголена. Деревья стояли обугленные, с нагими ветками, без единого листка. Штаб дивизии, временный военный госпиталь, храм Гококу и главная башня Хиросимского замка — все это бесследно исчезло. На земле валялись какие-то круглые штуки. Вначале я никак не мог сообразить, что это такое, и, только внимательно рассмотрев, понял, что это скрученные листы жести. По-видимому, во время пожара они раскалились и стали мягкими, потом сильным порывом ветра их сорвало с крыши, подняло вверх и скрутило в шары, похожие на рисовые колобки. Миновав плац, мы пошли дальше на север. Около храма Гококу, прислонясь спиной к ограде и глядя неподвижными глазами куда-то вдаль, стоял солдат с винтовкой. Мертвый. Это был рядовой первого класса — слишком уж мелкий чин для тридцатисеми-тридцативосьмилетнего возраста. На его лице сохранилось выражение достоинства. Весь этот район расположен невдалеке от того места, где упала бомба. К западу от Хиросимского замка мы увидели мертвого юношу. Он ехал на велосипеде и ударился о стену замка. Рядом валялась картонная коробка. По-видимому, это был посыльный, который вез кому-то еду. Юноша походил на высушенного кузнечика. Наконец мы добрались до дамбы. Только мы присели отдохнуть, как меня окликнул знакомый сержант полиции Сато. Он сразу же заметил, что у меня обожжена щека. Сато рассказал мне, что служит теперь в главном управлении провинции Тюгоку. Их главный инспектор господин Оцука погиб под развалинами своего дома. А я и не знал, что существует такое учреждение. Какое упущение с моей стороны. Сато объяснил мне, что опасность непосредственного вторжения противника на территорию Японии усилилась и поэтому созданы особые управления, наделенные функциями провинциальных правительств. Это дает возможность продолжать войну даже в том случае, если вражеские войска рассекут Японию на несколько частей. Сейчас в помещениях школ и заводов спешно накапливают оружие и боеприпасы. — Теперь-то мне понятно, что означает лозунг: «Война только еще начинается», — вставил я, выслушав его объяснение. — Политика прежняя: укреплять страну, укреплять армию. Та самая, которая началась полстолетия назад. Мы не имеем права считать, что конец близок, не имеем права падать духом. Мы должны положиться на волю судьбы... Средняя часть моста Мисаса была разрушена. Мы пошли по дамбе к мосту Аиои. Правее дамбы на траве валялось множество мертвых тел. И по реке плыли утопленники. Один из них зацепился за корни росшей у воды ивы, попал в небольшой водоворот, и на поверхности показывалась то верхняя, то нижняя часть его туловища. Руки иногда вздергивались вверх, как будто хватаясь за ветки ивы, и тогда казалось, что это не утопленник, а живой человек... За мостом Ёкогава продолжался пожар. Раздуваемый ветром, он взвивал в небо огромные языки пламени. О том, чтобы пойти туда, не могло быть и речи. На траве, под мостом, около одной из опор стояла лошадь. Круп и голова у нее были покрыты страшными ожогами. Ноги дрожали: казалось, вот-вот она свалится на землю. Рядом лежал ее хозяин, от него сохранилась лишь нижняя часть тела: военные бриджи, сапоги с золотыми шпорами — такие носят только офицеры. Воображение нарисовало мне, как этот офицер прибежал на конюшню, вскочил на свою любимую лошадь и поскакал. И вот теперь, полуживая, она преданно — или это мне только кажется? — глядит на него, ожидая повелений. Солнце только еще начало клониться к западу. Как мучительно, должно быть, чувствовать прикосновение его жгучих лучей к опаленному крупу! И как велика ее преданность своему хозяину! Думая об этом, я не испытывал никакой жалости, лишь бесконечный ужас. Дальше нам пришлось идти вдоль берега реки. Мы шли то по поросшим травой островкам, то по мелководью. Когда мы поднимались на островки, вода, хлюпая, выливалась из полуботинок. Идти по суше казалось легче, — но в ботинки быстро набивался песок, растирая в кровь ноги, и каждый шаг сопровождался невыразимой болью. В конце концов мы убедились, что лучше всего идти по воде. На одном из островков, раскинув руки, лежал человек и пил воду. Мы хотели последовать его примеру, но, подойдя ближе, с ужасом обнаружили, что он мертв. — Не стоит пить, можно отравиться, — сказала Ясуко. — Пожалуй, ты права, — отозвался я, — лучше не пить. Чем дальше мы уходили, тем чище становился воздух. Дым от пожаров сюда почти не доползал. Справа показалось рисовое поле, и мы по обрушенному откосу набережной вскарабкались на берег. Отсюда мы пошли по меже в сторону железнодорожной линии. На поле лежала большая группа школьников, посланных, видимо, на сельскохозяйственные работы. Все были мертвы. В одном месте поперек межи лежало тело пожилого человека в мокрой одежде. Вероятно, он прилег, чтобы напиться воды с затопленного рисового поля. Стало ли ему плохо или просто голова закружилась, неизвестно, но он так и не смог подняться. Мы перешагнули через тело и пошли дальше. Межа сворачивала то вправо, то влево, пока не завела нас в бамбуковую рощу, использовавшуюся, по-видимому, для сбора молодых ростков бамбука. Роща была хорошо ухожена, нижние ветви деревьев аккуратно подрезаны. В прохладной тени было так хорошо, что мы, не сговариваясь, сели на землю. Я отстегнул санитарную сумку, снял шапку, разулся и лег на спину. И как только лег, почувствовал странную легкость во всем теле и мгновенно уснул. Сколько времени я проспал — не знаю; разбудила меня нестерпимая жажда. Жена и Ясуко спали, подложив руки под головы. Я подполз к жене, вытащил из ее рюкзака двухлитровую бутыль с водой и жадно прильнул к горлышку. Небесный нектар, а не вода! Даже не представлял себе, что она может быть такой вкусной. Когда жена и Ясуко проснулись, солнце уже низко склонилось к западу. Жена молча взяла у меня бутылку, подняла ее двумя руками и, закрыв от удовольствия глаза, стала пить. Затем, так же молча, передала ее Ясуко. Ясуко тянула долгими глотками, и всякий раз, когда она отрывалась, кверху бежала цепочка пузырьков. Вода в бутылке быстро убавлялась, и в тот самый миг, когда я подумал, что хорошо бы Ясуко оставила немного воды, она опустила бутылку. Осталось не меньше стакана. Жена достала из рюкзака мешочек с солью и почерневшие с одного бока огурцы. — Где ты купила такие? — спросил я. — Утром их принесла Мураками, та самая, что живет в Мидори-тё! Оказалось, что накануне Сигэко угостила Мураками помидорами, присланными родственниками из деревни. В благодарность за это рано утром Мураками принесла с десяток копченых рыбешек и три огурца. Огурцы Сигэко положила в ведро с водой, стоявшее около бассейна. Почернели они скорей всего во время взрыва. — Любопытная история, — пробормотал я. Вернувшись со спортивной площадки домой, я увидел в нашем саду гусениц. Они преспокойно объедали листья азалии. Стало быть, огурцы обгорели, а гусеницам хоть бы что. Из глубины рощи потянуло дымком. Я поднялся и, осторожно раздвигая кусты и молодые деревья, пошел на разведку. На небольшой полянке группа мужчин наскоро строила шалаши из стволов зеленого бамбука и веток. Женщины готовили еду. Судя по всему, беженцы собирались провести здесь ночь. Между ними шел оживленный разговор. Я прислушался. Говорили о том, что все дома вдоль шоссе заперты — никто не хочет впускать к себе беженцев. Затем кто-то рассказал, как в галантерейный магазин напротив станции Митаки незаметно прокралась молодая беженка. Когда хозяин обнаружил ее в стенном шкафу, она была уже мертва. Увидев на ней летнее парадное кимоно своей дочери, галантерейщик со злостью стал срывать с нее этот наряд. Оказалось, кимоно надето было на голое тело. По-видимому, когда вспыхнул пожар, молодая женщина выскочила из дома в чем мать родила, кое-как добежала до галантерейного магазина и постаралась прикрыть свою наготу... Беженцы высказывали опасения, что враг может сбросить такие же бомбы и на другие города. Куда смотрят японская сухопутная армия и флот! Но самое страшное, если начнется вторжение. Стараясь не шуметь, я вернулся назад и сказал, что нам пора идти. Сигэко и Ясуко промолчали. — Ну, пошли же, — повторил я. Но разбитые непреодолимой усталостью женщины не двинулись с места. Только после долгих настояний они нехотя встали и поплелись вслед за мной. Ноги у меня — да и не только у меня — болели так сильно, что страшно было наступить на землю. За этот день я прошел около семнадцати километров, жена — километров десять, да и Ясуко около восьми. И как трудно давался нам каждый шаг! У жены был с собой мешочек, полный жареного риса. Все мы угощались по очереди. Жареный рис очень вкусен — вкуснее даже воды и огурцов. Особенно приятно есть его на ходу. Разжуешь хорошенько, и будто во рту у тебя какая-то сладость. Недаром в прежние времена путешественники всегда запасались на дорогу жареным рисом. На вид вроде бы ничего особенного, а еда замечательная — пальчики оближешь. Я молча благодарил родственников жены, которые прислали нам рис из деревни. По шоссе шли беженцы. Двери домов вдоль дороги были наглухо закрыты, а все ворота и калитки заперты. Кое-где виднелись кучи наполовину сгоревшего хвороста — видимо, остатки костров, которые разводили беженцы, чтобы согреться. Наконец мы добрались до железнодорожной станции Ямамото. Отсюда уже ходила электричка. В вагонах было очень тесно, но нам все же удалось втиснуться в тамбур. Голос кондуктора известил об отправлении. Все, кто остался на платформе, недовольно зашумели. Поезд дернулся, потом остановился, снова дернулся и снова замер на месте. — Едем мы или не едем, черт побери! — закричал кто-то в сердцах. Где-то в середине вагона мужчина разразился целой речью. Начал он примерно так: — Друзья мои, вы сами видите, в какое плачевное состояние пришли государственные железные дороги. Всюду продажность и коррупция. Железнодорожные служащие охотно перевозят товары для черного рынка, но на честных людей им наплевать... Остаток этой речи потонул в громком перестуке колес».Глава VIII
«Вдоль железной дороги тянулось шоссе на Кабэ. По нему нескончаемой вереницей брели беженцы. Тех, кто не мог идти сам, везли на тележках. Поезд уже обогнал многие сотни этих людей, когда вдруг спереди послышался какой-то громкий лязг, и немного погодя мы остановились. — В чем дело? Здесь ведь не остановка. Видно, не зря этот человек распространялся о государственных железных дорогах, — зло проговорил стоявший рядом с нами пассажир. Он спрыгнул на землю, вышел на шоссе, закинул за спину плетеную сумку и, не оглядываясь, направился в сторону Кабэ. Пожилой, крепкий на вид мужчина... Поезд стоял неподвижно. Духота внутри все усиливалась. — Черт бы побрал эту электричку! — выругался другой пассажир. — Долго она будет здесь торчать? Пойду-ка я лучше пешком. — И он тоже вылез через окно из вагона и пошел по шоссе. За ним последовали еще несколько человек. Стало чуть-чуть попросторней, и я пробрался в вагон. Жена и племянница были уже внутри. Вдоль вагонов прошел кондуктор, громким голосом предупреждая, что придется немного подождать, пока не устранят поломку. После этого еще несколько человек покинули вагон. Стало совсем свободно, и между молчавшими до сих пор пассажирами завязались беседы. Конечно, все разговоры вертелись вокруг одной и той же темы — бомбардировки. Каждый рассказывал лишь о том, что видел и слышал, поэтому трудно было представить себе общую картину. Сидевший у окна юноша, по виду ученик последнего класса средней школы, уступил место старушке, которая стояла возле мужчины с глубоко запавшими глазами. То ли из благодарности, а может быть, из любопытства, старушка стала расспрашивать школьника, где он был во время бомбежки. Тот нехотя рассказал, что когда вспыхнул огненный шар, был дома. Услышав грохот, он бросился наружу. В то же мгновенье дом обрушился, и он потерял сознание, а после того как пришел в себя, увидел, что его придавили обвалившиеся балки, и отец тщетно старается его высвободить. — Держись! — повторял отец, с помощью жерди пытаясь приподнять балку, прижавшую ногу сына. Пожар быстро приближался. — Вытаскивай ногу! — кричал отец. Но юноша ничего не мог сделать. И вот огонь совсем уже рядом. Отец быстро огляделся и закричал: — Прости меня, сынок. Я ухожу, прости! — Он отбросил жердь и побежал. — Спаси, отец! — крикнул вдогонку юноша, но тот лишь раз оглянулся и исчез из виду. Потеряв всякую надежду, парень сжался в комок, стараясь укрыться от пожара под балками. И вдруг почувствовал, что его нога свободна. Так иногда бывает. Бьешься, бьешься над головоломкой — и вдруг случайно находишь решение. Юноша, очевидно, сделал то единственное движение, которое только и могло его спасти. Высвободившись, он бросился бежать к Митаки, где жила его тетка. Влетев в ее дом, он лицом к лицу столкнулся с отцом. Можно себе представить, что это была за встреча. Тетка глядела на них обоих, не говоря ни слова. Отец, должно быть, сгорал от стыда. А парень, опрометью выскочив на улицу, сел в электропоезд и поехал в родную деревню своей покойной матери. Запомнилось мне и то, о чем говорил человек в льняной сорочке. Он осуждал безответственность, проявленную, по его словам, чиновниками военного отдела муниципалитета во время бомбардировки: они, видите ли, даже не сочли нужным оповестить штаб дивизии о тех бедствиях, которые обрушились на город. Человек в льняной сорочке выказывал явную неприязнь не только к чиновникам, но и к военным. — Несколько дней тому назад я сам имел возможность убедиться, какие чувства питают штатские к военным, — проговорил он и в подтверждение своих слов рассказал о таком случае. Третьего дня он возвращался поездом из Ямагути в Хиросиму. Вагон был набит битком, но какой-то лейтенант спал, заняв целую скамейку. Рядом на полу стояли его сапоги. Пассажиры злобно косились на спящего, но помалкивали. Контролер сделал вид, будто ничего не заметил. Когда поезд подъезжал к станции Токуяма, один из пассажиров разломил пополам рисовый колобок, сунул по половине в каждый сапог и, как ни в чем не бывало, направился к выходу. Другой пассажир поднял сапоги, потряс их, чтобы рисовые колобки закатились поглубже, в самые носки, и тоже направился к выходу. С продовольствием в те дни было очень плохо, и он, видимо, не хотел, чтобы такая благородная жертва пропала даром. Лейтенант продолжал крепко спать. Стоявшие рядом пассажиры злорадно улыбались. Некоторые, боясь попасть в неприятную историю, перешли в другой вагон. Военный проснулся возле Отакэ. Впереди была Хиросима. Он с важным видом поднялся, надел фуражку и стал натягивать сапоги. Внезапно лицо его перекосилось. Он быстро стащил сапоги и, увидев прилипшие к носкам куски риса, завопил на весь вагон... Человек в льняной сорочке умолк, почувствовав, что стоявшая рядом женщина толкает его в бок. Но чувство достоинства не позволило ему резко оборвать разговор, и он обратился к сидевшей напротив него женщине — судя по наружности, хозяйке небольшой лавчонки: — Извините за вопрос, а вы куда едете? Женщина нехотя ответила, что ей негде переждать обрушившееся на город бедствие, муж ее, рабочий, погиб на войне, так же как и его младший брат. Ее собственный брат тоже воюет. Единственный восьмилетний сын сегодня утром разбился насмерть. Жила она в небольшом домике, возле ресторана. За оградой росло гранатовое дерево. Его ветви свешивались к ним во двор. В этом году на них зрели несколько гранатов. Ее сын приехал из деревни, куда был эвакуирован вместе со всей школой, и в тот же день должен был вернуться обратно. Рано утром мальчик взял отцовскую стремянку, подставив ее под ветви граната, и полез вверх. Она наблюдала за ним, стоя в стороне. Приближая губы к каждому плоду по очереди, ребенок шептал: — Не падай, гранатик, пока я опять не приеду. И вдруг в небе вспыхнул огненный шар, послышался громкий гул. Взрывная волна повалила ограду ресторана и опрокинула стремянку. Мальчик погиб, ударившись то ли о землю, то ли о кирпичную стену... У меня было такое впечатление, будто поезд стоит уже добрых два часа. Но когда поинтересовался, который час, оказалось, что прошло всего тридцать минут. Наконец неисправность была устранена, и мы поехали дальше. На заводе в Фуруити директор и начальники цехов встретили нас очень тепло и даже пригласили в комнату для почетных гостей. Мы все плакали от радости. Жена и Ясуко ушли на кухню, а я решил вымыться. Одна из служащих притащила воды из колодца и налила ее в тазик. Сторож принес мне чистую одежду. Я смочил в воде полотенце, отжал его и обтерся. Воду в тазике меняли несколько раз, но она продолжала чернеть. Конца этому не было, и, намучившись, я решил, что с меня хватит, вытерся насухо и переоделся во все чистое. Директор пригласил меня в кабинет, и я рассказал ему о том, что видел в Хиросиме, а потом, несмотря на поздний час, пошел на фабрику. Стекла в окнах были выбиты, в цехах гулял ветер, но само здание и станки не пострадали. В трепальном цехе и в цехе очистки тоже не осталось ни одного стекла, других повреждений я не заметил. Закончив осмотр цехов, я заглянул на кухню. Там было светлее, чем обычно. Взрывная волна сорвала заслонку вентиляционного люка, и весь пар выходил наружу. Повариха рассказала, что разбилось несколько больших тарелок, остальное сохранилось в целости. И в общежитии, в углу коридора валялась груда битого стекла, прикрытая старой газетой. Женщины укладывали свои вещи. Комендант общежития объяснил мне, что по распоряжению директора всем легкораненым рабочим, способным двигаться, предоставлен отпуск, с тем чтобы они могли уехать к себе в деревню. Начальники отделов и инженеры, живущие в Хиросиме, отправились в город узнать, что стало с их семьями. Кроме небольшой группы рабочих и сторожей, на фабрике остались только директор и начальники цехов. Работа была приостановлена. Все в страхе ожидали следующей бомбардировки».Глава IX
Тридцатого июня в портовом городе Онамити устраивают праздник в честь бога Сумиёси. В Кобатакэ молят Сумиёси о защите от наводнений. Из дерева делают четыре фонарика, вставляют в них зажженные свечи и спускают на воду в том месте, где горная речка образует водоворот. На каждом фонарике иероглиф, означающий одно из времен года: весну, лето, осень или зиму. Чем дольше кружится фонарик, тем лучше. Но если, к примеру, фонарик с иероглифом «осень» повертится немного и поплывет вниз по реке, значит, жди осенью наводнения. В этот день Сигэмацу решил натопить баню. Не успел он разжечь огонь, как появился почтальон с заказным письмом для Ясуко. Но Ясуко он не застал дома: девушка отправилась за покупками в Синъити. Письмо было от Аоно Гэнтаро из деревни Ямано — жениха Ясуко. Впервые он обращался к девушке непосредственно, а не через сваху. Сигэмацу с одобрением рассматривал четкие иероглифы, выведенные на конверте. — Эй, жена, — позвал Сигэмацу, — положи это письмо на стол Ясуко. Не знаю, что в нем написано, но разпарень прислал письмо, значит, дело идет на лад. Скоро будем играть свадьбу. Передав жене письмо, Сигэмацу подумал, что топить баню, пожалуй, не стоит, и отправился к себе в комнату. Ему так хотелось поскорее закончить переписку дневника, что он даже не пошел смотреть, как пускают по реке фонарики.«7 августа. Ясно.
Проснулся я от утреннего тумана, который заполз в комнату сквозь разбитые окна. Почувствовав, что мне холодит обожженную щеку, я обрадовался: стало быть, чувствительность восстановилась. Постели жены и Ясуко были пусты. Они давно уже встали. На улице слышались голоса. — Эй, ребята, — басил кто-то, — посадите еще одного или двух в свои грузовики и поезжайте. Нечего время тянуть. Уже половина шестого. Из продолжения разговора я узнал, что вчера вечером, когда я уснул, из Хиросимы прибыла большая группа раненых. Легкораненых по приказу директора отправляли по домам. К пяти часам утра к фабрике подъехали два грузовика. Водителям велели отвезти эвакуируемых со всеми их вещами на станцию Фуруити. На обратном пути они должны были подбирать всех тяжелораненых, обожженных рабочих и служащих фабрики, которые им только встретятся. Когда я попытался встать, нестерпимая боль в плечах, пояснице и ногах повалила меня на постель. Неужели такая боль может быть от усталости? Что-то непохоже. Перевернуться со спины на бок было очень трудно. Но я схитрил. Правой рукой ухватился за зад штанины, потянул на себя и перевернулся на бок. Потом подтянул ноги к животу, уперся о постель коленями и левым локтем и медленно приподнялся. Так встают больные радикулитом. И еще — исполнители японских танцев. Похоже, что сам основоположник японского танцевального искусства в свое время переболел этой мучительной болезнью. Наконец я дотянулся руками до подоконника и, опираясь о него, встал. Под тяжестью тела ноги сильно заныли. Продолжая держаться за подоконник, я сделал два-три шажка вперед и назад, и лишь когда немного размялся, отошел от окна. Мне еще повезло, что я лег в брюках и рубашке. Оказывается, и в одежде спать иногда неплохо. Не успел я прийти в себя, как вдруг почувствовал сильную резь в животе. Пришлось встать на четвереньки и сползти по лестнице вниз. Так было легче, потому что тяжесть распределялась на все четыре конечности. Недаром маленькие дети всегда прибегают к этому способу передвижения. После того как я сходил по нужде, резь в животе прекратилась. Ломота в плечах и пояснице притихла. Зато по-прежнему болели ноги. Болели так нестерпимо, что каждый шаг доставался с величайшим трудом. Когда я вышел на улицу, эвакуация раненых уже близилась к концу. Оставалось человек двадцать. В ожидании грузовика они стояли у главного входа, положив свои вещи на каменные ступени. Вдруг один из них крикнул: «Глядите, глядите!», выскочил на площадь и стал подбирать опускавшиеся с неба куски бумаги. — Что он там собирает? Может быть, он думает, что это банкноты? — съязвил один из раненых. Оказалось, что это обгоревшие обрывки нотных страниц. Должно быть, их подняло на воздух взрывной волной. Целый день и целую ночь они парили над землей, пока не опустились на эту площадь перед фабрикой. На одном из клочков, под нотами, я разобрал начальные слова песни: «Цветут вишни, цветут вишни в весеннем небе...» И директор поднял с земли кусочек бумаги. Прочитав то, что там было написано, он пробормотал: «Какой ужас! Подумать только!» — и сунул бумажку в карман. Прибыл грузовик. Эвакуируемые простились с директором и полезли в кузов. — Будьте здоровы! Не унывайте! — кричал директор, махая рукой вслед удаляющемуся грузовику. Пустые слова, но что мог он сказать им на прощанье? Всего эвакуировались двести пятьдесят человек. Среди них были не только легкораненые, но и вполне здоровые люди. Директор разрешил ехать всем, кто пожелает. Остались лишь тяжелораненые, те, кто за ними ухаживал, и, кроме того, рабочие, которые жили со своими семьями в общежитии, — чуть больше ста человек. В самом трудном положении оказались те, чьи семьи жили отдельно от них, в Хиросиме. Дома их сгорели, и уезжать им было некуда. Они слонялись по общежитию, не зная, как разыскать свои семьи. Я попросил нашу строительную контору изготовить дощечки для таких рабочих. Эти дощечки с адресами они и установили на развалинах своих домов. Придет какой-нибудь родственник, сразу отыщет их по этому адресу. Один пожилой рабочий потребовал целых три дощечки, он хотел установить их не только там, где был его дом, но и на тех местах, где стояли дома его дяди и тети. Немного погодя ко мне пожаловал служащий отдела кадров Уэда и сказал, что у этого рабочего нет ни дяди, ни тети. — Вот что получается, когда начинают проводить в жизнь идеалы Великой восточноазиатской сферы совместного процветания! Солдатских вдов становится все больше, молодых мужчин все меньше, а кое-кто пытается урвать себе лакомый кусочек, — добавил он, направляясь к выходу. Я заковылял вслед за ним и, когда догнал, предупредил: — Держите свои пораженческие настроения при себе. И все же обоих нас не покидало предчувствие неизбежного поражения. После обеда, когда я приступил к составлению списка эвакуированных, прибежал рабочий Нономия и сообщил, что один из тяжелораненых скончался. — Мучился он ужасно. Его все время рвало желтой рвотой. А потом он вдруг откинул голову — и конец, — рассказал Нономия. Покойник работал на заводе агентом по снабжению. Бомбардировка захватила его по дороге на службу. Лицо у него стало землистого оттенка, сильно распухло, но до самой смерти зрение и слух у него не притупились. Я попросил нашу строительную контору срочно изготовить гроб и послал рабочего Фудзики в муниципалитет с извещением о смерти, велев ему получить необходимые указания. Нономия я поручил сходить в Фуруити и привести священника и врача. Фудзики вскоре возвратился и сообщил, что городской муниципалитет практически бездействует, чиновник не только не дал никаких указаний, но даже отказался принять извещение о смерти. Врач отправился в Хиросиму разыскивать своих детей, и Нономия, естественно, не застал его дома. Другой врач ушел к тяжелораненому. И священник отказался прийти, он должен был читать заупокойные сутры над троими своими прихожанами, погибшими при бомбардировке. Словом, куда бы Фудзики и Нономия ни приходили, все были заняты своими делами и раздраженно от них отмахивались. Не быть, я обратился за советом к директору. Во время нашего с ним разговора из города вернулся охранник; он рассказал нам, что на речных отмелях дымятся костры: сжигают погибших. Очередь в крематорий так велика, что стоять в ней нет никакого смысла. Чрезвычайные обстоятельства заставляют прибегать к чрезвычайным мерам. Получить свидетельства о смерти было невозможно, необходимость принуждала обходиться без них. Дело осложнялось еще и тем, что жители Хиросимы и Фуруити были приписаны к разным муниципалитетам. Это требовало долгой бюрократической возни даже в мирное время, а уж о военном и говорить нечего. И все же действовать надо было осмотрительно, без всякой опрометчивости. Поэтому директор направил сотрудника общего отдела в город, приказав ему выяснить все, что нужно. Директор — человек моих лет. Он занимает промежуточное положение между государственным и частным служащим. Вероятно, поэтому он склонен к педантизму. К тому же он скорее теоретик, чем практик. Говорят, свою дипломную работу в колледже он посвятил изобретателю автоматического прядильного станка Ричарду Робертсу. Сотрудник общего отдела, вернувшись, доложил, что полиция разрешила сжигать покойников на отмелях. Этого требуют соображения санитарии. Чиновников, которые выдавали бы свидетельства о смерти, нет, а если бы и были, сдавать свидетельства все равно было бы некуда; в такую жару тела разлагаются очень быстро, поэтому всех умерших надо безотлагательно сжигать на речных отмелях или на холмах — подальше от человеческого жилья. — Думаю, предавать покойников земле не следует, — после некоторого раздумья сказал директор. — Вопрос о том, хоронить или сжигать, всегда решается государственными деятелями. А мы должны следовать общегосударственной политике... Что же, будем сжигать тела погибших служащих нашей фабрики на отмели. — Тут он обернулся ко мне и не допускающим возражений тоном добавил: — И все же мы не можем просто так, не совершая никаких обрядов, сжигать покойника: мол, на костер его — и дело с концом. Это неуважительно по отношению к усопшему. Я не верю в бессмертие души, но совершать обряд сжигания надо с соблюдением хотя бы элементарных приличий. Поэтому я поручаю тебе, Сидзума, читать заупокойные сутры вместо священнослужителя всякий раз, когда мы будем сжигать кого-нибудь из наших служащих. Остолбенев, я не знал, что ответить. Конечно, приказ есть приказ, но читать заупокойные сутры я не имел ни желания, ни права. Мой отказ не обескуражил директора, он продолжал настаивать на своем. — С каждым днем будет умирать все больше людей, — сказал он. — Тебе надо отправиться в какой-нибудь буддийский храм и переписать у священнослужителя заупокойные сутры. Большинство жителей Хиросимы исповедуют буддизм секты Син, поэтому желательно переписать сутры именно этой секты. — Господин Фудзита, — перебил я директора. — Переписать молитву — дело нетрудное. Но я мало что смыслю в обрядах буддийской религии. У меня нет никакой подготовки к чтению сутр. — А у кого она есть, такая подготовка? Тут нет никакой разницы между новичком и человеком опытным. Читать молитву — не прописывать лекарство. Особых знаний не требуется. Да и закон не запрещает этого. Может быть, тебе не хочется читать именно молитвы секты Син. Тогда читай молитвы секты Дзэн или Нитирэн. Выбирай сам. Я понимаю, конечно, затруднительность твоего положения, но тебе все-таки придется выполнить мою просьбу. Это даже и не просьба, а приказ. Упорствовать было бессмысленно. Ноги у меня все еще болели, поэтому я попросил у директора пару толстых носков, надел сандалии и, захватив с собой несколько визитных карточек и блокнот, вышел на улицу. Буддийских храмов в Фуруити было немало. Сперва я отправился в храм, где служителем был молодой человек, проявивший недюжинные способности во время учебы в буддийском колледже. Старушка-прислужница сообщила мне, что его забрали в армию, он служит сейчас при отряде Акацуки. В другом храме секты Син старая, глуповатая на вид женщина сказала мне, что старый служитель спит, а его ученик приглашен на обряд сожжения. Внимательно выслушав мою просьбу, она куда-то исчезла, потом вернулась и провела меня в большую комнату, где под маленькой детской противомоскитной сеткой отдыхал служитель. Он был так худ, что очертания его тела едва угадывались под тонким одеялом. Сквозь раздвинутые перегородки виднелись большие камни, песчаные дорожки и крошечный водопад. На огороде зрели оранжевые тыквы. Когда я еще раз изложил свою просьбу, старый служитель сказал сидевшей сбоку от него на циновке женщине: — Принеси мне, пожалуйста, «Тройное утешение», «Посвящение», «Гимн Будде», а также «Амида-сутру» и «Заупокойную проповедь». — Голос у него был тоненький и слабый, похожий на комариный писк. Женщина ушла в соседнюю комнату и тут же вернулась со священными текстами. — Покажи их этому господину. Хотя служитель говорил очень тихо, женщина беспрекословно выполняла его приказания. Все пять свитков были отпечатаны с деревянных досок. Я тотчас же приступил к их переписке. Старый служитель с помощью женщины слез с постели и расположился рядом со мной на циновке. Он сидел, опираясь на пятки, ладони покоились на поразительно худых коленях. — Непростое дело вам поручили, — вздохнул он и с сокрушением добавил: — Говорят, Хиросима сметена с лица земли. Какой «ужас, какой ужас! Его голос немного окреп. Я положил перо и рассеянно поглядел на огород, при виде оранжевых тыкв — таких веселых и нарядных — у меня невольно навернулись на глаза слезы. Смысл переписываемых молитв ускользал от меня. Лишь с помощью пометок мне удалось разобрать кое-что. «Тройное утешение» и «Посвящение» были написаны на китайском языке. В них говорилось о Будде, о Великом законе, о Спасении, о Бесконечном. «Заупокойная проповедь», написанная на родном языке, обогревала сердце радостью. — В нашей секте, — объяснил мне служитель, — во время обряда сожжения сначала читают «Тройное утешение», «Посвящение» и «Гимн Будде», затем «Амида-сутру», — и только тогда воскуряют благовония. Заканчивается обряд «Заупокойной проповедью». Читающий ее должен стоять лицом не к покойнику, а к тем, кто его слушает. Старый служитель неожиданно сильным голосом прочитал наизусть «Тройное утешение» и «Посвящение». Слушая его, я одновременно делал пометки в переписанном тексте. Затем он прочитал отрывки из «Заупокойной проповеди». В тишине комнаты его голос звучал с особенной торжественностью. Я хорошо понимал, что не мне напутствовать ушедших в мир иной, но надеялся, что могу способствовать их спасению, и решил вложить в чтение всю свою душу и сердце: такое глубокое впечатление произвели на меня мир и покой, царившие в комнате. На обратном пути я вновь и вновь перечитывал сутры, стараясь выучить их наизусть. Когда я вернулся на фабрику, все приготовления были закончены. В устланном циновками вестибюле общежития собралось не менее тридцати человек. Гроб стоял на слегка возвышавшейся над полом сцене, которой пользовались ораторы и артисты во время представлений. Принесенное кем-то детское ведерко наполнили песком и зажгли в нем ароматные курения. В двухлитровую бутылку из-под сакэ воткнули священное деревце сакаки. Появился директор Фудзита в парадном костюме. И я тоже для этого случая приоделся, одолжив пиджак у одного из служащих фабрики Фудзики. Вначале, сидя перед гробом покойного, я чувствовал некоторую скованность, но по мере того как читал сутры, не отрывая глаз от блокнота, я постепенно расходился и мое смущение рассеивалось. Читал я самозабвенно, но не без подобающей степени отрешенности. Читая «Тройное утешение» и «Заупокойную проповедь», я несколько раз споткнулся, но все-таки благополучно закончил чтение, повернулся к собравшимся и церемонно поклонился. Директор, а за ним и все остальные, горячо поблагодарили меня. Побагровев от смущения, я поспешил скрыться. Вскоре умер еще один человек, и, пока я заказывал для него гроб, еще один. На этот раз, как мне показалось, я прочитал сутры более гладко. К вечеру скончались еще четверо. Сначала ко мне обращались вежливо: — Извините, господин Сидзума, не прочитаете ли вы молитву над усопшим? Но потом просьбы стали не такими вежливыми. — Приходите, Сидзума, читать свои молитвы, — говорили теперь мне. И, по чести сказать, со временем это даже начало мне нравиться. После того как кончились доски для изготовления гробов, мне пришлось читать сутры возле мертвого тела. Лицо и туловище умершего обычно накрывали белой простыней, но из-под нее часто торчали неприятно воскового цвета ноги. А если их и прикрывали, то на простыне виднелись бурые пятна крови. По ритуалу сутры читают после того, как покойника кладут в гроб, и меня преследовало опасение, что нарушение этого ритуального правила может повлечь за собой непредвиденные последствия. Но я читал, читал, не отрывая глаз от блокнота, и это помогало мне восстановить нарушенное равновесие. Директор подшучивал надо мной, говоря, что будет платить за молитвы. Это была шутка, и я не принимал его слов близко к сердцу. Но родственники покойных стали всерьез одолевать меня подношениями, и я не знал, куда деваться. — Что вы, что вы, не надо, — растерянно восклицал я, отталкивая очередное подношение. — Примите, пожалуйста, не отказывайтесь, — настаивали некоторые. — А то душа усопшего не обретет покоя... Девушки из конторы по очереди приходили слушать, как я читаю сутры. Три или четыре даже попросили у меня разрешения переписать «Заупокойную проповедь». — Для чего вам эта молитва? — спросил я одну из них. — Слова очень красивые, — ответила она. — Вот эти, например: «Ныне или завтра, я или мои ближние...» Не помню, как дальше... Все это досаждало мне не так уж сильно, но, когда в перерывах между молитвами рассказывали о последствиях бомбардировки, я поневоле возвращался к действительности, и тогда волосы вставали дыбом, по коже пробегал мороз. Хотелось бежать от всего этого куда угодно, но бежать. Трудно даже описать, что я чувствовал — страх либо негодование, — но все подавляло собой желание бежать, бежать без оглядки. Вечером, когда стемнело, я поднялся на второй этаж и вошел в комнату, откуда открывался вид на Хиросиму. Обычно город сверкал огнями. Но сейчас Хиросима тонула во тьме. Лишь в единственном доме, где-то на восточной окраине, мигал слабый огонек. И это было страшнее всего! Пусть уж лучше кромешная тьма. Как-то спокойнее... Так прошел этот день. День, начавшийся и кончившийся похоронами.
8 августа. Ясный, жаркий день.
Накануне вечером мы вселились в маленький домик, построенный хозяином для его престарелых родителей, — метрах в ста от того квартала, где снимал жилье директор Фудзита. Рано утром меня разбудил громкий голос. Я поднялся с постели и выглянул наружу. В саду стоял наш служащий Утагава. — Вечером скончались еще двое. Приходите как можно быстрее, — пробормотал он скороговоркой и, не дожидаясь ответа, пошел прочь. Со мной обращались теперь, как со служителем храма, только не так уважительно. Я уже привык к своей новой обязанности: умоюсь, поем, отправляюсь на фабрику, а там попрошу у кого-нибудь пиджак и читаю молитву. Да и сама церемония упростилась до предела. Как только я заканчиваю чтение сутр, покойного увозят на берег реки и кремируют. Я дал себе клятву, что буду вкладывать в чтение всю свою душу. Но вот сегодня утром у меня появилось опасение, что я нарушу эту клятву. Придя в общежитие, я узнал, что скончалась старшая дочь служащего, которого мы кремировали лишь накануне. Во время бомбардировки она находилась в доме родителей в районе Тэмма-тё. Мать сидела, вся распухшая от сильных ожогов. Она, видимо, не понимала, что происходит. Младшая сестра почти не пострадала, но была в каком-то странном, полуобморочном состоянии и тоже плохо отдавала себе отчет в происходящем. Я подошел к ней и выразил соболезнование. В ответ послышалось холодное: «Благодарю». Даже выражение лица не изменилось. Ни слез, ни других проявлений чувств. Покойница лежала на спине. Сквозь прорехи в белой рубашке открывались упругие молодые груди, в ложбинку между которыми кто-то положил несколько желтых полевых цветов. Цветы поблекли, словно их долго орошали слезами. Это усугубляло чувство жалости. Когда закончилось чтение сутр, один из служащих спросил у младшей сестры, пойдет ли она к месту сожжения. Та ответила: «Да», — но отрицательно качнула головой. Мать продолжала сидеть неподвижно. Покойницу переложили на тележку, и процессия двинулась в путь. На песчаных отмелях, казалось, открылся новый крематорий. Повсюду вдоль берега вился дым — тонкими струйками над едва тлеющими, уже наполовину угасшими кострами, и густыми клубами там, где кремация была в полном разгаре. На дамбе тележку, за которой я следовал, остановили, и несколько людей из нашей процессии отправились подыскивать место для кремации. Один из них — тот, что пошел вверх по течению, — вскоре закричал: — Здесь есть подходящая яма. Огонь уже погас. Останки, должно быть, забрали родственники. — Нам все равно где. В яме так в яме, — отозвался кто-то. Тележку подкатили к яме и сняли с нее тело покойной. Посреди ямы лежало два камня — каждый величиной сантиметров по тридцать. Тело опустили на камни, высыпали уголь из двух привезенных ведер, туловище обложили щепками и обломками старых ящиков, голову и лицо посыпали опилками и с обеих сторон накрыли дощечками. Затем все это покрыли влажной травой и обернули смоченной в воде циновкой. На этом приготовления закончились. Циновка случайно сползла, и я увидел девичий локон, землистого оттенка лоб и край щеки. Сопровождавшие расселись кружком. — Зажигайте костер, — сказал, привставая, один из них. Я прочитал «Тройное утешение» и ушел еще до начала кремации».
Глава X
На другой день Сигэмацу снова сел переписывать дневник... «На обратном пути я вспомнил, что в общежитии лежит еще один покойник, и стал про себя повторять слова «Заупокойной проповеди». Смысл этой молитвы не проникал в душу. Перед глазами, словно в кошмаре, языки пламени лизали человеческие тела. Я был весь в поту, когда остановился перед входом в контору. Зайдя в умывальную комнату, я напился воды, разделся по пояс и тщательно вытерся влажным полотенцем, стараясь не касаться левой щеки, потому что стерильная салфетка накрепко приклеилась к месту ожога. До сих пор я не чувствовал никакой боли и не трогал салфетку. Но в этот день я решил ее сменить, взял индивидуальный пакет и подошел к зеркалу. Отлепив предварительно пластырь, которым прикреплялась салфетка, я осторожно снял ее. Обгоревшие ресницы превратились в черные катышки — словно подожженная шерстяная нитка. Щека стала темно-фиолетовой, облезшая кожа закрутилась, словно стружка, левая ноздря распухла и загноилась. Я с содроганием глядел на левую половину своего лица, и мне казалось, будто это не я, а чужой, незнакомый человек. Я ухватил кончиками пальцев один из закрученных клочков кожи и потянул. Боль подтвердила, что лицо мое. «То же самое испытываешь, когда пытаешься вытащить шатающийся зуб, — и больно, и вроде бы приятно, — думал я, отдирая один клочок кожи за другим. Хорошенько промыв место ожога, я смазал нос приготовленным дома снадобьем, которое порекомендовал мне деревенский плотник. В состав снадобья входил дикий лук. По словам этого плотника, оно особенно полезно при порезах и нарывах. Затем я с помощью пластыря прикрепил к щеке свежую салфетку. В полдень я отправился обедать. Ноги сильно болели, и мне было очень трудно взбираться на холм, к дому, где мы поселились. У поворота я посмотрел вверх и увидел Сигэко. — Гляжу, как ты плетешься, и мне самой больно, — крикнула Сигэко. — Подожди минутку, сейчас я принесу тебе какую-нибудь палку. — Вскоре она спустилась ко мне с деревянным копьем, которым пользуются для тренировки в рукопашном бою. Сигэко сказала, что это копье ей недавно подарила хозяйка. С копьем в руках я походил на участника разгромленного крестьянского бунта. Поддерживаемый Сигэко, я наконец преодолел крутой склон и добрался до дома. Пока мы шли вместе, я впервые заметил, что у Сигэко опалены волосы. Я спросил у нее, когда это случилось, и она ответила, что, по-видимому, во время бомбардировки шестого августа. На обед был жареный рис из наших собственных запасов, бобовая паста, тушенная с овощами в сое, и чай, настоянный на лепестках вишни. Наша семья редко позволяла себе такое угощение. Оказалось, сама Сигэко в то утро впервые заметила, что у нее опалены волосы. Шестого утром, после отбоя воздушной тревоги, она неожиданно услышала сильный взрыв и выглянула в кухонное окно. В то же мгновение ее ослепила яркая вспышка (тогда-то ей, вероятно, и подпалило волосы), и, потеряв сознание, она упала. Придя в себя, Сигэко увидела, что лежит на деревянном полу. Вокруг нее в полном беспорядке валялась кухонная утварь. Сигэко вышла через черный ход во двор. Кирпичный забор рухнул. Кое-где к небу поднимались языки пламени. Испуганная Сигэко бросилась на второй этаж. Раздвижные перегородки покосились, оконные стекла разлетелись на кусочки. Сигэко подбежала к окну. В саду горела верхушка сосны, из трансформатора на столбе вырывалось пламя. В районе муниципалитета поднимался огромный столб дыма. Пожар разрастался. Надо было немедленно оставлять дом. Сигэко прежде всего кинулась к белому шелковому мешочку с семейными реликвиями, который висел на столбике в гостиной, но его там не оказалось. Не было мешочка и в соседней комнате. Тогда она быстро собрала посуду, обувь и запихнула в непромокаемые мешки спальные принадлежности, собираясь опустить все это на дно бассейна. Выйдя во двор, она с удивлением обнаружила в воде мешочек с реликвиями, который она так упорно искала. Вероятно, его забросило туда воздушной волной. Сигэко подобрала мешочек, положила его в рюкзак. Опустила вещи в бассейн, а кое-какие убрала в противовоздушную щель и заложила вход кирпичами. В это время из дома Нитта послышались крики о помощи. Выяснилось, что у Нитта ранено лицо, а у ее мужа — бок. Оказав им первую помощь, Сигэко побежала за носилками. На обратном пути ее остановила Нодзу. И ей тоже надо было помочь. Сигэко бросила носилки и перевязала ее полотенцем. Оказалось, среди всех соседей Сигэко — единственная, кто отделался только испугом. Наканиси, Хаями, Сугаи, Накамура — всем нужна была помощь. Вскоре к Нодзу прибежал ее муж — связист в чине капитана. Он привел с собой солдата. Вдвоем они подняли ее и куда-то понесли. Супруги Нитта, поддерживая друг друга, отправились в госпиталь Кёсай. Оба были в крови. Сигэко зашла в дом, собрала еще кое-какие вещи, сложила их в противовоздушную щель и пошла к университетской спортивной площадке.Девятое августа.
Вчера во время ужина мы доели наш НЗ. С сегодняшнего утра получаем еду из фабричной столовой. Ясуко ходила за завтраком, за обедом — Сигэко. Во время обеда обе они взбунтовались и в один голос заявили: получать овощи или рис — это еще куда ни шло, но есть то, что приготовлено другими, просто неприлично; вчера хоть помогали эвакуированным, а сегодня вообще никакой работы не предвидится. Нет, нет, они больше не пойдут в столовую, хватит есть на дармовщину. К тому же директор предложил Ясуко взять отпуск. Я был не на шутку рассержен и сразу придумал для них работу: — Завтра пойдете в Сэнда-мати. Узнаете, как обстоят дела у соседей. Заодно возьмете смену одежды и рис из противовоздушной щели. Этот рис был припрятан на черный день. И вот черный день настал. Женщины как будто успокоились и даже согласились сходить вечером за ужином. В противовоздушной щели возле нашего дома были спрятаны всевозможные вещи: радиоприемник, одеяла, посуда, кухонная утварь, специи. Кроме того, в саду я зарыл четыре двухлитровые бутыли с рисом, восемнадцатилитровый бидон с бобами и жестяную коробку с бельем. Все находилось в полной сохранности: я убедился в этом перед эвакуацией в Удзина. У Сигэко и Ясуко не оказалось с собой ни одной смены белья, и перед тем, как пойти домой, они стали тихонько советоваться, как им постирать и высушить белье. Узнав, в чем дело, я подал им такую мысль: пусть пойдут к реке, разденутся донага, постирают белье и дождутся в воде, пока оно высохнет. Другого выхода не было, и женщины, прихватив полотенца, отправились к реке. Раздражение мое сразу улеглось, и, возможно, поэтому меня вдруг разморила жара и неудержимо потянуло ко сну. Но стоило лечь и закрыть глаза, как моя память отчетливо нарисовала бесчисленные струйки дыма, поднимавшиеся на речных отмелях и у подножия гор. Я так и не смог уснуть — то вставал, то снова ложился, и пот катился с меня ручьями. На правой стороне лица я смахивал пот рукой, на левой же, казалось, лежал горячий компресс, который накладывают после бритья в парикмахерской. Там, видимо, скапливался липкий пот либо гной, поэтому я слегка прижал повязку к щеке. Повязка стала влажной. Другой у меня не было, я вытащил из санитарной сумки треугольную косынку, приложил ее к лицу и обрезал по форме щеки. Затем прокипятил ее и повесил сушиться на солнце».
Глава XI
«Десятое августа. Погода ясная.Ясуко и Сигэко принесли завтрак из столовой, приготовили колобки из ячменной каши с отрубями и отправились на станцию. Я пошел их проводить. Зал ожидания был полон. Но собравшиеся там люди никуда не ехали. Как только прибывал поезд, они вскакивали со скамеек, но, когда поезд отходил, тотчас же возвращались на свои места. Некоторые осаждали железнодорожных служащих, спрашивая, как разыскать потерявшихся детей. Не успел я показаться в конторе, как мне дали срочное задание: получить уголь для фабрики. Для этого надо было ехать в Хиросиму или в Удзина. Директор Фудзита принес из соседней комнаты большой узел. — Уголь нам позарез нужен. Вот здесь, — сказал он, указывая на узел, — лежат подарки. Постарайтесь договориться с представителями фирмы. Будьте осторожны, не исключено, что воздушный налет повторится. Я оставил директору записку для Сигэко, надел ботинки на резиновой подошве, закинул за спину узел и, прихватив с собой санитарную сумку, вышел на улицу. Электричка довезла меня до станции Ямамото. Дальше поезда еще не ходили. Ни один из сошедших в Ямамото пассажиров не направился к станции: все дружно двинулись к Хиросиме по путям. Хиросимцы — народ общительный. Любят поговорить даже с незнакомыми людьми. Но на этот раз их словно подменили. Ни один не делал попытки завязать разговор. Не считая меня, вещи тащили всего две женщины, которые шли впереди. Коробки с едой имели при себе не более четверти пассажиров. «Значит, и в окрестных деревнях стало трудно с продовольствием», — подумал я. Наконец мы вступили в разрушенный район. Влажный ветер принес с собой тошнотворный запах гари. Толпа быстро редела — то один, то другой путник сворачивал к своему пепелищу. Горы битой черепицы становились все выше, все страшнее».
Глава XII
«Острые колики в желудке заставили меня присесть на каменные ступеньки, устланные толстым слоем пепла. Пепел был сухой, похожий на гречневую муку. Когда я дотронулся до него пальцем, образовалась маленькая воронка. «Удобно писать, как на классной доске», — подумал я и начал чертить теорему Пифагора, но не закончил, потому что точно ее не помнил. Спустя некоторое время боли прекратились. Я огляделся вокруг, пытаясь определить, где нахожусь. Оказалось, я сижу на ступеньках парадного входа в муниципалитет. Вокруг, в бесчисленном множестве, валялись обломки обгоревших досок. Стены здания, которые еще совсем недавно ласкали взгляд приятным кремовым цветом, стали буро-коричневыми. Все стекла вылетели, не сохранилось ни одной целой рамы. В коридоре, который вел в глубь здания, в беспорядке валялись куски железа, напоминавшие сплющенные стальные каски. Муниципалитет, казалось, был пуст, но немного погодя из глубины донеслись неясные звуки: словно кто-то перетаскивал пустые ящики. Я прислушался. Теперь чудилось, будто шум идет откуда-то из-под земли. Охваченный безотчетной тревогой, я поспешно закинул за спину узел и пошел было прочь, но меня остановил чей-то голос: — Эй, Сидзума, куда направляетесь? Я обернулся и увидел старого инженера с консервной фабрики в Удзина. — А, Тасиро! Как здоровье? Вы случайно не знаете, что это за шум раздается в муниципалитете? — Это убирают обгорелые доски, обрушившиеся балки, всякий хлам... Кстати, у вас сильно обожжена щека. Как ваши? — Благодарю вас, все живы-здоровы. Скажите, Тасиро, как обстоит дело с углем на вашей фабрике? Я разыскиваю компанию по распределению угля, но никак не могу выяснить, где она находится. — Здание разрушено, а сотрудники неизвестно где. Я тоже пытаюсь достать уголь для своей фабрики. Даже в муниципалитет ходил, но без толку. Я был поражен. Консервная фабрика находится в подчинении у армейской продовольственной базы, часть ее продукции направляется в столовую армейского вещевого склада! Это предприятие, можно сказать, военное. И тем не менее оно испытывает трудности с углем. Тасиро рассказал, что в муниципалитете уже работают двадцать чиновников во главе с помощником мэра Сибата. В просьбе о выделении для фабрики угля ему наотрез отказали: распределением угля занимается-де специальная компания, и если муниципалитет попробует сунуть нос не в свое дело, военные власти заявят протест со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я должен был подробно доложить директору об обстановке, поэтому попросил Тасиро проводить меня до конторы компании по распределению угля. Тасиро работал главным инженером консервной фабрики в Удзина, хорошо разбирался во всех вопросах, связанных со снабжением, и, ко всему прочему, был близко знаком с директором этой компании. — Я крайне удивлен, — говорил Тасиро, — что такая важная для всех нас компания, как компания по распределению угля, до сих пор не сообщает, куда она эвакуировалась. По-видимому, для этого имеются веские причины. Подойдя ближе к развалинам здания, где помещалась компания, мы увидели многочисленные послания, начертанные обуглившимися кусками дерева на уцелевшей части железобетонной стены. Одни были нацарапаны кое-как, другие — аккуратно выведены каллиграфическим почерком. Я стал читать их все подряд. «Господин Фудзино, сообщите, пожалуйста, ваш адрес металлургическому заводу в Миккаити». «Прошу написать здесь, на стене, ваш временный адрес. Накабаяси. Компания Санкё». «Господин Хонда, все ли у вас в порядке? Сообщите ваш новый адрес. Предприятия Цуцуки. Кайтайти». «Господин Мурано, оставьте здесь ваш адрес. Утияма. Кои». Под каждым посланием стояла дата. — Как видите, Тасиро, здесь нет ни одного ответа представителей компании, а ведь некоторые надписи сделаны три дня тому назад. — Значит, случилось самое страшное, — сказал Тасиро. — Самое страшное? — Да, все сотрудники компании, до одного, погибли... В семье Тасиро только он и остался в живых. Его вторую жену и маленькую дочь завалило во время взрыва. В его годы, сказал Тасиро, у него нет ни сил, ни энергии раскапывать развалины. — Тут ничего не поделаешь, — пробормотал он, — пусть уж остаются там, где есть. В конце концов, теперь это лишь неживая материя. — А как же вы поставите памятник? — Кажется, у родителей жены сохранились фотографии ее и дочери. Эти фотографии я и опущу в могилу. Не знаю только, что делать, если кто-нибудь из родственников жены пожелает раскопать их останки... Не скажу же я им: не стоит рыться, теперь ведь это лишь неживая материя... В первый миг меня неприятно удивил такой цинизм, и я почувствовал к Тасиро неприязнь. Но по зрелом размышлении я понял: Тасиро уже старик, а жена его была молода и красива собой, дочь — премилая девочка — собиралась поступить в школу; если бы Тасиро увидел их обгорелые, обезображенные тела, что сталось бы с теми образами, которые сохранялись у него в памяти! Скорее всего именно поэтому он и не хотел, боялся отыскать их останки. Без сомнения, он, как и я, достаточно нагляделся за эти несколько дней на сожженных, раздавленных людей. — Почему бы вам не попросить кого-нибудь другого помочь вам? — спросил я. Тасиро молчал. — ...Так вот, по поводу угля, — сказал он спустя некоторое время, — не попытать ли нам счастья на вещевом складе? Другого выхода у нас нет. Пойдемте туда. Кстати, там не так много убитых и воздух посвежее. И Тасиро с поразительной решительностью зашагал в сторону склада. У ворот склада, о чем-то беседуя, стояли несколько сторожей. В обычное время здесь бывало очень оживленно, без конца приходили и уходили посетители. Теперь только сторожа. Нас с Тасиро провели к лейтенанту Сасатакэ. В ответ на нашу просьбу он заявил, что запасы угля в Удзина неприкосновенны, на этот счет имеется строгое указание. На все остальные вопросы лейтенант отвечал уклончиво, и мы ушли, так ничего и не добившись. Я направился в район Миюки. Тем же путем, что и шестого августа. За насыпью, поросшей вишнями, я увидел госпиталь. В окнах не сохранилось ни единого стекла. По коридорам торопливо расхаживали люди. Одни, видимо, разыскивали родственников, другие ухаживали за пострадавшими. Дома вдоль дороги были разрушены или сильно покосились. Расчистив дворы от валявшихся обломков, кое-как выпрямив перекосившиеся внутренние перегородки и подперев стены жердями, в некоторых из них продолжали жить хозяева. Проходя мимо, я слышал голоса. В одном из домов я заметил человека, который, сидя на земляном полу, осколком чашки скреб обгоревший дочерна, но оставшийся целым деревянный стул, похожий на грубо сколоченный стул с картины Ван-Гога, воспроизведенной в иллюстрированном журнале. Внезапно у меня пересохло горло. По широкой улице вдоль холма Хидзияма, как и шестого августа, в сторону Удзина медленно тащились раненые. Подходя к ограде Хиросимского управления торговли, они, как один, опирались о нее руками, стараясь хоть немного облегчить свой путь. Почти все были полуголые, худые и бледные, словно привидения. Пятнистой кошки, которая шестого августа бежала за Миядзи, нигде не было видно. Мертвое тело, которое лежало у моста Миюки, кто-то убрал, на камнях остался только темный силуэт. Улица напоминала выжженную пустыню. Там, где лишь недавно стоял наш дом, была ровная, устланная слоем пепла площадка — сохранился лишь водоем, который теперь мне казался совсем маленьким. Сигэко и Ясуко вытащили из противовоздушной щели и водоема наши пожитки и тотчас же ушли. Нанятый нами рабочий погрузил все вещи на тележку и присел немного передохнуть, прежде чем отправиться в дорогу. Я встал перед тележкой, ухватился за конец длинной тонкой веревки, перекинул ее через плечо, и мы тронулись. Я сразу понял, что путь нам предстоит нелегкий. Всякий раз, когда мы переезжали груду черепицы, веревка врезалась в плечо. Приходилось резко наклоняться вперед. Боль была такая, что хотелось пятиться назад. — Нет, Рокуро, так дело не пойдет, — сказал я, обращаясь к рабочему. — Веревка слишком жесткая. Идти нам километров семь, а то и все восемь. Пока мы доберемся до места, проклятая веревка сотрет мясо до костей. — Надо тянуть не плечом, а всем телом. Тогда будет легче, — посоветовал Рокуро. Он сделал большую петлю. Я просунул в нее голову и левую руку, веревка шла теперь от правого плеча к левому боку, а узел приходился на самую середину спины. Тянуть стало полегче. Наша тележка, должно быть, первая проезжала по этой улице после шестого августа. Оглянувшись, я увидел позади два белых сверкающих следа. Это блестели осколки раздробленного колесами стекла. Перед тем, как двинуться в путь, рабочий положил в тележку пару двухлитровых бутылей с водой. Через каждую сотню шагов мы останавливались, утирали пот, отхлебывали немного воды и шли дальше. Так повторялось бессчетное число раз, и в конце концов обе бутыли оказались пустыми. Бесконечные толчки и удушливая вонь, казалось, удваивали и без того нестерпимую жару. — Послушай, Рокуро, почему бы нам не отдохнуть как следует? — взмолился я. — Когда выберемся из города, тогда и отдохнем, — ответил рабочий. Я тащил тележку, непрерывно подсчитывая пройденное нами расстояние. Три километра. Три с половиной. Четыре. Когда по моим расчетам было пройдено четыре с половиной километра, мы постучались в стоявший у дороги дом и попросили разрешения набрать воды из колодца. Напившись, мы наполнили водой бутыли и расположились на отдых. Рокуро оказался человеком приветливым и довольно выносливым для своих пятидесяти с лишним лет. Его мне порекомендовала кухарка из заводской столовой. Отдохнули — и снова в путь. Когда прошли примерно пять километров, тащить тележку стало значительно легче: на дороге уже не валялись груды черепицы. Мы добрались до дома лишь к вечеру. В окнах горел свет. Только было хотел я присесть на веранде и отдохнуть, как вдруг застыл пораженный. При свете электрической лампочки я увидел родственников. Они спали, раскинув руки и похрапывая. Расплатившись с Рокуро, я пошел на задний двор к колодцу. Ясуко топила хозяйскую баню. Сигэко, хотя уже стемнело, полоскала белье в ручье позади дома. — Мы возвратились форсированным маршем! — крикнул я Сигэко. — Давно ли пожаловали гости? Сигэко ответила мне, что, когда они с Ясуко пришли домой, родственники уже сидели на веранде. Походить им пришлось немало. Не зная, застанут ли нас в живых или нет, из своей горной деревушки они добрались до Сэнда-мати. Обнаружив, что наш дом сгорел дотла, они выяснили, где я работаю, и после долгих поисков нашли наше новое жилище. — Я так плакала, так плакала от радости, никак не могла остановиться, — сказала Сигэко. — Они все очень беспокоились за нас. Беднягам досталось. Им пришлось ночью перебираться по железнодорожному мосту через реку Асида. Сигэко снова заплакала, словно ребенок, не стыдясь своих слез».Глава XIII
11 августа.Накануне вечером мне пришлось отложить беседу с гостями, потому что я должен был доложить директору о положении с углем. За ужином в заводской столовой я высказал мнение, что нам надо доставать уголь самим, на свой страх и риск, другого выхода нет. — Извини, Сигэмацу, что я говорю так прямо, — воскликнул директор, — но на вещевом складе тебя провели, как мальчишку. Почему военные запрещают брать уголь в Удзина? Тебе следовало потребовать объяснений. Ты ведь не мальчик на побегушках, а человек, занимающий определенное положение... О чем только думают военные в такое трудное время! Ума не приложу. Директор был так возмущен, что руки у него дрожали, когда он открывал банку с мясными консервами. Ужин удался на славу. Рис, правда, пришлось заменить ячменной кашей с отрубями, зато директор открыл банку с чудесной мясной тушенкой, которую я должен был вручить, как подарок, чиновникам из угольной компании. Не помню, когда в последний раз я ел такое вкусное мясо — толстые, коричневого цвета куски с прожилками жира! Я даже боялся откусить себе язык. Директор разделил мясо поровну, и мы съели его, заедая ячменной кашей с отрубями. Не успели мы окончить ужин, как прибежал рабочий Нисина. Умер еще один человек, надо было читать молитвы. — Вот доем и приду, — спокойно ответил я. — Через полчаса или через час, не позже... Сколько я ни толковал, директор упорно стоял на своем. — Как только окончишь молитвы, Сидзума, — сказал он, — ложись спать. Завтра, с самого утра, пойдешь снова на вещевой склад и попросишь, чтобы тебе отпустили уголь. Заманчиво, конечно, достать его, как ты говоришь, на свой страх и риск, но, по-моему, мы не должны так легко отступаться. Не хочу тебя обидеть, но пойми, надо действовать решительнее. Только тогда мы добьемся чего-нибудь. — Ну что ж, завтра опять схожу. Но только все это зря. Делать было нечего. Снова придется пробираться сквозь развалины. Прочитав молитвы, я возвратился домой. Еще с улицы я почуял запах печеных рисовых лепешек, проникавший сквозь наглухо закрытые в связи с затемнением ставни, — и сразу понял, что их пекут на углях, смочив предварительно в соевом соусе. Вошел я через черный ход. Наши гости уже проснулись и, вместе с Ясуко и Сигэко, сидели за столиком — чудеснымстоликом из черного дерева, который хозяин предоставил нам во временное пользование. Перед ними стояли небольшие тарелки и чаши с печеными лепешками. Рис, несомненно, привезли с собой гости. Ясуко и Сигэко уписывали лепешки за обе щеки. — Наконец-то пришел, — радостно воскликнула Сигэко. — Извини, что начали без тебя. — Добрый вечер, дядя, — сказала Ясуко. — Простите, что мы вас не дождались. Печеные лепешки пахнут так, что мы не утерпели. Нам привезли жареный рис и колобки. Мы и для вас оставили. — Спасибо, что о нас позаботились, — сказал я, обращаясь к гостям, и присел на порожке, стараясь, чтобы никто не заметил ожога на моей левой щеке. Гости глядели на меня красными, как у кроликов, глазами. Один из них — Ватанабэ Macao — был родным братом Сигэко, другой — Такамару Ёсио — отцом Ясуко. Такамару, всхлипывая, покусывал свои усы, Ватанабэ утирал слезы. Глядя на них, Ясуко и Сигэко перестали есть. Как и они, я изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать. Но мои усилия оказались безуспешными, и мне пришлось отвернуться от гостей. — Какое счастье, что вы все живы и здоровы! — с чувством проговорил наконец Ватанабэ. — А мы уж, правду сказать, боялись, что не увидим вас на этом свете. Только и надеялись, что найти место вашей смерти. — Мы так рады, что и высказать не можем, — добавил Такамару. — Все думали, что Ясуко погибла, утешались только мыслью, что она ушла в мир иной вместе с вами. Вы так много для нее сделали. Родственники в Кобатакэ и Хиросэ потеряли всякую надежду увидеть вас в живых. Я пил чай, который налила мне Ясуко, и беспрестанно повторял: — Извините, что мы доставили вам столько беспокойства. Ватанабэ рассказывал, как потрясена была вся их деревня, услышав о том, что случилось в Хиросиме. Такамару дополнял его рассказ отдельными репликами. Вечером шестого августа жители Кобатакэ узнали, что на Хиросиму сброшена мощная бомба. Говорили, будто погибла треть хиросимцев, включая находившиеся там войска и отряды добровольного служения родине. Еще одна треть хиросимцев тяжело пострадала, остальные отделались легкими ранами и ожогами. Все дома, до одного, сгорели. Жители Кобатакэ сразу поняли, что это не слух, распущенный пораженцами, а чистая правда. Седьмого и восьмого августа поступили еще более тревожные вести. В соседних деревнях появились первые раненые беженцы. Одни умирали сразу же, едва добравшись до дома. Другие терпели страшные мучения. В деревне Хиросэ жил профессор — видный специалист по детским болезням, он приехал из Кобэ. Всякий раз, когда к нему обращались за помощью, он говорил после осмотра: — Что это за болезнь, я не знаю, но думаю, что она не поддается лечению. Страдавшим от ожогов он выписывал мазь, а тем, кто испытывал нестерпимую боль, впрыскивал пантопон. К сожалению, в запасе у него была всего дюжина ампул, и этих ампул не хватило даже на один день. В Кобатакэ, по словам наших гостей, возвратились двое. У обоих — сильные ожоги и переломы. На вопрос, как обстоит дело в Сэнда-мати, они сказали, что все дома уничтожены, а среди уцелевших никто не избежал ран и ожогов. Не встречались ли они с Сигэмацу? Они ответили — нет, не встречались, но если бы Сигэмацу и его семья не погибли, они давно уже вернулись бы в деревню. В деревне их до сих пор нет, значит, их нет уже и на этом свете. Ни один человек в здравом уме не останется жить в выжженной пустыне. Выслушав их, наши родственники уверились, что нас уже нет в живых. Но сидеть сложа руки они не могли. Им хотелось что-нибудь предпринять, хотя бы разыскать останки. Пока Ватанабэ обдумывал, как лучше всего поступить, утром десятого августа, словно сговорившись, к нему заявились все родственники. Семейный совет решил сложиться и послать в Хиросиму Ватанабэ и Такамару. Так как предполагалось, что мы погибли, они должны были взять с собой рисовые лепешки и жареный рис для совершения поминального обряда. Перед тем как отправиться в путь, Ватанабэ и Такамару зашли к моей матери. На домашнем алтаре у нее уже стояли наши фотографии, а перед ними — три чашечки с водой. Тут же была и ваза со свежесрезанными георгинами. — Господин Ватанабэ и господин Такамару, я слышала, что вы едете в Хиросиму, — сказала им моя мать. — Не сочтите за труд захватить с собой курительные палочки, а также воду и свежие листья. Палочки поставьте во дворе, попрыскайте вокруг них водой и разбросайте листья. Возьмите с собой и плоды кэмпонаси[111]. Сигэмацу их очень любил. Мать наполнила колодезной водой бутылку из-под уксуса, завернула в бумагу курения и свежие листья и вручила все это Ватанабэ. Затем подобрала с земли несколько упавших, но еще зеленых плодов кэмпонаси и положила их в кармашек его рюкзака. Деревня Кобатакэ стоит на плоскогорье — пятьсот пятьдесят метров над уровнем моря, — замкнутом с трех сторон горами, между рекой Асида, которая течет на юг по восточным районам префектуры Хиросима, и рекой Ода, орошающей земли префектуры Окаяма. В былые времена Кобатакэ входила во владения клана Накацу из Кюсю, и в ней проживал даже его управитель. До сих пор в деревне сохранился дом, принадлежавший некогда самурайскому роду. Теперь Кобатакэ захирела, нет даже сколько-нибудь сносной дороги, которая связывала бы деревню с внешним миром. Ватанабэ и Такамару пришлось больше двух часов спускаться вниз по узкой горной тропинке вдоль реки Асида, пока они не вышли на шоссе; там им удалось сесть на порожний грузовик, работавший на древесном угле. Только в одиннадцатом часу добрались они наконец до разбомбленного города Фукуяма. К железнодорожному мосту через реку Асида они подошли уже в кромешной тьме. Пришлось стать на четвереньки и ползти вперед, ощупывая руками шпалы. Двигались они по разным путям, договорившись, что при появлении поезда помогут друг другу перебраться на безопасный путь. Чтобы не растеряться, они то и дело окликали друг друга. Ползти было тяжело. Стоило наклониться, как рюкзак начинал давить на голову, а когда они старались держать спину ровно, рюкзак почему-то оказывался на боку. Чтобы не упасть, они судорожно хватались за рельсы. В конце концов они все же дотащились без особых происшествий до станции Акасака. Около часа ночи они сели на поезд, к пяти утра прибыли в Хиросиму и еще через два часа были на Сэнда-мати. Ватанабэ несколько раз был у нас в гостях и, ориентируясь по сосне и водоему, быстро отыскал наш дом, хотя я и не оставил записки. Тишина там царила мертвая. Сколько ни кричи — никакого отзыва. Ватанабэ и Такамару не захватили с собой лопат и не стали искать наших останков. Теперь они окончательно уверовали, что мы погибли. Тут ли, в другом месте, но погибли. Церемонию они решили совершить на пепелище. Зажгли курительные палочки и воткнули их в землю около бассейна, рядом поставили воду в бутылке из-под уксуса, разбросали у полуобгоревшей сосны привезенные с собой листья, а плоды кэмпонаси положили возле курительных палочек. В это время к ним подошел человек, который сказал, что его зовут Накао; он живет поблизости в землянке. — Вы ищете семью Сидзума? — догадался он. — Они вместе со своей приемной дочерью Ясуко переехали в Фуруити. Там фабрика, где работает Сидзума. — Все трое здоровы? — спросил Ватанабэ. — Да. Только у Сидзума на левой щеке небольшой ожог. Ничего страшного. Вы не беспокойтесь. Накао начертил на земле угольком план, как добраться до Фуруити, и Ватанабэ тщательно перерисовал его в записную книжку. Они шли, сверяясь с планом и расспрашивая прохожих, пока не добрались до станции Ямамото. Оттуда электричкой доехали до Фуруити. В конторе фабрики им сообщили наш новый адрес. У нас в доме они оказались уже за полночь. В их рассказе меня удивило только одно. Ведь я виделся с Накао после прихода родственников. Почему же он мне ничего не сказал? Видно, был вне себя. Сигэко и Ясуко сказали, что видели в Сэнда-мати разбросанные под сосной листья и бутылку из-под уксуса. Обоим запомнилась яркая этикетка, где была изображена деревенская девушка с развевающимся алым шарфом. Сигэко еще удивилась, как бутылка осталась целой, хотя кругом — сплошные развалины. Странным казалось и то, что на земле валяются зеленые плоды кэмпонаси. Почему же я ничего не заметил? Я не думал, что моя мать окажется такой предусмотрительной: пошлет плоды, чтобы умилостивить дух усопшего сына. В детстве я очень любил эти плоды и часто, не дожидаясь, пока они созреют и упадут, сшибал их камнями. Камни, увы, не всегда попадали в цель. Бывало, что они обрушивались на крышу нашей бани и тогда мне крепко доставалось от отца. По-видимому, мать этого не забыла. Гости рассказали, что к моей матери заходили многие соседи и знакомые. Они якобы хотели справиться о нас. Однако тон, которым они вели разговоры, свидетельствовал о том, что они пришли выразить свое соболезнование. Один лишь владелец мелочной лавки усомнился в нашей гибели. — Слишком рано ставите вы фотокарточки на алтарь. Вот увидите, ваш сын жив и здоров. И его семья тоже, — сказал он матери и ушел, не выразив никакого сочувствия... Назавтра мне предстояло подняться рано, я извинился перед гостями и ушел в соседнюю комнату... Проснулся я с первыми лучами солнца и хотел было написать матери письмо, рассчитывая передать его с гостями, но внезапно нахлынувшие чувства и воспоминания не позволили мне выполнить это намерение. Наши гости еще спали, когда я вышел из дома, торопясь на первую электричку. Как и в прошлый раз, я доехал до станции Ямамото, а оттуда шел три километра пешком до моста Ёкогава. И вот я снова среди развалин. Вокруг хлопотали люди, разыскивавшие останки своих близких. Они то наклонялись к земле, то вдруг резко разгибали поясницу, то снова наклонялись — совсем как во время сбора устриц на мелководье. Переходя через мост Ёкогава, я опять увидел ту самую лошадь, которая стояла возле своего мертвого хозяина. Теперь от нее остался один скелет. Чуть ниже по течению двое — должно быть, отец и сын — набирали воду в посудину из жести, свернутой наподобие кулька. Такой же посудиной черпали воду две пожилые женщины с другой стороны моста. Время от времени, устав, они прислонялись к каменной набережной. Тут же они устроили себе жилье: вколотили в щели между камнями несколько жердей, покрыли досками, циновками и кусками рифленого железа — и готово. От дождя и града, во всяком случае, спастись можно. Вверх по реке виднелось еще несколько таких навесов. В Сиридзая-тё, около моста Аиои, я заметил двух молоденьких девушек, должно быть, сестер. Они сидели на груде битой черепицы и горько плакали. К балюстраде каждого моста, который я переходил, приклеены были сотни, тысячи бумажных объявлений, сообщавших, где находятся родственники и как с ними связаться. Некоторые объявления были написаны углем на каменных тумбах. Перед ними, словно перед витринами крупных газет с последними новостями, толпились люди. Иногда подходил какой-нибудь незнакомец, приклеивал бумагу и поспешно уходил прочь. Тексты на этих объявлениях были очень краткие, но давали неплохое представление о том, кто их писал, о его горестях и бедах. Вот некоторые из тех, что я видел на мосту Мотокава; я переписал их в блокнот.
«Коносукэ, приходи к тете в Гион. Отец».
«Мама, папа! Сообщите, где вы находитесь. Маюми. Мой адрес: г. Хацукаити, Сакуро, г-н Абэ».
«Сын разыскивает отца. Хацуэ, г. Хаппонмацу, Яити Синитаки».
«Синдзо Ватанабэ жив и здоров. Адрес: Мидории, Сигэки Сэхара».
«Беспокоюсь о своих сокурсниках. Буду приходить каждый день в десять. Тайдзо Огава, класс 2 «а», Промышленный колледж».
«Дедушка, бабушка и Эмико пропали без вести. Сёдзи и Нацуё! Приходите к г-ну Токуро Ида в Окава-тё. Ясуока».
«Г-н Икуо Нисигути из Камия-тё! Сообщите Ваш нынешний адрес, чтобы я смог вернуть Вам долг. Ваш знакомый из Накахиро-тё».
«Яэко! По возвращении в Футю мы остановились у Михара. Отец...»Пока я читал, мухи не давали мне покоя, и в конце концов, отмахиваясь от них полотенцем, я бросился бежать, но сразу же запыхался и перешел на обычный шаг. Глядя по сторонам, я поражался, как быстро разрослась сорная трава в щелях между развалин и среди камней, служивших для украшения сада. Сорняки вытянулись так высоко вверх, что не могли держаться прямо и склонялись под собственной тяжестью. Неужели на их рост повлиял взрыв этой бомбы? Однажды заезжий агроном рассказывал в своей лекции, что если выращивать рис в слишком глубокой воде, клетки стебля от соприкосновения с водой начинают непомерно разрастаться, и стебель ложится. По его словам, это научно доказанный факт. Неужели такой же эффект может иметь мгновенное воздействие света, звука и тепла? Бомба убивает людей, но мухи от нее размножаются с невиданной быстротой, растения растут как на дрожжах. Еще вчера я видел во дворе харчевни, где кормят китайской лапшой, новые ростки банана — само дерево свалило взрывной волной — длиной в полтора фута. Сегодня они достигают уже добрых двух футов. Я родился в деревне, знаю, как растут деревья, но такого я еще никогда не замечал. Среди развалин торгового центра виднелось множество покрытых свежей ржавчиной сейфов. В нашем доме на Сэнда-мати сейфа не было. Во всем нашем квартале сейфов было всего два: у Накао и Миядзи. Об этом я узнал лишь после того, как весь квартал сгорел. Миядзи купил сейф, по-видимому, совсем недавно — после середины июля, когда над Хиросимой стали пролетать вражеские самолеты; минуя горный хребет в Тюгоку, они сбрасывали мины в Японское море. Многие тогда решили эвакуироваться в деревню и по баснословно дешевой цене распродали свои пианино, органолы, сейфы и тому подобные вещи. В конце июля налеты участились, то и дело объявляли воздушную тревогу в Токуяма, Ивакуни, Курэ и других городах, и соответственно расширился ассортимент вещей, которые продавали беженцы. Буквально за гроши можно было купить гардеробы, вазы из бамбука, карликовые деревья, рамы для картин, стиральные доски, лохани, теннисные ракетки... Хиросиму принято было считать сухопутной военной базой, а Курэ — морской. Двадцать второго июня Курэ подвергся сильной бомбардировке с воздуха, первого июля вражеские самолеты сбросили огромное количество зажигательных бомб, превративших центр города в пустыню. Двадцать четвертого июля Курэ вновь подвергся воздушному налету. На этот раз вражеские самолеты были встречены огнем зениток с японского линкора, укрывшегося в ожидании горючего за островом. Нефти не было, вместо нее изготовляли горючее из сосновых корневищ, но и его не хватало. И вот грозный корабль вынужден был стоять на якоре. Двадцать четвертого июля самолеты противника бомбили Удзина, а шестого августа, во время налета на Хиросиму, вражеский самолет, сбросив неизвестного типа бомбу, превратил город в развалины. Никто из нас не предполагал даже, что на свете существуют бомбы такой ужасающей разрушительной силы. Простой народ, во всяком случае, ни о чем не догадывался. Так же, как и дети. Каждый день юноши и школьники из отряда добровольного служения родине помогали разбирать жилые дома, чтобы помешать распространению пожаров. Ни один из них не пытался схитрить и уклониться от работы. Они погибли во время бомбардировки шестого августа. Девушки в белых хатимаки на голове ходили на сталелитейный завод. На рукавах у них были повязки с надписью «Добровольный отряд школьников». По дороге они распевали «Песню трудового фронта»:
Глава XIV
«В этот день на улицах разрушенного города было еще больше людей, чем накануне. Помимо тех, кто разыскивал своих близких, попадались и пожарники в нарукавных повязках с надписью «Спасательный отряд особого назначения». Одни держали у рта мегафоны, другие тащили носилки. Все они прибыли из различных уездов для оказания помощи пострадавшим... Как я и ожидал, в конторе армейского вещевого склада мою просьбу снова отвергли. Правда, отказ был сделан в более вежливой форме, чем накануне, и говорили со мной не так заносчиво, однако настаивать не имело смысла. Выйдя из склада, я миновал квартал Фукуро-тё и пошел вдоль трамвайных путей к зданию Управления связи. Немного погодя меня догнал военный с повязкой спасательного отряда. — Эй, — окликнул он меня, — не видел кого-нибудь из отряда Кодзин? Взглянув на него, я удивленно воскликнул: — Никак Тамоцу? — Как вы сюда попали, Сидзума? Вот уж действительно нежданная встреча! Тамоцу — уроженец нашей деревни Кобатакэ. Несколько лет тому назад его направили в полк Химэдзи и, по слухам, в позапрошлом году он дослужился до чина младшего унтер-офицера санитарных войск. Теперь на нем были уже фельдфебельские погоны, на поясе красовался меч, на голове — новенький пробковый шлем. — Вы пошли в гору, Тамоцу. Какой у вас великолепный меч! — воскликнул я. — Недавно меня перевели в полк Фукуяма, а седьмого августа откомандировали сюда унтер-офицером санитарной службы спасательного отряда особого назначения, — отчеканил он. Судя по кислому выражению лица, он был не так уж доволен новым назначением. Знакомыми оказались и двое мужчин, сопровождавших Тамоцу. Один из них, Рикио, служил в Кобатакэ в пожарной команде. Человек он молчаливый, слова клещами не вытянешь, но большой мастер своего дела. Другой — Масару. Тоже наш деревенский пожарник, и, как говорят, не менее искусный, чем Рикио. На следующий день после бомбардировки приказом полицейского отделения обоих направили для розыска уцелевших членов отряда Кодзин, состоявшего из жителей уездов Коно и Синдзэки. Рикио шел, приставив мегафон ко рту, и время от времени выкрикивал: — Эй, есть здесь уроженцы Кобатакэ из отряда Кодзин? Эй, есть здесь уроженцы Такафута из отряда Кодзин? Я внимательно оглядывался по сторонам: не откликнется ли кто-нибудь, но перед моими глазами были лишь груды черепицы, разрушенные кирпичные стены, остовы автомашин, гирлянды оборванных проводов, похожие на развешанные для просушки рыболовные сети, обгорелые балки, сейфы, почерневшие оконные рамы да два ряда уходящих вдаль трамвайных рельсов. Внезапно Тамоцу остановился. — Не приказ ли там вывешен? — сказал он, поправляя пробковый шлем. Тамоцу приблизился к обгоревшему железному остову трамвая, я нерешительно последовал за ним. Трамвай, очевидно, служил своего рода доской объявлений: к нему были приклеены длинные полосы рулонной бумаги — такой бумагой пользовалось в Хиросиме лишь газетное издательство. Некоторые из наклеенных там объявлений я переписал в свой блокнот. Вот они.Снизу, на свободном месте, кто-то древесным углем приписал: «10 августа в войну вступил Советский Союз». Приписка эта явно исходила не из официальных источников. Тут не могло быть никаких сомнений. Иероглифы были выведены криво; писали по уже наклеенной на неровный железный остов бумаге, и при этом пользовались подобранным с земли куском древесного угля. И тем не менее приписка внушала доверие. Итак, мы в конце пути, и видимо, уже давно. Я почувствовал, что силы оставляют меня. Хорошо бы присесть, передохнуть. Обожженная щека зудела и дергалась. А ведь подобные приказы расклеены два или три дня тому назад, вдруг мелькнула у меня мысль. Почему же я до сих пор не обратил на них внимания? Тамоцу и сопровождающие угрюмо двинулись дальше. Я последовал за ними. Все шли молча, и только у входа в госпиталь Рикио как бы про себя повторил: — Принимать ванну из морской воды, наполовину разбавленной пресной... Госпиталь помещался в полуразрушенном здании европейского типа. Уже у самого входа можно было понять, что он переполнен пострадавшими. Кругом сновали люди, одетые в медицинские халаты, ковыляли раненые. На ступеньке каменной лестницы стояла женщина и что-то кричала. Нельзя было разобрать ни слова. По-видимому, она свихнулась. Поблизости стояла небольшая группка людей, приехавших из деревни на розыски родственников. Тамоцу велел мне остаться у входа, а сам вместе с Рикио и Масару вошел в комнату, где, очевидно, помещалась регистратура. Чуть погодя он вернулся и сказал мне: — Мы пойдем искать наших по палатам. Тебя внутрь не пустят, потому что ты не из спасательного отряда. Жди нас здесь. В этом госпитале есть люди из Кобатакэ. И Тамоцу ушел к госпиталю, сопровождаемый дикими выкриками и проклятьями сумасшедшей. На ступеньке, с краешка, сидели две женщины в поношенных блузках и высоких резиновых ботинках. Из их слов я понял, что одна из них — жена пострадавшего, который лежит сейчас в госпитале, а другая — его младшая сестра. Не глядя на окружающих, они трещали, как сороки, обменивались всевозможными слухами. Чего только не наплели! Крупные соединения Советской Армии пересекли советско-маньчжурскую границу и продвигаются в глубь страны. Японская армия в Маньчжурии решила применить против советских войск бомбу, подобную той, которую сбросил Б-29 на Хиросиму. Такую же бомбу сбросили на американскую армию, оккупировавшую острова южных морей. Эти бомбы тайно изготовляются на уединенном острове близ города Такэхари. Пусть враг убедится, что в Японии, помимо армии, есть непобедимый морской флот... Я присел на ступеньку и стал ждать. Прошло около часа. Терпение мое истощилось, я поднялся по лестнице и вошел в парадную дверь. В маленьком окошке регистратуры виднелась красивая чаша, которую приспособили под светильник: налили растительное масло, а вместо фитиля опустили скрученный бинт. Чаша была из фарфора с трехцветным рисунком — прекрасный образчик стиля сансай[112] — не иначе как ее заимствовали из чьего-либо сейфа. — Извини, Сигэмацу, что мы так долго, — услышал я за спиной голос Тамоцу и обернулся. Рикио и Масару тащили на носилках человека, который почти не подавал признаков жизни. У него не хватало сил даже для того, чтобы застонать. Сквозь бинты на его руках проступили черные пятна крови. Багрово-синие щеки распухли, лицо неузнаваемо изменилось. К разорванной рубашке приколота была английской булавкой карточка с надписью: «Тюдзо Хата, отряд Кодзин, деревня Кобатакэ, префектура Хиросима». Когда-то в детстве отец этого Тюдзо брал меня с собой на рыбалку, учил ловить угрей. Он пек на речной отмели ростки бамбука, которые я приносил из рощи. Ростки мы клали на угли вместе со шкуркой. Потом шкурку сдирали, мазали ее содержимое бобовой пастой, которую выпрашивали в ближайшем доме, и ели, обжигаясь, вкусное блюдо, от которого поднимался ароматный парок. И вот лежит его сын Тюдзо. От него исходит странная невыносимая вонь: то ли запах гноя, то ли запах пота, который источает пышущее жаром тело, то ли еще какой-то запах. Я предложил Рикио сменить его, но тот отказался. — Это наше дело. Мы уж как-нибудь сами справимся. Тамоцу шагал впереди носилок. Время от времени он подносил мегафон ко рту и кричал: — Эй, есть тут кто-нибудь из отряда Кодзин? Есть кто-нибудь из деревни Такафута?.. Я пошел рядом с Тамоцу, стараясь держаться от носилок с наветренной стороны. Над нами сияло пронзительно-голубое небо... Тамоцу рассказал, что госпиталь переполнен. Забиты не только все палаты, но и коридоры. Повсюду бродят родственники, разыскивающие своих близких. Те, кому удалось найти, ухаживают за ними. Хаос неимоверный. И если Тамоцу нашел Тюдзо, то только благодаря помощи доктора Нориока... По словам доктора, болезнь, вызванная взрывом этой бомбы, губительна; она передается от больных к здоровым; случается даже, что здоровые умирают раньше больных. Нориока прибыл в госпиталь накануне, во главе осакской санитарной команды. Санитары притащили на себе тяжелые рюкзаки с лекарствами, медикаментами и перевязочным материалом. За день до их приезда, восьмого августа, какая-то военная часть забрала все лекарства и бинты. Поэтому приезд санитарной команды явился, как выразилась одна медсестра, «сошествием Будды в ад». Когда мы добрались до временного штаба спасательного отряда, Тюдзо был мертв. — Готов, — сказал Тамоцу, когда носилки опустили на край веранды, и отдал честь скончавшемуся. Масару сорвал несколько листьев ардизии, которая росла близ источника, и положил их у изголовья покойника, затем встал рядом с Рикио, сложил руки ладонями вместе и погрузился в молитву. Я прочитал «Заупокойную проповедь». — Отнесем его на костер? — спросил Рикио. — Конечно, следовало бы совершить весь погребальный обряд полностью. Но что поделаешь? Рикио и Масару подняли носилки, и мы все направились к пустырю близ железной дороги, где местные жители сжигали покойников. Временный штаб, куда свозили всех найденных членов отряда Кодзин, располагался в частном доме у подножия горы Футаба — как раз напротив плаца. Хозяин дома был, кажется, школьным учителем. В будни он уходил из дома рано утром, а по воскресеньям отправлялся на общественные работы. Так что никто из членов спасательного отряда даже не знал хозяина в лицо. Его сын, Минору, был офицером, служил во флоте. В доме оставалась хозяйка — интеллигентная, хорошо воспитанная женщина, с двумя дочерями-красавицами на выданье. Вся семья была очень приветлива, и никто ни разу не выразил недовольство по поводу пребывания в доме спасательного отряда или раненых. Спасатели обратили внимание на этот дом, проходя мимо. Дом был обширный и как нельзя лучше подходил для их целей. Они тут же вошли внутрь и, не предъявляя ни ордера на постой, ни каких-либо других документов, спросили, не предоставят ли хозяева часть дома для пострадавших при бомбардировке. Самого хозяина не было дома, но его жена и дочери сразу же согласились, как будто давно ожидали, что кто-то обратится к ним с подобной просьбой. — Пожалуйста, — сказала хозяйка. Женщина она была милая, уступчивая, всегда готовая услужить людям. Спасательная команда заняла четыре комнаты на первом этаже. Вместе с найденными людьми из отряда Кодзин набралось всего около пятидесяти человек. На пострадавших было страшно смотреть: некоторые сильно обгорели и были при смерти; другие громко стонали, исходя кровью. Вонь стояла нестерпимая. Несмотря на это, хозяйка и дочери отказались спать на втором этаже. Они ночевали внизу, на кухне. Только хозяин уходил спать наверх. Я собирался позавтракать, когда ко мне подошел Тамоцу, и мы стали обсуждать планы на завтра, примостясь на самом краю открытой части веранды, чтобы наши голоса не мешали пострадавшим. Вонь доносилась даже сюда. Часто слышались стоны раненых. Хозяйка принесла нам чайник с холодным ячменным чаем. — Вы очень устали. Выпейте, пожалуйста, чаю. Только он не очень холодный. Извините, — сказала она вежливо, но без подобострастия. Я бросил быстрый взгляд на ее лицо, а когда она отошла, долго глядел вслед. Как я и думал, фигура у нее была такая же прекрасная, как и лицо. Я обещал Тамоцу побывать завтра утром в Оноура. Как выяснилось, среди пострадавших, которых поместили в зале местной начальной школы, находятся двое из отряда Кодзин: Торао из деревни Кобатакэ и Тёдзюро из Такафута. Оба просят отправить их как можно скорее домой. Один из них тяжело ранен и не в силах самостоятельно перевернуться с боку на бок. «Во всяком случае, — сообщили те, кто позвонил из Оноура, — мы решили известить вас, надеясь, что это поможет хотя бы при составлении списков пострадавших из отряда Кодзин». Кто-то из штаба спасательного отряда должен был срочно ехать в Оноура, и я предложил свои услуги».«Сообщение штаба западного военного округа
9 августа около одиннадцати часов утра два тяжелых бомбардировщика противника вторглись в воздушное пространство над городом Нагасаки и сбросили бомбу нового типа. Ведется тщательное расследование нанесенного ущерба. Предполагается, что он сравнительно невелик».«Приказ командующего обороной города Хиросимы от 10 августа.
Жители Хиросимы! В случае, если вы получили ожоги, рекомендуется в качестве временной меры принимать ванну из морской воды, разбавленной таким же количеством пресной. В настоящее время уже открыто движение на трамвайных линиях и крупных магистралях города».«Сообщение Верховной ставки.
1. 6 августа город Хиросима подвергся атаке небольшой эскадрильи вражеских бомбардировщиков Б-29. Нанесен значительный ущерб. 2. В настоящее время ведется тщательное расследование. Есть основание полагать, что во время налета применена бомба нового типа.
Глава XV
«12 августа. Утром небольшая облачность. После полудня ясно. Нестерпимо болят ноги.Чуть позже пяти я вышел из временного штаба спасательного отряда и отправился домой вдоль железнодорожных путей линии Санъё. В дороге меня обогнала женщина средних лет. Случайно обернувшись, она вскрикнула от неожиданности. — Господин Сидзума?.. Вот где довелось встретиться. Просто удивительно. Ваши домашние уцелели? Я узнал женщину скорее по голосу, чем по внешности. Это была Тэйко. Фудзита Тэйко. Когда-то мы учились вместе с ней в начальной школе. Окончив среднюю школу, Тэйко поступила на текстильную фабрику в Курасики, заработала достаточно денег на приданое и вышла замуж за крестьянина. Жили они около клиники Хосокава в деревне Юда, близ города Фукуяма. Муж ее вскоре умер, и Тэйко, оставив дом и хозяйство на младшего брата покойного и его жену, нанялась горничной в гостиницу Курасики. Во время маньчжурских событий она некоторое время жила в деревне Кобатакэ, затем поступила в отель Кагами в городе Фукуяма. С тех пор как я начал работать в Хиросиме, у меня вошло в привычку в новогодний отпуск и в канун праздника Обон по дороге домой останавливаться в отеле Кагами. И я не раз прибегал к услугам Тэйко, когда нужно было звонить по телефону, отправить записку знакомому или отдать вещи на хранение. В канун минувшего нового года, когда я остановился на ночь в гостинице Кагами, у меня началось обострение геморроя. Тэйко сказала, что у нее есть знакомый врач-специалист, написала рекомендательное письмо в клинику и даже позвонила Хосокаве по телефону. Я попросил отпуск и лег в клинику, где провалялся более двух недель. Только теперь я узнал от Тэйко, что она приходила меня проведать, но не застала. Я выписался несколькими днями раньше. — Мне так неудобно, что вы ради меня приезжали в клинику, — сказал я. — Что вы, что вы! — успокоила она меня. — Я зашла по пути к двоюродному брату: он обещал мне купить немного риса на черном рынке... Просто удивительно, что мы встретились! Как почти все другие, Тэйко приехала в Хиросиму на розыски. Нынешней весной ее младшего брата из деревни Юда мобилизовали и направили поваром в столовую второго армейского госпиталя в Хиросиме. Прошло уже несколько дней с тех пор, как сбросили бомбу, а от него — никаких вестей. — Наверно, уже нет в живых, — вздохнула Тэйко. В Хиросиме Тэйко расспрашивала людей, разбиравших развалины, где находится второй госпиталь. Когда она пришла по указанному ей адресу, оказалось, что госпиталь полностью разрушен. Среди развалин одиноко стояла брезентовая палатка. Тэйко назвала дежурному солдату фамилию брата. Дежурный тщательно перелистал три регистрационные книги и сказал: — Очень сожалею, что вам пришлось проделать такой долгий путь. Но фамилия вашего брата почему-то здесь не значится. Все пострадавшие эвакуированы в Хэсака, Сёбара и Кабэ. До Хэсака двенадцать километров. Если же вы отправитесь в Кабэ, учтите, что между станциями Ёкогава и Ямамото электричка не ходит. До Ямамото вам придется добираться пешком — от Управления связи по путям налево. Сама станция вон в той стороне! Тэйко молча выслушала солдата, не зная, на что решиться. Что случилось с братом? Может быть, его нет в списках просто потому, что не нашли тело? Или он спасся? А может быть, его просто забыли отметить? — Хочу вас предупредить, — заговорил юноша, сидевший рядом с солдатом, — что почти все эвакуированные получили сильные ожоги. Лица так распухли, что их не узнает родная мать. Многие не в силах были даже откликнуться, когда их называли по имени. Поэтому каждому из них мы прикрепили к ремням бирки с именем и домашним адресом. Когда будете разыскивать вашего брата, обязательно проверяйте бирки. Тэйко колебалась, не зная, ехать ли ей в Кабэ или в Хэсака. Но времени на долгие раздумья у нее не было, и она выбрала Кабэ. Пока мы шли рядом, Тэйко не только успела рассказать о своем брате, но и просветила меня насчет того, как живут люди в районе Фукуяма. Она беззаботно выбалтывала даже некоторые секретные сведения, о которых слышала от постояльцев гостиницы. Так, один из них рассказывал, что по приказу военных властей двадцать печей для обжига в Имбэ, где изготовлялась фарфоровая посуда в стиле бидзэн, теперь используются для производства гранат и солдатских фляжек. Недавно в Имбэ группа офицеров провела испытания гранат с фарфоровым корпусом. Полудюймовые доски разлетелись на мелкие кусочки, и оглушенная рыба в пруду всплыла на поверхность. По своей мощи эти гранаты не уступают обычным... Наконец мы добрались до Ямамото. Электричка опоздала, и когда мы сели в вагон, стало совсем темно. Я пригласил Тэйко зайти к нам в гости, но она смущенно отказалась, и мы простились на станции Фуруити. (За плечами у Тэйко висел вещевой мешок; она была в шароварах и белой блузке, а на нарукавной повязке у нее — знак красного креста. Должно быть, именно поэтому с ней так учтиво разговаривал солдат в палатке. — Из поздних записей.) Не заходя домой, я отправился на фабрику и доложил директору, которого нашел в столовой, как обстоит дело. Узнав, что все попытки добыть уголь не принесли успеха, директор расстроился и, глядя в потолок, сказал: — Очень жаль. Но, видно, тут ничего не поделаешь. Спасибо тебе за старания, Сидзума. Я рассказал директору о встрече со спасательным отрядом, который разыскивал односельчан из отряда Кодзин, получил у него разрешение на поездку в Оноура и пошел домой. Сигэко и Ясуко уже отужинали и сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Под натянутой ими противомоскитной сеткой стоял накрытый столик. По-видимому, они хотели сделать мне приятное. Но мне почему-то казалось, будто под этим пологом я задыхаюсь от удушья. Сигэко сказала, что наши гости уехали утренним поездом. Утром я проснулся от нестерпимой боли в ногах. Боль была не спазматическая, а ровная, одинаковой силы в обеих ногах. Казалось, их выкручивают, как белье после стирки. Самое странное, что внешних признаков болезни не было. — Я слышала, что пострадавшим при взрыве помогает прижигание, — сказала Сигэко. — Почему бы и тебе не попробовать? Схожу к знакомым и постараюсь раздобыть моксу. Сигэко принесла моксу, и я сам сделал себе прижигание. Но когда я попытался встать, боль пронзила меня с новой силой. Я громко застонал — и вдруг почувствовал себя немного лучше. Кое-как доковылял до уборной. Покончив с приготовлениями к отъезду, я позавтракал и вышел из дому. Был уже одиннадцатый час. Пока я добрался до Оноура, боль в ногах, к величайшей моей радости, притихла. Стало быть, надо либо лежать пластом, либо ходить — тогда боль ощущается не так остро. Народная школа в Оноура была превращена в пункт первой помощи для пострадавших — и военных и штатских. По дороге от станции к школе мне попалась навстречу очень красивая женщина лет тридцати. От нее разило тем же самым неприятным запахом, какой стоял во временном штабе спасателей. Запах очень своеобразный, но типичный. — Извините, пожалуйста, — обратился я к женщине, — вы работаете врачом или медсестрой в пункте первой помощи? — Нет, — спокойно ответила женщина. — Я член женского комитета самообороны города Оноура. Хожу оказывать помощь раненым. Вчера один прохожий задал мне точно такой же вопрос. Видимо, вы ощущаете какой-то специфический запах! — Извините, но это действительно так. — Вы хотите навестить кого-нибудь из раненых? Идите за мной. Только держитесь немного поодаль. Чтобы не чувствовать запаха. «Остались же еще на свете вежливые люди!» — подумал я. На запах мне было наплевать, и мы пошли рядом, разговаривая о пункте первой помощи в Оноура. Когда мы подошли к школе, Осима Тамиё — так звали женщину — сказала: — Погодите минутку, я вас познакомлю с военным врачом господином Като. Человек он очень отзывчивый и знающий. Она подвела меня к младшему лейтенанту медицинской службы, который стоял у входа в бывшую учительскую. С первого же взгляда на его лицо я решил, что женщина сказала правду: человек он не мелочный и доброжелательный. Однако не успел я высказать свою просьбу, как он перебил меня: — Должен вам напомнить, что вы находитесь не в школе, а в отделении военного госпиталя. Чрезвычайные обстоятельства вынуждают нас принимать не только военных, но и штатских, однако мы не можем допустить вмешательство местных властей в вопросы транспортировки раненых. Лично против вас я ничего не имею, но никак не могу согласиться с вами, когда вы говорите, будто во временный штаб спасательного отряда в Нагао-тё направлено письмо. Это скорей всего выдумка кого-нибудь из местных чиновников. Будем считать, что вы мне ничего не говорили, а я от вас ничего не слышал. И еще раз повторяю: этот пункт первой помощи подчинен военному командованию. Доводы младшего лейтенанта показались мне неубедительными, но я не стал с ним спорить и попросил лишь разрешения повидать пострадавших из отряда Кодзин. Но и эту мою просьбу от отверг, заявив, что к пострадавшим приближаться опасно, ибо от них исходит нечто ядовитое. В последнее время участились случаи, когда совершенно здоровые люди, ухаживающие за пострадавшими, заражаются и умирают раньше, чем сами больные. Причем такая участь постигает прежде всего самых здоровых и энергичных. Бывало даже так, что родственники, приехавшие из деревни, чтобы забрать страдающих легкой формой болезни, по дороге домой заражались, и приходилось им самим оказывать медицинскую помощь. Военный врач, видимо, находился в мрачном расположении духа, а может быть, просто не хотел, чтобы штатские видели хаотический беспорядок, царивший в армейских пунктах первой помощи. Убедившись, что настаивать бесполезно, я возвратился в Хиросиму и доложил о своей поездке временному штабу спасательного отряда в Нагао-тё. Хлопоты мои оказались пустыми, но нет худа без добра: боль в ногах утихла. Возвратившись домой, я снова сделал себе прижигание моксой. Ослабление боли я приписывал случайности, но во временном штабе и Рикио и Масару сказали мне, что со вчерашнего дня они тоже делают себе прижигание. Все говорят, что только это и помогает от странной болезни, вызванной взрывом. Тамоцу, однако, отнесся к их словам скептически. Он посоветовал обратиться к специалисту по прижиганию моксой, выяснить, как и какие места следует прижигать, а не заниматься самодеятельностью... (Переговоры о свадьбе Ясуко близились к успешному завершению, когда внезапно мы получили от Аоно — родителей жениха — письмо с отказом. Одновременно мы узнали, что у Ясуко начали проявляться симптомы лучевой болезни. Стало быть, все наши старания пошли прахом. Теперь уже невозможно да и нет необходимости что-либо скрывать. По-видимому, Ясуко написала жениху, что у нее появились признаки лучевой болезни. Почему она это сделала? То ли из сострадания к жениху, то ли потому, что впала в полное отчаяние? Не знаю. Ясуко сказала, что она стала хуже видеть и в ушах у нее постоянный звон. В это время мы сидели в гостиной. И вдруг стены раздвинулись, и я словно воочию увидел в голубом небе огромное, похожее на медузу облако. — Из более поздних записей.)»
Глава XVI
Дневник заканчивался пятнадцатым августа — днем окончания войны. Сигэмацу оставалось переписать набело лишь записи за последние три дня, но болезнь Ясуко потрясла его с такой силой, что он не мог заставить себя сесть за переписку. А тут как раз подоспело время, когда надо было взяться за устройство садка для карпов. Теперь Сигэмацу вместе с Сёкити и Асадзиро ежедневно ходил к пруду, расположенному под насыпью, где стоял дом Сёкити. Болезнь Ясуко быстро обострялась. Супруги Сигэмацу винили себя в том, что не обратили внимания на перемены в поведении племянницы. Но доля вины, несомненно, лежала и на самой Ясуко, которая из-за своей излишней стеснительности скрывала от них, что с ней происходит. А ведь признаки болезни проявились еще до того, как родители жениха сообщили об отказе, только Ясуко подумала, что все это естественные последствия ожидания брака, поэтому она ни о чем не рассказала даже Сигэко. Не посоветовалась она и с доктором. Но все это выяснилось лишь впоследствии. И когда Сигэко привела наконец племянницу в деревенскую больницу в Кабатакэ, первое обследование показало, что болезнь уже приняла тяжелую форму. Вернувшись из больницы, Сигэко увидела в саду ожидавшего ее Сигэмацу. — Ах, как нехорошо получилось, — сказал он. — И зачем ты, Ясуко, держала все это в секрете... — Простите меня, дядя, — прошептала Ясуко, опустив голову, и прошла в дом. Около трех часов дня Сигэмацу, захватив с собой электрический фонарик и приготовленную для него еду, отправился к садку, чтобы вместе с Сёкити и Асадзиро заняться регулированием температуры воды. Уже наступил июль, когда температура воды — восемнадцать — двадцать градусов — самая благоприятная для нереста. Однако с самого начала карпов в такой теплой воде держать нельзя. Запускать вместе самцов и самок тоже не следует. В садке между самками и самцами строят деревянный барьер, а температуру воды поддерживают около девяти-десяти градусов. Когда же наступает время нереста, садок заполняют свежей водой соответствующей температуры, и только тогда выпускают самцов и самок. Впервые оказавшись вместе, рыбы начинают готовиться к нересту. Подготовка длится примерно с одиннадцати тридцати вечера и до рассвета. Всей этой методике Сёкити и Асадзиро обучились на рыбоводческой ферме в Токиканэмару. Теперь они впервые применяли ее на практике и были по-детски взволнованы. Асадзиро и Сёкити сказали, что посидят возле садка до рассвета, чтобы уберечь рыб от хищных ласок. Сигэмацу пришел на дежурство рано утром и отправился домой лишь водиннадцать вечера, когда карпы начали бить по воде хвостами. Стоял густой туман, и казалось, будто верхние ветви кэмпонаси растворились в ночном небе. Все двери в доме и на веранде были закрыты. Сигэмацу несколько раз кашлянул, и тотчас же одна из раздвижных дверей на веранде тихо отворилась. Сигэмацу направил в ту сторону луч своего фонарика. В дверях стояла Сигэко в чересчур коротком для ее возраста ночном кимоно. — Подожди минутку, — шепнула она, и Сигэмацу погасил фонарик. Сигэко задвинула за собой дверь и, присев на ступеньку лестницы, тихонько сказала подошедшему Сигэмацу: — Ясуко, может быть, еще не спит, пойдем в сад, нам надо поговорить. — Хорошо, хорошо, — шепотом ответил Сигэмацу. — Скажи только сначала, как она себя чувствует? Сигэко сунула ноги в сандалии, спустилась в сад и, неслышно ступая, повела Сигэмацу к дереву. Только после того, как Сигэко отпустила его руку, Сигэмацу осознал в полной мере, что они шли, взявшись за руки. Впервые за всю жизнь шли, взявшись за руки! Словно влюбленные! Такого не было даже тогда, когда еще жива была его мать, когда они с Сигэко встречались перед свадьбой! Несмотря на густой туман, им казалось, что всюду слишком светло. — Сигэмацу, — зашептала Сигэко, решительно откидывая волосы со лба назад. Она всегда так делает, когда сильно возбуждена. — Послушай, что сказал сегодня доктор Кадзита. Только никто ничего не должен знать. — Говори. Здесь нас не услышат. Вот что Сигэмацу узнал от жены. Часов в девять, когда Ясуко задремала, Сигэко потихоньку отправилась к доктору Кадзита и попросила сообщить результаты обследования племянницы. Тот рассказал. Оказалось, что Ясуко втайне от всех занимается самолечением, пользуясь книгой «Домашняя медицина». Если об этом узнают люди, они еще, чего доброго, вообразят, будто Сигэмацу и Сигэко не хотели ничего предпринимать для лечения Ясуко, пока симптомы лучевой болезни не стали чересчур явными. Слухи о том, что лучевая болезнь не поддается лечению, только подтвердили бы их подозрения. Нечто подобное произошло совсем недавно в одной из соседних деревень. Бывают случаи, сказал доктор Кадзита, когда у молодых женщин обостренное чувство стыдливости в соединении с упрямым характером приводит к трагическим последствиям. — Вначале у Ясуко появился жар, — продолжала шепотом рассказывать Сигэко. — Тогда она по совету «Домашней медицины» стала принимать аспирин. Видя, что температура не снижается, она попробовала пить сантонин. — Но ведь это средство против глистов! — Начался понос. Температура через несколько дней упала, но на ягодице появился болезненный нарыв. Опасаясь, что это какая-то дурная болезнь, Ясуко не пошла к врачу и лечилась антибиотическими мазями и присыпками. — Теперь я понимаю, почему она не принимала ванну. Боялась нас заразить. — Потом нарыв вскрылся, и ей полегчало. Но опять начался жар и полезли волосы. Тут-то Ясуко поняла, что у нее лучевая болезнь, и решила, что ей конец. Она стала есть листья алоэ. Скрывать болезнь было невозможно, и Ясуко призналась тебе, Сигэмацу. — А я-то не догадывался, почему у нашего алоэ срезаны листья. Говорят, алоэ помогает от малокровия. Бедная девочка надеялась вылечиться листьями алоэ. — Да, не повезло ей! Как все это глупо! Почему она так испугалась какого-то жалкого нарыва? И отчего все время молчала? Ясно, что она даже не подозревала серьезности своей болезни. Совершенно ясно. — У Сигэко пресекся голос, и она тяжело вздохнула, не в силах продолжать. Тяжело вздохнул и Сигэмацу. Сейчас им оставалось только одно: как следует кормить племянницу и заботливо за ней ухаживать, положившись на врача и судьбу. На следующий день разразилась гроза, и молнией расщепило огромную сосну, стоявшую среди развалин старинного самурайского дома, где некогда жил управляющий. Когда отхлестал дождь, пришел доктор Кадзита. Он обещал приходить каждые три дня. По его совету Ясуко поместили в отдельную, хорошо проветриваемую комнату в дальнем крыле дома. Сигэко выполняла роль сиделки и тайком от племянницы вела дневник ее болезни. Кормить Ясуко решено было той же самой пищей, что и Сигэмацу, страдавшего легкой формой лучевой болезни. — Если ей хочется спать — пусть спит, хочется гулять — пусть гуляет, — сказал на прощанье Кадзита. — Единственное правило, которое надо соблюдать неукоснительно, питаться три раза в день. В нише комнаты, где жила больная, Сигэко повесила пейзаж, принадлежавший, должно быть, кисти знаменитого художника Таномура Тикудэн. Возможно, впрочем, что это была искусная подделка. Эту картину Сигэмацу выменял всего за три сё[113] риса и пять клубней дьявольских языков у одного галантерейщика из Синъити, который приехал в Кобатакэ спустя пять-шесть месяцев после окончания войны, в тот самый день, когда выпал первый снег. Туго, видимо, приходилось галантерейщику, если он пошел на такой обмен. Сигэмацу избегал заглядывать в комнату, где лежала Ясуко, чтобы лишний раз не расстраивать ее. Ведь симптомы лучевой болезни появились у него значительно раньше, а теперь волею судьбы Ясуко чувствует себя много хуже, чем он. Сигэко подтвердила его опасения, однако сказала что домой, к родителям племянница не хочет. На второй день после того, как Ясуко поместили в отдаленной комнате, туда зашел Сигэмацу, чтобы поставить в вазу букет свежих гвоздик. Он был поражен переменой, которая произошла с племянницей за такой короткий срок. Ясуко исхудала. Кожа на лице приобрела зеленый оттенок и просвечивала — признак быстро развивающегося малокровия. Почувствовав на себе пристальный взгляд Сигэмацу, Ясуко закрыла глаза. Сигэко подробно рассказывала Сигэмацу обо всех симптомах болезни и дала прочитать свои записи, которые делала каждый вечер перед сном. Они отнюдь не походили на записи, которые вносят в историю болезни медицинские сестры. Они были в форме дневника, где описания здоровья больной перемежались с личными впечатлениями, случайными заметками. Прочитав дневник, Сигэмацу задумался. Надо бы показать его главному врачу больницы — Хосокава, который когда-то оперировал ему геморрой. Может быть, врач посоветует, что предпринять, чтобы спасти Ясуко; вместо истории болезни можно показать ему дневник... Решено, так он и сделает... Перелистав несколько страниц, Хосокава сказал: — Почему бы вам не отправить этот дневник в Комиссию по обследованию жертв атомной бомбардировки в Хиросиме? Здесь описана типичная для лучевой болезни картина. Эта комиссия собирает и хранит данные обследования пострадавших при атомной бомбардировке и время от времени составляет соответствующие отчеты. Сигэмацу даже не знал о существовании такой комиссии. Доктор Хосокава рассказал, что осенью того года, когда окончилась война, исследовательская группа американской оккупационной армии вместе с врачами Токийского университета начала в Хиросиме работы, в ходе которых сфера ее деятельности расширилась и была образована Комиссия по обследованию жертв атомной бомбардировки. В задачу этой комиссии, придерживающейся, как говорят, высоких идеалов, входит обследование больных лучевой болезнью и сбор соответствующих статистических данных. Это учреждение изучает только причины возникновения и ход лучевой болезни, но лечением не занимается. Состояние здоровья Ясуко волновало Сигэмацу гораздо больше, чем высокие идеалы Комиссии по обследованию жертв атомной бомбардировки, поэтому он вынужден был перебить Хосокава: — Я знаю, что вы очень заняты, доктор, но прошу вас, если выдастся свободный часок, прочитайте этот дневник. Тогда вам станет ясно, почему я обращаюсь к вам за помощью. Родной нам человек страдает от лучевой болезни... — Вы считаете, что я могу помочь? Но ведь я специалист по другим болезням, — с кислой миной сказал Хосокава, — вы прекрасно это знаете. А лучевая болезнь... странное, непонятное заболевание. Я безуспешно пытался излечить от нее моего двоюродного брата... Ну, что ж, ладно... Оставьте дневник. Я прочитаю его сегодня вечером. Согласие доктора очень обрадовало Сигэмацу, и он простился, попросив разрешения прийти через несколько дней. Сигэко вела этот дневник в течении шести дней, начиная с первого прихода доктора Кадзита. Записи делались на скорую руку, поэтому Сигэмацу решил переписать все набело, исправляя по ходу дела на свой вкус орфографию и стиль.Дневник болезни Ясуко Такамару
«25 июля. Грозовой дождь. Праздник храма Тэндзин.Утром в половине одиннадцатого начались сильные боли и рвота. Смотреть на страдания Ясуко было невыносимо тяжело. Боли прекратились минут через десять. Температура 38 градусов. Выпадают волосы. Около двух часов полил сильный дождь, несколько раз прогремел гром. В три тридцать прояснилось. Пришел доктор Кадзита. Температура 39 градусов. Кадзита сказал, что нарыв на ягодице вскрылся, но появился еще один. Я удалилась, чтобы не стеснять Ясуко, и приготовила на веранде кувшины с холодной и горячей водой. Немного погодя доктор вышел помыть руки. Я последовала за ним в комнату. Ясуко лежала, закрыв лицо полотенцем. — Ну и громыхало же сегодня, даже страшно! — улыбаясь, сказал Кадзита. И, пощупав пульс Ясуко, добавил: — Думаю, ей нужна инъекция пенициллина. Сто тысяч единиц. — Привычной рукой он набрал в шприц лекарство и сделал укол. Я проводила доктора до ворот. Перед уходом он сказал мне: «Слабость усилилась. По-видимому, из-за высокой температуры». На ужин я подала Ясуко жареную рыбу, яйца, морскую капусту, раккё[114], помидоры, одну чашу риса. Сначала мы договорились с Кадзита, что он будет приходить раз в три дня. Посоветовавшись с мужем, я попросила Кадзита навещать больную ежедневно. Ясуко уснула в восемь вечера.
26 июля. Ясно, прохладный ветер.
Утром температура 38 градусов. Озноб. На завтрак — суп из бобовой пасты, сушеные водоросли, раккё, соленья, яйцо, полчаши риса. Днем температура снизилась до 36 градусов. Пропал аппетит. Поела только помидоры и салат. К трем часам пришел Кадзита. Сказал, что нужно проверить стул. Ясуко нехотя согласилась. Вскрылся второй нарыв, появился третий. Доктор обработал нарывы и выписал мазь и присыпку. На ужин — суп, рыбные палочки, сушеная макрель, салат из огурцов, две чаши риса. После ужина читала «Жизнь Хидэёси» Яда Соун. Уснула в девять тридцать.
27 июля. Ясно, потом дождевые облака.
Утром температура 37 градусов. Самочувствие неплохое. На завтрак — суп из бобовой пасты с баклажанами, фасоль, яйцо, две чаши риса. Впервые за долгое время смеялась. Продолжала читать «Жизнь Хидэёси». Днем температура 37 градусов. На обед — соленые огурцы, кимпира[115], жареная рыба, омлет, чаша риса. Ясуко получила письмо от сослуживца из Фуруити. Написала длинный ответ и сама снесла письмо на почту. Спала до трех часов, пока .не пришел доктор Кадзита. Температура 36,4 градуса. После обследования доктор сказал, что глистов в двенадцатиперстной кишке не найдено, стетоскопия не обнаружила никаких отклонений от нормы. Обработав нарывы, Кадзита сказал: — Сегодня утром мне позвонили из Исими. С отцом удар, и завтра утром я туда уезжаю. Вместо меня будет приходить доктор Мория. Беспокоиться вам нечего. Я была огорчена. По слухам, Мория и Кадзита с давних пор не ладят между собой. — Но вы ведь вернетесь, доктор, не останетесь в Исими? — сказала я. — Нет, нет. Мне сообщили, что удар сравнительно легкий. Следите хорошенько за больной, и все будет в порядке. — Ах, доктор, боюсь, не случилось бы несчастья, — невольно вырвалось у меня. Тем временем вернулся от Сёкити муж, и мы вместе проводили Кадзита до спуска с холма. Доктор уселся на свой мотоцикл, лихо скатился вниз и исчез в клубах пыли. Вечером температура 37,5 градуса. На ужин — раккё, овощной салат, жареная рыба, паровые котлеты, помидоры, две чаши риса. Вечер выдался душный, мы вместе с Ясуко вытащили в сад скамеечки и, наслаждаясь прохладой под ветвями, грызли соленые бобы. Пришел Такидзо, дед Сёкити, принес трех угрей для Ясуко. Старик — ему пошел уже восемьдесят девятый год — сказал, что послезавтра самый жаркий день, когда каждый, кто хочет подкрепить свои силы, должен съесть угря. Такидзо любит поговорить, но вел он себя деликатно, даже не заикался о болезнях. Напустив на себя серьезный вид, дед Сёкити рассказывал всякие вымышленные истории и предания, и Ясуко от души смеялась. Сам же рассказчик ни разу не улыбнулся. — Давным-давно, когда мой дед был еще юношей, — говорил Такидзо, — в такие жаркие дни выносили скамейки под дерево кэмпонаси, чтобы подышать вечерним воздухом. И только мы, бывало, усядемся, приходит барсук, подберет объедки, устроится где-нибудь рядом и глядит на нас... Так-то было в старину... А вот какая история приключилась давным-давно, когда мой дед был еще юношей. Жил тогда на хуторе Огата в деревне Кобатакэ человек по имени Ёити. Был он примерным сыном и почитал своих родителей. За это его уважали все жители окрестных деревень. Знали о нем все путники, проходившие мимо. Даже змеи его никогда не трогали. А вот на путников они частенько набрасывались. Чтобы спастись, надо было трижды повторить: «Я Ёити из Огата». Змеи почтительно склоняли голову и быстро уползали прочь. Так-то было в старину. Давным-давно, когда мой дед был еще юношей, — говорил старый Такидзо, — один охотник убил оленя и потащил его домой. А за ним увязался шакал-оборотень. Оглянулся охотник, а шакал как прыгнет на него — и хвать зубами. Тут бы охотнику и конец пришел, да сметливый был парень. Сунул руку в карман, вытащил мешочек с солью да как сыпанет в шакала. Вы знаете, что нечистые духи не выносят соли. Шакала как ветром сдуло, а охотник, жив и невредим, преспокойно добрался до дома. Вот как в старину бывало-то...
28 июля. Ясно. В полдень пролился короткий дождь. Потом снова ясно.
Муж, как только проснулся, пошел к доктору Кадзита, прихватив с собой деньги за лекарство и подарок. Вернувшись, он сказал мне, что доктор, по-видимому, не вернется в Кобатакэ. По его бледному лицу и тяжелому дыханию я уже заранее знала, что он скажет. Самочувствие больной хорошее. Температура 37 градусов. На завтрак — суп из бобовой пасты с бататом, раккё, яйца, соленья, две чаши риса. Вскрылся третий нарыв. Ясуко сама смазала его мазью. Мы долго советовались все втроем, к какому врачу обратиться, но так и не договорились. Муж даже принес книгу предсказаний, но и она не помогла. В конце концов право выбрать врача предоставили самой больной. После обеда Ясуко сказала, что чувствует себя хорошо, температура у нее нормальная, поэтому она сама пойдет искать врача. Я предложила проводить ее, но она наотрез отказалась. Муж поспешил к своему рыбному садку. Мне даже не понравилось, что он так торопится. Пробный нерест закончился неудачей, и только во второй раз, когда использовали самок и самцов из резерва, дело пошло на лад. Я высушила матрац с кровати Ясуко и зажарила одного угря без приправы. Часов около четырех прибежал, запыхавшись, старик бакалейщик. — К нам звонила по телефону ваша барышня, — сказал он. — Она ложится в больницу Куисики. Чувствует себя неплохо и просила передать, чтобы вы не беспокоились. — Вы не ошиблись? — Нет, нет. Звонила ваша Ясуко. Это было так неожиданно, что я растерялась. Оправясь, я послала телеграмму родителям Ясуко и пошла к рыбному садку посоветоваться с мужем. Выслушав меня, он сразу же, не переодеваясь, отправился в Куисики. Вечером снова пришел бакалейщик. — Звонил ваш муж, — сообщил он на этот раз. — Просил предупредить, что сегодня возвратится поздно. — Как себя чувствует Ясуко? — Он ничего не сказал. Должно быть, хорошо. С самого утра меня не покидало чувство смутной тревоги, и вот, пожалуйста...
29 июля. Ясно.
Вчера вечером муж возвратился домой поздно. Оказалось, что диагноз, поставленный в больнице Куисики, отличается от диагноза доктора Кадзита. По их словам, высокая температура вызвана каким-то воспалительным процессом, а может быть, и нарывами. В кровь, должно быть, попало несколько видов бактерий. Таким образом, наряду с легкой формой лучевой болезни имеется какое-то сопутствующее заболевание. Доктор Куисики сделал Ясуко туберкулиновую пробу. Утром по дороге в больницу я зашла в бакалейную лавку поблагодарить старика. Бакалейщик сказал, что вчера после полудня он видел, как Ясуко выходила из больницы Курода. — Я тоже ее встретила, — сказала покупательница, женщина из дома Ёсимура. — У нее был желтый зонтик, не так ли? Она как раз входила в больницу Омура, когда я ее заметила. Из всех девушек в деревне только у Ясуко желтый зонтик. Есимура видела девушку с желтым зонтиком около половины третьего, а бакалейщик — примерно в час. Значит, Ясуко осмотрели в больнице Курода, затем в больнице Омура, а после этого она отправилась в Куисики. Видно, совсем потеряла голову. Вот и старалась найти спасительную соломинку. Больница Куисики размещена в деревянном оштукатуренном доме в европейском стиле; палаты, хотя и небольшие, светлые и хорошо проветриваются. Кровати наполовину задернуты пологом. Увидев меня, Ясуко заплакала. — Простите меня за своеволие, — прошептала она сквозь слезы и спрятала лицо в подушку. Я промолчала, потом стала рассказывать Ясуко, как жарила принесенного ей угря, как Сигэмацу разводит карпов. Только все напрасно. Ясуко была в таком состоянии, что смысл моих слов не доходил до нее. В половине одиннадцатого пришел главный врач. Он совершал обход. Реакция на туберкулин отрицательная. Температура 38 градусов. Пока обрабатывали нарывы, я стояла на улице, любуясь карпами в бассейне. Возвращаясь обратно, встретила в коридоре главного врача. Он сказал, что вчера Ясуко стояла на коленях перед своей кроватью и горько плакала. Сестра спросила, в чем дело. Ясуко рассказала, что в местах нарывов начался такой сильный зуд, что невозможно его вытерпеть. Сестра подняла подол ее спального кимоно и посветила фонариком. Там, где был нарыв, копошилось бесчисленное множество червячков. Утром, после исследования под микроскопом зараженной ткани, врачи пришли к выводу, что показана операция. Тем более что созревает новый нарыв. — Если вы вырежете больную ткань?.. — заговорила я. — Постепенно нарастет новая. — Останется некрасивый рубец. — Шрам, пожалуй, останется. С этим надо примириться, — ответил доктор, человек пожилой, лет за пятьдесят. Ясуко казалась очень усталой, и звонок к обеду я восприняла как сигнал к уходу. В коридоре я заметила няню с подносом, она несла Ясуко сушеную рыбу, фасоль в кунжутном масле, яйцо, соленья и круглую лакированную посудину с рисом.
30 июля. Ясно.
К вечеру муж пошел в больницу Куисики. По возвращении он рассказал, что у Ясуко температура 37 градусов, вечером были сильные боли, сегодня, в двенадцать часов она проглотила таблетку сульфадиазина и будет принимать это лекарство по одной таблетке через каждые четыре с половиной часа. Муж разрезал на части персик, который принес с собой, и дал Ясуко. Она кусала как-то странно— не передними зубами, а боковыми. Оказалось, что передние шатаются даже от прикосновения языка. Муж спросил у доктора, почему у Ясуко совсем пропал аппетит. Доктор ответил, что главное сейчас не в еде, а в том, чтобы регулярно принимать сульфадиазин. Нарывы никак не проходят. После обеда внезапно начался шквалистый ветер. Зашла жена владельца мельницы. Сказала, что решила проведать нас, узнать, как мы чувствуем себя в такую погоду. С погоды она перевела разговор на лучевую болезнь и между прочим упомянула, что у доктора Хосокава есть двоюродный брат, доктор медицины, который находился в Хиросиме, когда была сброшена атомная бомба. Все тело у него было обожжено; в ранах на щеке и ухе завелись черви; они сожрали даже мочку правого уха. Пальцы на одной руке срослись, так что он не мог ими даже пошевелить. Он сильно похудел. Сколько бы под него ни подкладывали подушек и матрасов, ему все казалось жестко, ломило кости. Был момент, когда он перестал дышать, и все думали: это конец. Но доктор Хосокава сам ухаживал за своим двоюродным братом, и в конце концов вылечил, и теперь он вполне здоров. Сразу после ухода мельничихи приехал отец Ясуко. Он сказал, что все расходы по содержанию дочери в больнице хочет оплатить из денег, выделенных ей на приданое. Муж был оскорблен этим предложением, но не сказал ни слова. Он стоял, уставившись в пол и скрестив на груди руки».
Глава XVIII
Ухаживая за племянницей, Сигэко переутомилась. У нее начались головокружения, сильные боли в сердце. Пришлось нанять сиделку для Ясуко. Договорились, что по нечетным дням ее будет посещать Сигэмацу, а по четным — отец Ясуко. С середины августа потянулись на редкость жаркие для здешних мест дни. Состояние Ясуко казалось безнадежным. Она жаловалась на звон в ушах. Пропал аппетит. Стоило прикоснуться гребнем, как волосы лезли целыми пучками. Десны распухли и кровоточили. Доктор Куисики заподозрил, что у нее развивается перидонтит. Он испробовал реакцию Манту, несколько раз брал кровь на анализ и повторно назначил сульфадиазин по одной таблетке каждые четыре с половиной часа. Лекарство было то же самое, которое она принимала на второй день пребывания в больнице. — Почему мне снова дают эти таблетки? — спросила Ясуко. — Так надо, — ответил Сигэмацу. Сиделка рассказала ему с глазу на глаз, что Ясуко раз в день испытывает острые приступы боли — такой невыносимой, что ей кажется, будто она не выдержит. Приступы обычно начинаются глубокой ночью. Ясуко была худа как щепка, ее сухие горячечные губы стали одного цвета с кожей — бледно-синие. Ногти приобрели землистый оттенок. Как-то Сигэмацу попросил ее открыть рот и увидел, что верхние резцы исчезли, от них сохранились только корни. В течение нескольких дней они шатались, а потом надломились посередине. Из распухших десен продолжала сочиться кровь. Полоскание борной не приносило никакой пользы. Стоило Ясуко сжать губы, как через некоторое время между ними вспенивалась узкая кроваво-красная полоска. На ягодицах появились два новых нарыва, которые соединились между собой наподобие тыквы-горлянки. Шесть предыдущих врач вскрыл, однако места разрезов не заживали, и сквозь них виднелось красное мясо, словно мякоть треснувшего спелого арбуза. Кожа вокруг нарывов стала черно-синей, как при заражении. Обо всем этом Сигэмацу рассказала сестра, когда провожала его по лестнице. Все попытки предпринять что-нибудь оканчивались безуспешно. Даже у главного врача не удалось выяснить ничего определенного. — Анализы неблагоприятные, — сказал главный врач. — С кровью что-то непонятное. В микроскоп видны какие-то мельчайшие тельца, но что это за тельца — определить невозможно. Красных кровяных шариков вдвое меньше нормы... Возможно, — добавил он, — эти мельчайшие тельца — деформировавшиеся лейкоциты, но почему-то их чересчур много. Сигэмацу понял из всего этого, что врачи бессильны помочь Ясуко. Он не хотел больше выслушивать медицинские термины, которые внушали ему непреодолимый страх и усугубляли чувство вины перед Ясуко. Ведь причиной ее болезни был не только черный дождь. Сигэмацу не забыл, как они втроем пробирались сквозь груды пепла и еще не остывшие развалины, ползли от моста Аиои до квартала Сакан-тё и как Ясуко поранила себе левый локоть. Вполне возможно, что через эту рану и произошло заражение. Говорить об этом поздно. Но, конечно, не надо было вести женщин сквозь пылающий город к фабрике в Фуруити. Попроси он тогда начальника отдела Сугимура, разумеется, тот приютил бы Ясуко на два-три дня. Что ни говори, зря пригласил он Ясуко в Хиросиму. Как теперь искупить вину? Вскоре Сигэмацу получил от Хосокава письмо и объемистый пакет.«Уважаемый господин Сигэмацу, — писал главный врач, — позвольте поблагодарить Вас за вяленую форель, которую Вы так любезно мне подарили. Я внимательно изучил Вашу просьбу. И вот мои выводы. Прежде всего должен Вам сказать, что мой двоюродный брат обязан своим выздоровлением удивительному везению. Назначенное мной лечение заключалось лишь в нескольких инъекциях раствора Рингера и переливании крови. Ничего другого я не мог предпринять. В подтверждение этих своих слов и для того, чтобы Вы не думали, будто я хочу отмахнуться от Вас, посылаю Вам в пакете дневник, написанный моим двоюродным братом Иватакэ во время болезни. Прочитав дневник, Вы поймете, какое огромное значение в борьбе с болезнью имеет воля к выздоровлению. Это лишнее доказательство, что ни при каких обстоятельствах, даже при самой тяжелой болезни, нельзя терять надежду на исцеление. Буду Вам крайне признателен, если после прочтения Вы возвратите дневник мне. От всего сердца желаю больной выздоровления.Дневнику предшествовал заголовок: «Записки врача-резервиста Хироси Иватакэ о бомбардировке Хиросимы». Сигэмацу читал вслух, сидя у изголовья Сигэко, и то и дело вскрикивал: — Но это же чудо! — Надо, чтобы Ясуко обязательно прочитала дневник, — откликалась Сигэко. Все, что говорила мельничиха, было верно. Иватакэ пострадал гораздо сильнее Сигэмацу. У него в самом деле срослись пальцы на руке и мочку уха отъели черви. И все-таки он выжил, и не только выжил, но даже сделал себе пластическую операцию, разделив пальцы. Сейчас он занимается частной практикой в Токио. О чем же писал Иватакэ в своих «Записках»? «Первого июля 1945 года получил повестку с приказом явиться в казармы Второго Хиросимского отряда. Я спешно привел свои дела в порядок и сел на поезд. Проезжая мимо Нагоя и Осака, я заметил сильные разрушения, причиненные воздушными налетами. Вокзал в Окаяма еще горел после ночной бомбардировки. Начался небольшой дождь; вдоль путей, прикрыв головы подушками, вереницей шли полуголые люди, пострадавшие при взрыве. Я сошел в Фукуяма, отправился в деревню Юда, где встретился с эвакуированными сюда женой и ребенком. В парикмахерской меня остригли наголо и сбрили усы. Затем мне вручили военную форму и вещевой мешок. Я сел в поезд на железнодорожной линии Фукуэн. Провожали меня жена и старший брат. Как я узнал, призыву подлежали лица до сорокапятилетнего возраста. Меня призвали в качестве резервиста третьей группы, как раз перед моим сорокапятилетием. Все фотографировались на случай гибели, но я не мог заставить себя последовать обычаю. В Хиросиме я переночевал у родственников. В восемь утра первого августа я впервые в жизни переступил порог казармы. Здесь, во дворе, нас собралось человек пятьдесят из префектур Хиросима и Окаяма. Как выяснилось, врачей из префектуры Ямагути направили в полк Ямагути, из Симанэ — в полк Хамада, а нас решили отправить в обычное пехотное подразделение и лишь после этого — в центр подготовки врачей-резервистов. Мы долго ждали под палящим солнцем, затем нам приказали зайти в большую комнату с деревянным полом, рядом с медсанчастью. И только тогда наконец в сопровождении двоих врачей к нам соизволил выйти начальник первого военного госпиталя майор медицинской службы Нисио — здоровенный, рослый детина. После переклички майор обратился к нам с речью: — Я майор Нисио, — громко проговорил он. — А как назвать вас, которые в трудные для отечества дни не вступили добровольно в армию? В моих глазах вы просто-напросто банда государственных преступников. Наше правительство издало приказ о тотальной мобилизации для того, чтобы ни один из таких ублюдков, как вы, не уклонился от выполнения своего долга. С этой минуты ваша жизнь в моих руках. Некоторые из вас находились, вероятно, в привилегированном положении, занимали высокие посты. Но нам до этого нет никакого дела. Ваши головы набиты конским дерьмом, вы начисто лишены воинского духа. Но мы воспитаем в вас воинский дух! Так и знайте! После этой краткой, но выразительной вступительной речи он стал подзывать нас по очереди, подвергая каждого форменному допросу: как твоя фамилия, расскажи свою биографию, почему до сих пор не пошел добровольцем в армию? Когда очередь дошла до меня, я предъявил справку, свидетельствовавшую, что еще в январе прошлого года мною было подано заявление в Первую дивизию и в Хиросимский военный комиссариат с просьбой о зачислении в армию в качестве врача. Бумага, по-видимому, произвела некоторое впечатление, и меня мучили недолго. Не только я один — многие показывали справки о том, что в свое время просили зачислить их добровольцами в армию, но им было отказано в их просьбе по состоянию здоровья. И действительно, когда начался медицинский осмотр, среди нас не нашлось ни одного человека с безупречным здоровьем. У одного оказался туберкулез позвоночника, у другого — хронический ларингит, у третьего не хватало ребра, у четвертого нога наполовину не сгибалась в колене — он повредил ее еще в студенческие годы, во время соревнований. Майор Нисио был назначен главным врачом совсем недавно и, должно быть, не успел еще связаться со своими коллегами, а возможно, утерялись документы, подтверждающие то, что все мы хотели добровольно пойти в армию, но получили отказ. Само собой разумеется, он очутился в глупейшем положении. Один хиросимский врач вызывающе улыбнулся и откровенно зевнул. Нисио подскочил к нему и стал методично бить по щекам. Я подумал об ожидающей нас судьбе, и на душе у меня заскребли кошки. После рентгеноскопии и анализа мокроты многих в тот же день отправили домой. Других разослали по местам их работы, так как врачей не хватало. Надевая на спину вещевые мешки, они закусывали губы, чтобы случайно не выдать своего ликования». Вот так Иватакэ попал в пехотное подразделение, где пятнадцать дней его муштровали, как рядового пехотинца. Главная цель этой муштры состояла в усвоении тактики борьбы с вражескими танковыми подразделениями на территории Японии. Перед каждым ставилась задача взорвать танк. Каждый день, не один десяток раз, Иватакэ подбегал к деревянному макету танка, кидая под него привязанную веревкой к руке деревянную гранату, и распластывался на земле. Лишь позднее, когда Иватакэ прикомандировали уже к учебному центру, он узнал, что отряд штрафников, где он проходил обучение, предполагалось включить в состав армии, которая должна была оборонять Японию с моря, с тем чтобы каждый штрафник ценою своей жизни уничтожил один танк противника... Еще выдержка из дневника Иватакэ: «14 июля вышел приказ перевести нас из пехотного подразделения в учебный центр Второго военного госпиталя. Мы прибыли в двухэтажные казармы на берегу реки Ота, где уже разместилась группа резервистов из Ямагути и Хамада. Всего нас собралось более ста тридцати человек. Приставили к нам юного лейтенанта по фамилии Ёсихара, окончившего краткосрочные медицинские курсы при военном госпитале в Пхеньяне. Его поучения были еще более выразительны, чем поучения майора Нисио. — Казармы, где вы находитесь, называют дьявольскими, — орал лейтенант при первой же с нами встрече. — Заткните себе в зад все свои дурацкие мыслишки. Вы теперь солдаты — и должны думать, как вам велят. Таких субчиков, как вы, я хорошо знаю: только сделай поблажку, тут же на голову сядете. Нам приказано сделать из вас людей. Хотите, я вам объясню, что вы из себя представляете? Далее следовало пятьдесят слов, которые я опускаю. Это называлось накачкой, но такая накачка отнюдь не рассеивала мрачных мыслей, а только нагоняла тоску. После того как лейтенант выкричался, нас стали по трое вызывать к командиру. Командир выяснял семейное положение каждого, доходы и т. п., с тем чтобы потом с учетом всего этого направить соответственно в более или менее опасные районы». Со следующего дня началась муштра. «Служба в армии напоминает тюремное заключение, — писал в своем дневнике Иватакэ. — Рано утром, когда еще даже не светало, наши начальники, часто ради потехи, поднимали нас по тревоге. Мы бежали три-четыре километра: мимо храма Гококу, через мост Аиои, затем на север. Мимо храма Хонгандзи, опять к мосту Аиои и, минуя храм Нигицу, возвращались в казармы. Добрая половина новобранцев не выдерживала и падала по дороге. Среди нас распространились лихорадка, дизентерия и другие болезни. Когда нас заставляли ползать по-пластунски, гимнастерки так пропитывались потом, что впору выжимать, а локти стирались до крови. Стоило чуточку оттопырить зад, как тут же следовал пинок ботинком; опущенное дуло винтовки наказывалось ударом в спину. Среди нас был резервист Накамура, главный врач родильного дома в Токуяма, человек средних лет, с огромным животом. Его вес достигал ста девяноста фунтов. Накамура страдал сильным расширением сердца, в прошлом году по состоянию здоровья его освободили от службы, но на этот раз ему не повезло. Нетрудно себе представить, каково ему было ползать с винтовкой в руке. Накамура всегда отставал; военный врач Ёсихара так щедро награждал его пинками, что тот нередко плакал и даже хотел покончить жизнь самоубийством. На лице у него застыло выражение растерянности и горького разочарования: несчастному Накамура чудилось, будто его избивает собственный сын, превратившийся в бандита. Шестого августа, около шести тридцати утра, была объявлена воздушная тревога: два или три бомбардировщика Б-29 пролетели на юг, не сбросив ни одной бомбы. Это никого не удивило: такое бывало и раньше. После семи часов объявили отбой. Однако тревогу в нашем отряде еще не отменили. В семь пятьдесят мы все, начиная с главного врача и кончая санитарами и резервистами, выстроились на плацу. Мы поклонились в сторону Востока, где расположен императорский дворец, и стали слушать императорский рескрипт «К армии»: в этот день как раз исполнилась годовщина его обнародования. В первом ряду стояли старшие военные врачи и санитары, за ними врачи-резервисты из префектур Ямагути и Симанэ в парадной форме и в последнем — врачи-резервисты из префектуры Хиросимы. Одеты они были кто во что попало. Видимо, не сработала система снабжения. После того как чтение рескрипта закончилось, помощник командира начал речь, прерванную взрывом бомбы». Вот что пишет об этом в своем дневнике Иватакэ. Церемония длилась около двадцати минут. Перед тем как распустить строй, помощник командира отчитал нас за слишком медленные, по его мнению, действия при объявлении воздушной тревоги. Внезапно послышался приближавшийся с юга, хорошо всем нам знакомый гул моторов Б-29. Я невольно поднял голову. Мне показалось, будто бомбардировщик прямо над нами. В тот же миг от него отделилось нечто похожее на баллон заграждения. В следующий миг меня ослепило белое, словно молния, пламя: как будто разом подожгли невероятно большое количество магния. Еще через миг меня обжег порыв горячего ветра. И тут же я услышал ужасающий грохот. Это было последнее, что запечатлелось в моей памяти. Что случилось потом? Сколько прошло времени? Не знаю. Взрывная волна подбросила меня высоко вверх, и я потерял сознание. Пришел я в себя оттого, что кто-то наступил башмаками на шею и на плечо. Я лежал под деревянным брусом. Окончательно оправившись, я увидел в сумрачной мгле светлое пятно и выбрался из-под нагромождения брусьев. Оказалось, что я нахожусь под каркасом крыши, лишенной черепичного покрытия. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось спуститься на землю. По моим предположениям, я был где-то между канцелярией и кухней, вернее, теми местами, где они находились. Оглядевшись, я увидел, что ни корпуса лазарета, ни двухэтажного здания учебного центра уже нет. Все вокруг расплющено, раздавлено, смято — пожалуй, только так можно выразить то, что предстало моим глазам. Кругом ни души. Тишина. И так темно, будто внезапно наступил вечер. А над развалинами кухни и лазарета поднимается черный столб дыма. Правая половина моей гимнастерки тлела и дымилась. Исчезли не только наручные часы и очки, но и кошелек из правого нагрудного кармана. Кожа на правой руке свисала бледно-серыми клочьями, обнажая красное мясо с прилипшими к нему комьями черной земли. Пальцы и наружная часть кисти левой руки побелели, как после прижигания. Лицо — я чувствовал — было обожжено, а спина страшно болела: видимо, ее придавило брусом. Кое-как добравшись до умывальной, я повернул каким-то чудом уцелевший кран, и, к моему удивлению, из него потекла вода. Я смыл грязь с открытой раны и обмотал руку чьими-то валявшимися поблизости трусами. Видел я без очков очень плохо, все кругом расплывалось в серой полумгле. Нигде не было ни одного человека. Может быть, всех уже эвакуировали, а про меня забыли? Выйдя из умывальной, я пошел к реке Ота. На берегу я увидел несколько знакомых солдат. Один, полуголый, лежал на земле, не в силах подняться. Рядом возвышалась большая кипа одеял, которые во время воздушной тревоги вынесли со склада. Я стянул верхнее и повалился на него. Напряжение на какое-то время спало. В душе водворились странная пустота и усталость. Немного погодя к нам присоединились еще два-три солдата. Никто не мог понять толком, что случилось. Все были в каком-то непонятном оцепенении, словно нас зачаровала лиса[116]. По-видимому, бомба обладала необычайно большой разрушительной силой. Сначала я решил было, что казармы разрушены прямым попаданием, но потом заметил, что многочисленные дома на противоположном берегу реки тоже разрушены. Со стороны моста Митаки и одного из храмов Хонгандзи взвивались языки пламени. Может быть, одновременно сбросили фугасные и зажигательные бомбы, но почему тогда не была даже объявлена воздушная тревога? Откуда-то появились несколько моих коллег-резервистов — из тех, что стояли в последнем ряду во время зачтения рескрипта «К армии». Среди них — Миёси и Ито. Они брели, словно лунатики. Первые ряды, очевидно, оказались погребенными под развалинами домов. Но где было нам, раненым, без всякого инструмента, выкопать их из-под развалин, которые уже лизали языки пламени. Оставаться было опасно, и, не сговариваясь, все мы решили пробираться к отделению госпиталя в Митаки. Мне уже приходилось видеть, как во время больших пожаров пламя часто бушует над самой гладью рек. Помню, как ночью девятого марта, во время бомбардировки Асакуса, Хондзё, Мукодзима и другие районы Токио, прилегающие к реке Сумида, затопило бурное море огня и пытавшиеся спастись в воде люди превращались в пылающие факелы. Мы пошли вдоль берега вверх по течению. Все дороги были завалены обломками домов, и нам пришлось идти по тропинке, истоптанной тысячами людей. Много раз я проваливался в глубокие выбоины. В одной из них я потерял ботинок и долго его разыскивал. Ито крикнул, чтобы я не отставал, и я вынужден был прекратить поиски. Кто-то стонал в зарослях шиповника, но я брел словно во сне, и не было у меня сил остановиться и оказать помощь. Пожар неумолимо приближался. Лицо распухло, боль усилилась. Идти становилось все труднее. Совесть громко упрекала меня: как же это я, врач, покинул на произвол судьбы человека, взывавшего о помощи? Но положение не оставляло другого выхода: подавив в себе все чувства, надо было бежать! Бежать! Понадобилось не менее двух часов, чтобы добраться от храма Нигицу до реки. Сквозь покрывавшие небо тучи пробилось бледное солнце. Лишь позднее я понял, что как раз в это время грибообразное черное облако начало постепенно рассеиваться». Казармы, где проходил обучение Иватакэ, были расположены вблизи эпицентра, и, когда он бежал, грибовидное облако находилось прямо над ним. Видимо, поэтому он не мог разглядеть его форму и писал лишь о «покрывавших небо тучах». Несмотря на сильнейшие ожоги, ему каким-то чудом удалось спастись. Может быть, для того, чтобы поведать людям об этом страшном дне. Из ста тридцати резервистов его отряда в живых остались лишь он да еще двое. Далее в дневнике Иватакэ рассказывалось, как он и двое его товарищей дошли до храма Нигицу. Какой-то прохожий посоветовал им не идти в сторону расположения батареи тяжелой артиллерии, потому что там с минуты на минуту можно ждать взрыва снарядов, а повернуть к реке и двигаться по песчаной отмели по середине реки. Иватакэ и его товарищи по совету этого прохожего свернули одеяла, положили их на голову и, по грудь в воде, вброд добрались до песчаной отмели. Только тогда они поняли, что идти в сторону Митаки опасно: там бушует пламя и поднимаются густые клубы черного дыма. Иватакэ и его спутники вновь выбрались на берег и пошли вдоль реки, вверх по течению. Иватакэ не чувствовал уже ни голода, ни боли. Им владело одно лишь желание: найти укромное местечко, где можно растянуться и отдохнуть. В направлении Хиросимы мчалось несколько военных грузовиков. Водитель одного из них, поравнявшись с изнемогавшими от усталости путниками, притормозил и крикнул: — Эй, ребята! С северной стороны этого холма — Хэсака. Там оборудуют пункт первой помощи для раненых. У них есть все, что нужно. Вам осталось совсем недалеко. — Хэсака, Хэсака, — несколько раз повторили все трое и пошли дальше. Иватакэ, прихрамывая на босую ногу, едва поспевал за своими спутниками. Хотя шофер сказал, что Хэсака совсем рядом, им пришлось тащиться добрый десяток километров. По дороге они обгоняли толпы с трудом передвигавшихся раненых. От одного взгляда на них волосы вставали дыбом. Пункт первой помощи — если его можно было так назвать — располагался в двух одноэтажных зданиях начальной школы. Кроме того, на спортивной площадке было разбито два шатра. Наступил вечер, а возле школьных зданий и у шатров стояли длинные хвосты ожидавших своей очереди. В коридорах стонали раненые, валявшиеся на полу вперемежку с мертвыми. Лица мертвецов покрыты были кусками белой материи. Некоторые из живых выкликали имена детей, дети звали матерей... Собственно лечением занимались всего двое: один смазывал всех зеленкой, другой — смешанной с растительным маслом пшеничной мукой, которая заменяла мазь от ожогов. Об инъекциях и перевязочных материалах нечего было и мечтать. Голова Иватакэ распухла так сильно, что он не мог даже поднять веки. Она походила теперь на арбуз. У Миёси вздулся на щеке огромный волдырь и разлохматилась кожа на руках. У Ито на лице виднелись сильные ожоги и большая шишка на лбу... Миёси был доктором медицины, хорошим специалистом-акушером. Во внутреннем кармане гимнастерки он всегда носил фотографию своей дочери. Ито имел частную практику в том же городе, прекрасно разбирался в фармакологии. После того как Иватакэ и его спутники прошли процедуру смазывания зеленкой, им удалось разыскать в самом начале коридора свободное местечко на полу, где они провели ночь, закутавшись в принесенные ссобой одеяла. Они, видимо, никак не могли оправиться от потрясения и не чувствовали голода, хотя с самого утра у них не было во рту маковой росинки. Их одолевала мучительная жажда, но они решили терпеть, опасаясь заражения. Все трое молчали. Говорить не было сил... На следующий день, седьмого августа, военных отделили от штатских и поместили в классные комнаты. Голова Иватакэ увеличилась вдвое. Теперь для того, чтобы видеть, ему приходилось размыкать веки пальцами. Его перенесли на носилках в восточное крыло здания, отведенное для тяжелораненых. Когда ему передали его обгоревшую гимнастерку, которую Миёси подкладывал под голову вместо подушки, оказалось, что из карманов исчезли блокнот, портсигар и небольшой бумажник для визитных карточек. С Миёси они уже никогда больше не встретились. Ито поместили в другой комнате. Впоследствии Иватакэ узнал, что Ито отыскала жена; благодаря ее неусыпному уходу он выжил и теперь в полном здравии продолжает заниматься частной практикой. Иватакэ так описывает в дневнике свое самочувствие в тот день. «В классной комнате, куда меня перенесли, не было ни одного врача-резервиста. Здесь помещались только тяжелораненые рядовые действительной службы. Все они были еще совсем молоды. Меня терзала нестерпимая жажда. Кости ныли так, словно их ломали каждую по отдельности. Меня знобило, лихорадило. Температура поднялась выше тридцати девяти. Глаза почти ослепли. Я мог только неподвижно лежать. Седьмого августа выдали тарелку жидкой овсяной каши. За два дня я справил малую нужду всего раз. Пить воду категорически запрещалось, но я не выдержал: приподняв пальцем одно веко, прокрался к артезианскому колодцу и напился. У воды был металлический привкус, но она оживила меня. Во дворе стояло уже шесть палаток, но и они не могли вместить всех пострадавших. На краю площадки лежали в ряд тела умерших. С наступлением ночи крики и стоны раненых усилились. Один из солдат, у которого была повреждена голова, выскочил из окна и отправился бродить по залитому водой рисовому полю. В течение ночи умерло около трети раненых в нашей комнате. Мертвых потихоньку клали на носилки и выносили наружу. Я настойчиво вдалбливал себе мысль, что ни в коем случае не должен умереть, ведь степень полученных мною ожогов не так уж велика. Но откуда такое огромное количество жертв? Понять это было невозможно. Сестра составила список раненых с указанием фамилии, звания, номера воинской части, домашнего адреса. Я попросил ее сообщить семье, что нахожусь в Хэсака, но она отказалась. Врача еще ни разу не было».С уважением Хосокава».
Глава XVIII
Утром восьмого августа неожиданно огласили приказ: пациентов слишком много, во временном пункте первой помощи обслужить их невозможно, поэтому часть пациентов переводится в отделение военного госпиталя в Сёбара. Пусть все, кто способен добраться до Сёбара поездом, своевременно заявят об этом. Народу умирало много, но раненых прибывало еще больше. Только успевали убрать трупы, как поступала новая партия раненых. Классные комнаты и палатки во дворе были переполнены. Не хватало места даже в соседних крестьянских домах и сараях. Многих пострадавших размещали во дворах, под открытым небом. И начальная школа в Хэсака не являлась исключением. Во всех прилегающих к Хиросиме городах, поселках и деревнях школы приспосабливались под госпитали и, судя по всему, были переполнены. Возникла необходимость перебросить часть раненых в более отдаленные районы, чтобы в какой-то степени обеспечить их медицинской помощью и кровом. — Слушайте срочное сообщение, — повторял санитар. — Каждый, кто хочет отправиться в Сёбара, пусть заявит об этом. Поднимите руку все, кто способен самостоятельно доехать поездом до Сёбара! От Хэсака до Сёбара поезд идет три часа. — Кто хочет поехать в Сёбара? — вторила ему женщина из Лиги защиты родины. — Все, кто способен добраться поездом, поднимите, пожалуйста, руки. От Хэсака до Сёбара три часа езды. Лежавший на спине Иватакэ приподнял кончиками пальцев опухшие верхние веки и уперся взглядом в потолок. Он ясно различал прожилки на потолочных досках и решил, что вполне способен без чьей-либо помощи добраться до станции. Сомкнув глаза, он поднял руку. Слабость была так велика, что кисть поникла, как перешибленная. Все остальные были в нерешительности. — Бросьте издеваться над нами, — сказал кто-то возле Иватакэ. — Я вот хочу поехать, да не могу. «Кто это такой? — заинтересовался Иватакэ. — В каком он состоянии?» — Кто хочет — пусть едет, а мне и здесь хорошо, — послышалась рядом ворчливая скороговорка. — Я еду, — раздался чей-то выкрик. «Хорошо бы добраться живым до Сёбара», — подумал Иватакэ. Если уж умирать, то не в поезде. Ведь Сёбара — его родной городок, там он родился. К тому же начальник Сёбарского отделения Первого Хиросимского военного госпиталя профессор Фудзитака — его односельчанин. Он окончил тот же университет, только раньше. Фудзитака — человек строгий, но отзывчивый. «Уж мази-то он для меня не пожалеет, — решил Иватакэ. — Нельзя упускать случай». Он попытался поднять не одну, а обе руки. Но ему пришлось левой рукой подхватить правую, иначе она упала бы на одеяло. — Можешь опустить руки, — услышал Иватакэ. Опустив руки, он приподнял кончиком пальца верхнее веко и увидел, что санитар прикрепил к его ремню бирку. Иватакэ привстал и взглянул на нее. На бирке черной тушью было написано: «Едет в Сёбара». — Когда отправление? — спросил он у санитара. — Как только выясним, сколько желающих. Сбор во дворе. Наступило время обеда. Принесли нечто непонятное: то ли жидкую кашу, то ли суп. Есть — вероятно, из-за высокой температуры — совершенно не хотелось. Иватакэ выпил только чашку чая. В три часа дня был объявлен сбор. В школьном дворе, где стояла нестерпимая вонь от лежавших штабелями мертвых тел, собралось не менее шестисот человек. Выстроившись в колонну по одному, пострадавшие двинулись по тропинке между рисовых полей к станции. Иватакэ шел, поочередно поднимая то правое, то левое верхнее веко. Вид у всех был самый плачевный. Казалось, это тянется длинная процессия привидений. Взбираясь на холм перед станцией, Иватакэ почувствовал нестерпимую жажду. Он обратился к старухе, стоявшей у входа в свой дом по правую сторону дороги: — Дайте, пожалуйста, напиться. Старуха без всякого отвращения взглянула на распухшие щеки и обожженные губы Иватакэ и пошла в дом, тихо бормоча: — Он хочет пить... Ах, бедняга!.. Он хочет пить. Вскоре она вернулась с большой чашкой на подносе. В чашке была не вода, а холодный крепкий чай. «Мы сели в поезд, — вспоминает Иватакэ, — и к вечеру были уже на станции Сёбара. Грузовик отвез нас не в отделение госпиталя, а в школу. Нас поместили в классной комнате второго этажа на полу. Все было точно так же, как в начальной школе Хэсака. К тому времени, когда я наконец отыскал себе место на полу, я уже не сознавал, что со мной и где я. Вечером температура поднялась еще выше, озноб усилился. Язык и губы не слушались меня. Я не мог издать ни одного звука. Смутно припоминаю, что в ту ночь объявляли воздушную тревогу. За время болезни я трижды терял сознание. В первый раз — сразу после взрыва. Во второй раз — когда после утомительной поездки на поезде мы прибыли в школу в Сёбара. И в третий — в первой декаде сентября, когда у меня началось то, что теперь называется лучевой болезнью, и я несколько дней находился между жизнью и смертью. Естественно, что в это время я не мог ясно воспринимать все происходящее и мне было трудно наблюдать за симптомами и течением болезни. Утром девятого августа температура понизилась, и я постепенно начал приходить в сознание. В этот день военный врач сделал обход и дал указания санитару. С тех пор как я перенес бомбардировку, меня впервые осмотрел врач, но он не счел даже нужным прибегнуть к помощи стетоскопа. Все у меня — голова, лицо, шея, спина, руки, пальцы и даже уши — было обожжено. С запястий слезла кожа, а спина, как мне говорили, напоминала говядину, только что не торчали наружу ребра. Позднее я узнал, что при взрыве выделилось тепло температурой в несколько тысяч градусов. Санитар смазал мои ожоги какой-то жидкостью, напоминающей пикриновую кислоту, наклеил на спину марлевую салфетку примерно в один квадратный фут. На этом он посчитал свою миссию законченной и перешел к следующему пациенту. Да и чего можно требовать от санитаров, когда на их плечи свалилось сразу несколько сот раненых? О такой роскоши, как вежливость и внимательность, не могло быть и речи. На следующий день, десятого августа, санитар пришел сменить марлю. Когда он начал отдирать салфетку, я невольно закричал от боли. От тяжести моего тела, жара, всевозможных выделений марля прилипла всей своей поверхностью. Санитар отдирал ее снизу, и я из-за нестерпимой боли, упираясь руками в пол, приподнимался все выше. Наконец руки мои подогнулись, я с воплем рухнул на пол, а марля осталась у санитара. Метод нехитрый, но чрезвычайно болезненный. Не обращая внимания на выступившую кровь, санитар с помощью кисточки смазал мне спину лекарством и наклеил новый кусок марли. Затем он прошелся кистью по моему лицу, шее, рукам и пальцам и перешел к следующему человеку. Такое лечение при всей своей выносливости я с трудом мог выдержать. Здесь, в Сёбара, пострадавшие тоже умирали один за другим, и их трупы сразу же выносили наружу. Санитарам помогали женщины из Лиги защиты родины. Они убирали за пациентами, выносили судна, но делали все это молча, стараясь не раскрывать рта из-за наполнявшей все здание нестерпимой вони. К вечеру послышалось, будто кто-то зовет меня. Я приоткрыл глаза. Стоявшая рядом со мной женщина громко выкрикивала: — Есть здесь Иватакэ? Иватакэ, отзовись! Я узнал голос жены. Откликнуться у меня не было сил, и я, с трудом преодолевая боль, приподнял левую руку. Оказывается, жена уже давно меня разыскивала. Вначале она отправилась в Хиросиму и выяснила, что меня направили в Хэсака. В Хэсака ей сказали, что я в Сёбара, и вот наконец она меня нашла. Мое лицо так изменилось, что даже собственная жена не узнала». К дневнику Иватакэ было приложено несколько страничек, написанных его женой, вероятно, по просьбе человека, интересовавшегося чудесным исцелением Иватакэ. Сигэмацу прочитал и эти записи, надеясь, что они могут оказаться полезными. «— Иватакэ, Иватакэ! Отзовись! — закричала я, входя в переполненную ранеными комнату сёбарской школы. Никакого ответа. И вдруг я увидела приподнятую руку. Так я нашла своего мужа. Его лицо изменилось до неузнаваемости, правое ухо закрывала марля, приклеенная липким пластырем. Я обратилась к главному врачу, давнишнему знакомому мужа, с просьбой перевести его в другую комнату. Иватакэ перевели в комнату на двоих. Пятнадцатого августа, как раз в день окончания войны, у Иватакэ резко подскочила температура, он еле дышал, но, к счастью, со следующего дня жар начал постепенно спадать. Тяжелое состояние и плохое обслуживание вынудили меня перевезти мужа в отделение клиники моего старшего брата Хосокава в Футю. (К этому времени всем пострадавшим разрешили уехать в любое место.) За большие деньги я наняла грузовик. Мы сели в кабину рядом с шофером, который закрыл нос марлевой маской, чтобы не чувствовать смрада, исходившего от моего мужа. Наконец мы прибыли в Футю. Иватакэ держал себя молодцом, а я едва-едва передвигала ноги от усталости. Мужа немедленно положили в отделение клиники Хосокава, а наутро у него обнаружились явные признаки лучевой болезни. Останься он хотя бы еще на день в Сёбара — не было бы уже его на белом свете. Вспышка началась не потому, что муж отчаялся, потерял надежду на выздоровление, которая его поддерживала. Симптомы лучевой болезни проявлялись периодически, и последнее их проявление совпало с переездом в клинику Хосокава. Не удивительно, что лежавший в одной комнате с мужем в Сёбара господин Нагасима скончался в тот самый день, когда мы добрались до Футю, хотя его состояние было значительно лучше. В Футю мы пробыли всего два дня и две ночи, затем переехали в деревню Юда, где находилось центральное отделение клиники Хосокава. Потом мне рассказали, что двери палаты, где лежал Иватакэ, более десяти дней держали открытыми настежь, чтобы выветрилась вонь. В деревне Юда выращивают белые персики — знаменитый сорт «ниияма». Я дважды покупала по два пуда этих персиков и кормила ими Иватакэ. У него были повреждены корни зубов, губы распухли, весь рот воспалился, поэтому он мог есть только жидкую пищу. Я натирала на терке целую тарелку персиков, туда же разбивала два-три яйца, и этой кашицей кормила Иватакэ. И как же я радовалась, когда он съедал все до последней крошки, стараясь одержать верх над болезнью! Не прошло и месяца, как он съел все четыре пуда персиков. Двадцать второго августа мы приехали в деревню Юда, а двадцать третьего лучевая болезнь проявила себя в полную силу. Страшный день, когда казалось, что Иватакэ вот-вот перестанет дышать. Я горько рыдала, но он нашел в себе силы слабым, чуть слышным голосом продиктовать завещание. Я поняла, что он в полном сознании, и сказала ему: — Я в точности исполню твою волю, но уж позволь нам лечить тебя так, как мы сочтем нужным, чтобы потом мы не упрекали себя в том, что не сделали чего-то важного. Иватакэ согласился, но после того, как ему сделали переливание крови и ввели раствор Рингера, у него еще раз подскочила температура и ухудшилось состояние. Он просил прекратить лечение, но я настаивала: — Мы будем продолжать до тех пор, пока не убедимся в полной бесполезности лечения. Не знаю, помогли ли переливание и раствор Рингера, только состояние моего мужа стало медленно улучшаться. Но потом на левой ноге у него появился нарыв. Он был убежден, что инъекции тут ни при чем, видимо, началось заражение крови. Муж отказался от помощи хирурга и сам вскрыл себе нарыв в отсутствие Хосокава, уехавшего в отделение в Футю. Иссох мой муж до последней крайности. В кабинете Хосокава стоит скелет. Так вот, Иватакэ ничем от него не отличался... Никого из врачей, кроме Хосокава, он к себе не подпускал. И это нетрудно было понять: ведь все они в растерянности опустили руки, и только Хосокава упорно продолжал делать Иватакэ переливание крови и вводить раствор Рингера. Никакого недостатка в еде мы не испытывали. Стоило попросить у соседей немного печенки, как они приносили целую коровью печень — как будто мы могли столько съесть! Иватакэ питался главным образом персиками и сырыми яйцами. Эта еда была ему больше всего по вкусу. Я боялась, что с окончанием сезона персиков не станет, поэтому купила их про запас и опустила на дно глубокого колодца, где они хорошо сохранялись. Деревня Юда издавна славится своими белыми персиками, но в те времена никто не соглашался продавать их за деньги, и я меняла персики на одежду. К тому времени, когда Иватакэ выздоровел, два чемодана с моими пожитками опустели...» Итак, судя по записям Иватакэ и воспоминаниям его жены, пока еще не найдено было способа лечения лучевой болезни. Самому Иватакэ помогли переливание крови, большое количества витамина С, персики и сырые яйца. И еще ему помогло — боюсь, что это неподходящее слово, но не могу подыскать другого — ничегонеделание. Ведь труд требует достаточного количества белых кровяных шариков, а если их не хватает, сопротивляемость организма падает, наступает переутомление. И, конечно, важнейшую роль сыграло неистребимое желание преодолеть болезнь. Таков был вывод, к которому пришел Сигэмацу.Глава XIX
Прочитав записи Иватакэ, Сигэмацу решил, что самое главное сейчас — вселить в Ясуко надежду на выздоровление. Она должна обрести уверенность в том, что выживет. Девушка с каждым днем становилась все слабее, но никто не знал, как ее вылечить, поэтому оставался лишь один путь: хорошенько кормить ее и поддерживать в ней волю к выздоровлению. Перед тем как лечь в клинику Куисики, Ясуко побывала у двоих врачей из Кобатакэ, но назначенные ими лекарства, даже не распечатав, выбросила в сточную канаву. Это подтвердила Сакамото, с которой Сигэко встретилась в бакалейной лавке. Заметив, что Ясуко выбросила лекарства, Сакамото подобрала их, прочитала фамилию и дату и убедилась, что девушка так и не распечатала обертку. Все это лишний раз свидетельствовало о том, как расстроена была Ясуко! «Иватакэ находился в гораздо более тяжелом состоянии, но он не потерял воли к жизни, стремления перебороть болезнь», — думал Сигэмацу. Вот с кого надо брать пример Ясуко... «За время болезни, — вспоминает Иватакэ, — от меня осталось нечто вроде металлического каркаса. Этот каркас послужил основой нового дома. На скелет снова наросла плоть, и я, можно сказать, родился заново. Сейчас у меня не хватает мочки на одном ухе, если я выпью сакэ — кисти рук и щеки краснеют. Только это да еще постоянный звон в ушах и напоминает мне о пережитом. Этот звон, похожий на отголосок колоколов дальнего храма, зовет к борьбе за запрещение атомной бомбы». Захватив с собой дневник Иватакэ, Сигэко отправилась в клинику Куисики проведать племянницу. — Может быть, эти записи окажутся полезными для главного врача, который лечит Ясуко, — сказала она. Когда в душе тоска, лучше всего отвлечься каким-нибудь делом. После ухода жены Сигэмацу запер дом и отправился к Сёкити. Сёкити и Асадзиро были на берегу. Склонясь над большой ступой, долговязый Асадзиро толок капусту. Хромой Сёкити вылавливал сачком из садка мальков и, отобрав подходящих, выпускал в соседний пруд. — Жарковато сегодня! — приветствовал их Сигэмацу. — Да, жарковато, — в один голос отозвались друзья. В деревне Кобатакэ люди, встречаясь, приветствуют друг друга на свой лад. Летом, в погожий солнечный день, они говорят: «Жарковато», по вечерам — «Устали небось», а в дождливые дни: «Славный дождик!» Сигэмацу принялся помогать Асадзиро. Покончив с капустой, друзья начали толочь печень, потом подсыпали в ступу толченых куколок шелкопряда и пшеничную муку, перемешали все, сделали маленькие колобки и бросили в садок. — Как будто готовим наживку, — сказал Сигэмацу. — Теперь, я слышал, в наживку добавляют соленые рыбьи потроха. Может быть, и нам попробовать? — Не стоит, — отрезал Асадзиро. — Мальки могут чересчур оживиться, а это ни к чему. Надо постепенно, исподволь подготавливать нерест. Сёкити и Асадзиро рассчитывали еще этой осенью довести вес мальков до сорока — восьмидесяти граммов, с тем чтобы к будущем году взрослые карпы тянули бы на килограмм, а то и больше. Таких уже вполне можно есть! Кроме того, они собирались запустить карпов в большой пруд Агияма, тогда можно было бы с полным правом, не обращая внимания на брань женщины из дома Икэмото, удить там рыбу: ведь карпы-то принадлежат им. По дороге домой Сигэмацу вспомнил, что до шестого августа, когда поминают погибших от атомной бомбы в Хиросиме, остается всего три дня, а девятого августа — поминовение погибших в Нагасаки. — Как же это я забыл? — бормотал Сигэмацу. — Всего три дня, а я еще не переписал до конца свой дневник. Поужинав в одиночестве, Сигэмацу приступил к переписке, но тут появилась Сигэко: она приехала из больницы последним автобусом. — Почему так поздно? — спросил Сигэмацу. — Ты не забыла прихватить с собой записки Иватакэ? Сигэко выложила на стол пакет. — Главный врач читал их при мне, — сказала она, вытирая пот полотенцем. — Было очень любопытно глядеть на его лицо, пока он читал. — Начни с самого важного. Он говорил что-нибудь о способе лечения? — Читая записи Иватакэ, он дважды повторил, что они для него очень поучительны. А когда дочитал до конца, рассказал мне, что и он сам попал в тотальную мобилизацию и вместе с Иватакэ был зачислен во Второй Хиросимский отряд. — Как же он остался жив? — Оказывается, его в тот же день после медицинской комиссии освободили. У него был кариес ребер, и он носил бандаж... Сигэко подробно рассказала о состоянии здоровья племянницы. Через два часа после ужина главный врач сделал Ясуко переливание крови, ввел раствор Рингера, и она крепко уснула. Время было позднее, и Сигэмацу отложил переписку дневника на следующий день.«13 августа... Погода с утра ясная. Во второй половине дня — небольшая облачность.
Я проснулся в шестом часу. И сразу же стал думать, как бы раздобыть уголь. Фабричная столовая еще не работала, и повар подал оставшуюся с вечера холодную ячменную кашу с отрубями. Я добавил в нее кипятка и поел. Повар предложил мне еще несколько сухарей, которые отыскал на дне пустого ящика на складе. Я торопился, хотя хорошо сознавал тщетность спешки — ведь угля-то мне все равно не дадут. Но делать было нечего, и я поехал на электричке в Хиросиму, решив все обдумать по дороге. На речных отмелях и у самого подножия гор пылали многочисленные костры, на которых сжигали тела погибших. Утро стояло безветренное, и дымки поднимались прямо в небо. Однако по мере того как поезд приближался к Хиросиме, дымков становилось все меньше. Я догадался, что большинство пострадавших, которые из центра города бежали в его окрестности, погибли; их уже кремировали, а те из них, кому удалось добраться до ближайших деревень, умирают со вчерашнего вечера: их тела-то сейчас и кремируют... Дорога среди развалин была усыпана мелкими осколками стекла, и солнечные лучи, играя в них, вызывали сильную резь в глазах. По сравнению со вчерашним днем смрад немного выветрился, но все еще был силен среди развалин домов и среди груд черепицы, над которыми вились полчища мух. Спасательные отряды, занимавшиеся разборкой руин, получили пополнение: на глаза то и дело попадались спасатели в стиранных, еще не грязных от пота спецовках. Бесцельно блуждая по улицам, я неожиданно наткнулся на остатки здания, где помещалась компания по распределению угля. Из земли высовывались семнадцать — восемнадцать дощечек. На всех были написаны углем просьбы сообщить о новом местонахождении компании. Я вновь убедился в бессмысленности свой поездки. И все же надо что-то предпринять! Тут я вспомнил, что в местечке Ода, как раз на полпути между станциями Ягути и Хэсака, видел огромную кучу угля. Нынешней весной и летом я неоднократно проезжал мимо и всякий раз замечал этот уголь, лежавший под открытым небом. У нас на фабрике оставался десятидневный запас льноволокна, использовавшегося как исходное сырье для изготовления ткани, этого хватило бы почти до конца месяца. Запас же угля истощился. Однако разыскивать президента компании по распределению угля сейчас уже не имело смысла. Надо было принимать срочные меры, и я решил поговорить с владельцем угля в Ода. На станции Хэсака в ожидании поезда стояла большая толпа раненых. Выйдя из вагона, я обогнул здание вокзала и зашагал вдоль железнодорожных путей. Когда я добрался до Ода, оказалось, что угля уже нет. Место, где находилась угольная куча, было тщательно подметено. Я зашел в ближайший дом. Старик крестьянин рассказал мне, что уголь вывезли за одну ночь, сразу же после бомбардировки. На мой вопрос, кому принадлежал этот уголь, старик ответил, что, по слухам, он принадлежал армии, но так ли это на самом деле, неизвестно. Может быть, слухи распустили нарочно: знали, что никто тогда не притронется к углю. «Наверное, какой-нибудь ловкач купил уголь на черном рынке и решил сохранить его таким способом», — подумал я и даже высказал свою мысль вслух. Старик подозрительно покосился на меня. — Не может быть, ведь это товар первостепенной важности, — возразил он. Не сказав ни слова, я вновь двинулся в путь. Шел я очень быстро, не убавляя шага, пока не достиг Фуруити. Я спустился к реке, намереваясь пересечь ее по мелководью, как вдруг увидел под скалой умирающего человека. Человек лежал на спине. Зрачки у него закатились, видны были одни только белки, челюсть отвалилась. Под короткими штанами его живот то слегка вздувался, то опадал. Тень скалы прикрывала голову от палящего солнца. С другой стороны скалы лежали два мертвеца — все в ожогах. Я старался ступать чуть слышно, но мои ботинки сильно стучали по камням. С тех пор как взорвалась эта адская бомба, я видел несчетное количество мертвых тел, и все-таки каждый раз, натыкаясь на мертвеца, испытывал непреодолимый страх. Вечернее солнце, отражаясь от водной глади, неприятно слепило глаза. Камни, устилавшие высохшее русло, сменились песком, затем дно стало постепенно понижаться. Перед тем как войти в воду, я снял с себя обмотки, ботинки и штаны и, чтобы удобнее было нести, завернул их в рубаху. Раздеваясь, я шептал «Заупокойную проповедь»: — «Рано или поздно, ныне или завтра, я или мои ближние покинут сей мир. Одни уже умирают, но многим еще предстоит умереть. На румяные утром щеки упала тень смерти, и к вечеру они уже прах. Дунет ветер смерти — и закроются навечно лишь недавно взиравшие на мир глаза...» Даже в самом глубоком месте вода не поднималась намного выше колен, но несколько раз, наступая на лежавшие на дне скользкие камни, я падал в воду. На правом берегу располагалось множество кремационных площадок. Насколько хватал взгляд, над рекой вились бесчисленные дымки. Я быстро пересек песчаную отмель, вскарабкался на дамбу и оказался в густой, пахучей траве около рисового поля. Трусы промокли, поэтому я, не одеваясь, пересек дорогу на Фуруити и наконец добрался до нашего дома. Было еще светло, но никто не обращал внимания на мой вид. В те дни многие уходили из города полуодетые, а случалось, и в чем мать родила. — Сигэко, — крикнул я, войдя в дверь. — Я вернулся. Перешел вброд через реку. Вот уж не думал, что течение такое сильное. Подай чего-нибудь поесть. Я умираю с голода. — Я так и не сказал Сигэко, что взятые в столовой сухари забыл на пепелище, не хотел ее расстраивать. Когда я голоден, голос у меня хриплый, но зато громкий. Умываясь из ручья позади дома, я рассказал Сигэко о своих бесплодных хождениях. Сигэко принесла смену белья и халат. — К тебе пожаловал директор фабрики, — сообщила она торжественно. «Пришел узнать, как дела! — мелькнуло у меня в голове. — Пусть ругает, ничего не поделаешь», — вздохнул я, быстро накинул халат и вошел в дом. Директор Фудзита сидел на циновке в японском кимоно. Это меня удивило, ведь он всегда носит европейский костюм. Рядом с ним лежала картонная коробка. — Добро пожаловать! — сказал я. — После ужина собирался к вам с докладом. К сожалению, я опять потерпел неудачу... — Послушайте, Сидзума. Сегодня утром ко мне заходила ваша супруга, — заговорил директор, словно ничего не слышал. — Она сказала, что собирается вместе с племянницей уехать в деревню. Дом ваш сгорел, и у меня нет никаких оснований их задерживать. Я только хочу устроить прощальный ужин... Здесь, — добавил он, показывая на коробку, — ваш и мой паек. Еда, конечно, скромная, но что поделаешь?.. Я сразу понял, что у него на уме. Мы с Ясуко обычно ели в фабричной столовой. Приводить с собой Сигэко было неудобно. Но что нам оставалось делать? В то время человеку неработающему достать продукты было невозможно. Как долго еще продлится война, мы не знали. Поговаривали, будто нам предстоит борьба на своей территории; борьба не на жизнь, а на смерть. По зрелом размышлении Сигэко решила уехать вместе с Ясуко в деревню. Она сказала, что собирается поговорить по этому поводу с директором. И я, конечно, согласился. Поэтому мне было ясно: коробка со съестными припасами и торжественно строгое кимоно директора означают, что он пришел поблагодарить Ясуко за безупречную службу. Я пригласил директора в гостиную и произнес соответствующие случаю слова благодарности. Сигэко и Ясуко, в свою очередь, с поклоном поблагодарили его. Сигэко открыла коробку. Кроме еды, она вытащила оттуда пол-литровую бутылку — видимо, с сётю[117], банку говяжьих консервов и два слегка помятых помидора — подарки от самого директора. Давно не видел я такого богатства! У меня сразу же разгорелся аппетит. — Не знаю, как и благодарить вас, — растроганно проговорила Сигэко. Она обращалась к директору на токийском диалекте. — Спасибо, — подхватила и Ясуко. Я впервые видел директора в официальном кимоно. Когда он сел, на его коленях стали видны две белые заплаты. Я глядел на эти заплаты, не в силах отделаться от чувства вины: нелегко, вероятно, было директору добыть бутылку самогона. Но Фудзита знал, что я такой же охотник выпить, как и он сам. — А что у вас в бутылке, господин директор? — не выдержал я. — Спирт, разумеется. Его приготовляют из горькой микстуры, а потом добавляют целебный сироп. Такой сироп, объяснил директор, продается в аптеках, и его прописывают больным для того, чтобы им легче было принимать неприятные на вкус лекарства: на две трети сахара добавляют треть дистиллированной воды — и сироп готов. А горькая микстура представляет собой смесь измельченного корня горечавки и апельсиновых корок, настоянных на медицинском спирте и профильтрованных под давлением. В последнее время сироп и микстуру перестали отпускать в городских аптеках, но в сельской местности за хорошую цену их еще можно приобрести у аптекаря. В прошлое воскресенье директор ездил к себе в деревню, и там знакомый аптекарь перегнал для него микстуру в чистый спирт и продал ему сироп, которым можно заменить сахар. — Вам, наверное, стоило немалого труда достать и приготовить этот спирт, — сказала Сигэко. — А спирт, по-видимому, очень крепкий. Схожу-ка я на кухню, принесу воды. — Микстуру можно пить и неочищенной, — сказал директор, усаживаясь поудобней. — Надо только привыкнуть к горечи. Но если не обращать на нее внимания, даже трети бутылки с разбавленной водой микстурой достаточно, чтобы поднять настроение. В новый год я выпил две трети бутылки неочищенной и чувствовал себя прекрасно. Правда, на следующий день меня здорово пронесло. Непонятно почему — ведь лекарство это от желудочных заболеваний. Тем временем Ясуко выкладывала из коробки на стол съестные припасы, принесенные директором из столовой. Здесь были пять тэмпура[118] из листьев тутовника, бобовая паста, соль, два куска огурца, горшок ячменной каши с отрубями. Тэмпура из листьев тутовника — изобретение нашего повара. Листья он брал с находившейся по соседству с фабрикой тутовой плантации. Из-за войны крестьяне перестали разводить тутовый шелкопряд. Они обрезали ветви тутовника, чтобы не заслоняли солнечный свет, и между деревьями посадили овощи. Теперь там, где ветви были срезаны, появились молодые побеги и листья, которые повар использовал для изготовления тэмпура. Ясуко унесла помидоры на кухню, аккуратно разрезала каждый пополам и разложила половинки на четыре тарелки. Сигэко открыла банку с говядиной и разделила консервы поровну на четверых. Наконец все четверо уселись за стол. По совету директора Ясуко разбавила спирт на две трети водой и разлила по чашкам. Делала она это очень тщательно, словно обращалась с большой ценностью. Директор помешал деревянными палочками для еды содержимое своей чашки. Я последовал его примеру. — Погодите, я ложечки принесу, — сказала Сигэко, поднимаясь из-за стола. — Спасибо, хозяюшка, не надо. Вино в чашке я размешиваю только деревянными палочками. Спирт надо разбавлять на две трети водой. К сожалению, идеалы и действительность легко вступают в противоречие, — шутливо добавил директор, подливая себе неразбавленный спирт. — Господин директор, выпьем прежде всего за ваше здоровье. До дна! — Чокнулись! Напиток показался чуть-чуть горьковатым, но спирт был чистым и сиропа добавлено как раз в меру. Сигэко и Ясуко спирт не пили, и директор посоветовал им приступить к еде, не дожидаясь мужчин. Разбавленный в такой пропорции спирт отличался большой крепостью, но вместо того чтобы добавить побольше воды, я решил пить его медленно, маленькими глотками. Тэмпура из листьев тутовника я ел впервые, но сразу понял, что это прекрасная закуска, если хорошо посолить. Во время войны не раз приходилось нам есть и тэмпура из листьев хризантемы, и тэмпура из молодых листьев хурмы. В общем директор решил устроить для нашей семьи на прощанье приятный интимный ужин, но наш невеселый разговор все время возвращался к страшной трагедии, постигшей жителей Хиросимы. Оказывается, директор сегодня сам ездил к развалинам здания, где помещалась компания по распределению угля, потом посетил армейский вещевой склад, но ничего не добился. Заходил он также в госпиталь, где работал знакомый врач Кояма. Узнав, что Кояма по горло занят лечением пострадавших, директор решил его не беспокоить, вышел из больницы, остановился у входа и закурил. Невольно подслушав беседу двух медицинских сестер, он неожиданно узнал, как называется бомба, сброшенная на Хиросиму. — Это атомная бомба, — сказал директор, — она излучает колоссальное количество тепла. Я убедился в этом, когда бродил среди развалин: валявшаяся на земле черепица вспузырилась, а ее цвет стал таким же красным, как пламя. Да, страшная это бомба. Говорят, что в Хиросиме и Нагасаки семьдесят пять лет не будет расти трава. Так я узнал, что эта бомба атомная. Как ее только ни называли: «новое оружие», «бомба нового типа», «секретное оружие», «особая бомба нового типа», «особая бомба мощного действия». А, оказывается, она — атомная. «Семьдесят пять лет не будет расти трава...» Что-то не верится. Наоборот, я видел, что трава среди развалин растет с необычайной быстротой. — Верно, — ответил директор, когда я сказал ему об этом. — Я тоже видел. Щавель поднимается так высоко, что под собственной тяжестью стебли склоняются к земле. Мне вспомнился очерк писателя Хакутё Масамунэ. Он был опубликован в газете «Ёмиури симбун» —как раз тогда, когда заключили Тройственный пакт. В очерке говорилось, что, когда видишь в документальном фильме Гитлера, выступающего с речью, кажется, будто рычит взбесившийся тигр. В то время редко можно было встретить в Японии людей, которые плохо отзывались бы о Гитлере. Помнится, губернатор одной префектуры после приезда в Токио делегации гитлеровской молодежи организовал у себя молодежные отряды, точь-в-точь такие же, как «Гитлерюгенд». Очерк Масамунэ сильно меня взволновал. Выступление его против господствовавших в то время настроений запало в душу. Потом я поступил на военный завод и думал уже только о том, чтобы увеличить выпуск продукции. Мало-помалу во мне стала крепнуть уверенность, что Гитлер ради нашего спасения выиграет войну. Но с тех пор, как, на Хиросиму сбросили бомбу, я понял, что моя уверенность ни на чем не основана, и у меня появились сильные сомнения. Однако я делал вид, будто по-прежнему предан нашей официальной политике, и даже самолично переписал и приклеил у входа в контору текст обращения губернатора Хиросимской префектуры Коно к населению, опубликованный седьмого августа. В обращении говорилось:
«Страшное бедствие, которое мы сейчас переживаем, плод злостных замыслов врага, рассчитывающего зверскими воздушными налетами сломить боевой дух нашего народа. Жители префектуры Хиросимы! Мы понесли тяжелый урон, но война есть война! Мы не испытываем ни страха, ни колебаний. Уже приняты необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим, полным ходом идут восстановительные работы. Неоценимую помощь оказывает наша доблестная армия. Незамедлительно возвращайтесь на свои рабочие места. Война не терпит ни минуты отдыха и промедления».Я повесил над входом в контору это обращение девятого августа рано утром, а в десять часов пятьдесят с чем-то минут на Нагасаки была сброшена такая же бомба. Я узнал об этом из специального сообщения. Возвращаясь в контору, я обратил внимание на то, что в обращении губернатора кто-то обвел кружком слово «неоценимую». На следующий день обращения уже не было, а на его месте красовалась надпись, выведенная большими буквами: «На пустое брюхо не больно-то повоюешь!» (Надпись эта, по-видимому, попалась на глаза директору, но он ничего по этому поводу не сказал. Я тоже решил ее не стирать. Так она и оставалась до пятнадцатого августа, когда вышел императорский рескрипт об окончании войны. Потом кто-то ее стер: остались лишь размазанные следы от тряпки. Думаю, что и кружок, которым обвели слово «неоценимую», и надпись, и то, как она исчезла, показывают настроение рабочих во время войны. — Запись, сделанная позднее.) Я выпил три чашки разбавленного водой спирта, закусывая тэмпура. Я уже давно не выпивал и сильно опьянел, но на душе было все так же невесело. Директор выпил шесть чашек. Чем больше он пил, тем сильнее бледнел. И только... Доев ячменную кашу, директор стал прощаться. Уже в дверях он вдруг разоткровенничался и сказал, что завтра на черном рынке продаст свой мундир. Потом, уже совершенно пьяный, плюхнулся на ступеньку и заявил, что его форма как две капли воды похожа на ту, которую вот уже много лет носят последователи одной новой религиозной секты. Неожиданная ассоциация. Такие иногда приходят в голову, когда сильно переберешь! А потом директор рассказал, как много лет тому назад он видел овсянку. Она свила себе гнездо на дереве, которое росло во дворе, где помещалась молельня этой секты. — Эй, Сидзума, — громко позвал директор, закатывая рукава кимоно. — А ты знаешь, как поет овсянка: «На-пи-ши мне па-ру слов», «На-пи-ши мне па-ру слов». Вот как! Послушай, госпожа племянница Сидзума! Как вернешься в добром здравии в родную деревню, чер-кни мне па-ру слов. — Непременно напишу, — ответила Ясуко. — Только, господин директор, в нашей деревне овсянки поют по-другому: «При-не-си мне чар-ку, па-рень, вы-пьем ук-су-су с то-бой». — Длинновато что-то. А покороче нельзя? — Можно, — ответил я. — У нас в деревне, когда я был маленьким, овсянки пели так: «Ти-ти-ти, со-счи-тай до два-дца-ти». — Вот это лучше, — пробормотал директор и, слегка пошатываясь, отправился восвояси. В детстве мне всегда слышалось, что овсянки поют: «Ти-ти-ти, со-счи-тай до два-дца-ти». А детишки, подражая голосу овсянки, напевали: «Мор-ковь и ло-пух — для сви-ней и мух, на жа-ров-не бо-бы — как боль-шие гор-бы». До сих пор не могу понять смысла этой песенки».
Глава XX
«14 августа. С утра облачно. Потом ясно.Оставив благодарственное письмо для хозяина дома, Сигэко и Ясуко в пять часов утра уехали к себе на родину, в деревню Кобатакэ. Я дал им с собой жареного рису, немного соли и бутылку воды — ничего другого у нас не было. Согласно распоряжению властей, им следовало иметь при себе справки, которые выдавали хиросимцам, лишившимся жилья во время бомбардировки. Но жена и Ясуко сели на поезд, который шел через Кабэ и Сиомати, минуя Хиросиму. Поэтому справки им не понадобились. Да и вообще отъезжающим из Хиросимы не чинили никаких препятствий, они могли свободно отправляться на все четыре стороны. Проводив жену и племянницу, я снова лег спать. Мне приснился одноногий человек в длинном кимоно. Он скакал вокруг меня, размахивая большим черпаком. Проснулся я весь в поту. Решив переодеться, я вдруг обнаружил на себе красный пояс и купальный халат жены. Накануне вечером, когда директор ушел, я начал убирать со стола посуду. Жена и Ясуко отправились к ручью позади дома, чтобы простирнуть мои сорочки и спальное кимоно. Вероятно, поэтому, укладываясь в постель, я натянул на себя первое, что попалось под руку. В бутылке еще оставался спирт. Не промочить ли глотку? После недолгих колебаний я вытащил пробку. Приложил горлышко к носу, понюхал, снова закрыл бутылку и отправился на кухню за чашкой. Как раз в этот момент заревела сирена, предупреждая о приближении вражеских самолетов. Несколькими днями раньше командование западной армии опубликовало приказ, предписывавший снабдить перекрытиями все противовоздушные щели и во время воздушной тревоги находиться в укрытии. «Сброшенная на Хиросиму бомба, — говорилось в этом приказе, — образует мощную взрывную волну и излучает колоссальную тепловую энергию». Прятаться надлежало даже при появлении одиночных вражеских самолетов. К несчастью, противовоздушная щель в нашем дворе представляла собой обыкновенную яму, к тому же еще и неглубокую. Я вышел из дома, огляделся вокруг, но ни над Хиросимой, ни над силуэтами гор близ Кабэ не заметил ни одного вражеского самолета. Я запер дверь и собирался уже пойти в контору, когда объявили воздушную тревогу, и сразу же, вслед за тем, послышалось несколько взрывов. Земля тяжело содрогнулась. — Бомбят Ивакуни, — закричал мужчина, высунувшись из окна стоявшего у дороги дома. Миновав общежитие, я вошел в контору, где еще никого не было. Не успел я раскрошить окурок сигареты, собираясь набить небольшую плоскую трубочку, как в контору вбежало несколько запыхавшихся работниц. — Доброе утро, господин Сидзума, — проговорила одна. — Что-нибудь случилось? — По-моему, ничего особенного. Почему вы меня спрашиваете? — Нас вызвал комендант общежития. «Отчего это, — говорит он, — Сидзума отправился на работу так рано? Должно быть, случилось что-то важное. Пойдите разузнайте и сразу же сообщите мне». Чуть погодя подоспели еще несколько рабочих. У всех были встревоженные лица. Едва поздоровавшись, они наперебой заговорили: — Случилось что-нибудь серьезное? — Бомбы в этот раз были обыкновенные. Говорят, бомбили Ивакуни. Я чувствовал себя неловко. — Да ничего не случилось. Откуда вы взяли? Сегодня мне нужно поехать на станцию Каи, выяснить насчет угля. Вот я и пришел за сухим пайком, — выпалил я первое, что пришло в голову. И тут же подумал: а не съездить ли мне в самом деле в Каи? И все же они были правы. В этот день я действительно пришел слишком рано. Такого со мной еще никогда не бывало. Обычно я появляюсь после двенадцати. Понятно, что рабочие забеспокоились. Нервы-то у них напряжены до предела. С тех пор как Хиросима подверглась бомбардировке, они, как и я, со страхом ожидают высадки в Японии, когда начнется решительная битва. Не имея собственной воли, духовно порабощенные государством, мы подавляли в себе не только недовольство, но и любое проявление страха. На завтрак мы ели ячменную кашу с отрубями и суп из бобовой пасты с мелко нарубленной петрушкой. После завтрака я отправился на станцию Каи. Как и накануне утром, по мере приближения к Хиросиме дымков становилось все меньше и меньше. От Ямамото до Ёкогава надо было идти пешком, оттуда до станции Каи оставался всего один перегон. В Каи я обошел все пути, но не обнаружив нигде груженных углем вагонов, направился к станционному зданию. На шпалах передо мной плясала моя короткая тень. Случайно оглянувшись, я увидел белую радугу, пересекавшую окруженное тонкими облакамисолнце. Странная это была радуга. В детстве мне однажды довелось видеть серебристую радугу, перекинувшуюся с дальних гор к нашей деревне. Но то было поздней ночью, а не днем. Начальник станции проводил со своими служащими срочное совещание. Я решил посидеть в зале ожидания. Стены там были почти сплошь залеплены объявлениями о розыске пропавших. Сотрудник военной полиции внимательно изучал их — одно за другим. Что-то в нем действовало мне на нервы. На скамейках сидели беженцы. У самого выхода лежали двое совершенно голых детей. Рядом дремали старик и старуха. Старик изредка приоткрывал глаза и глядел на ребятишек. Должно быть, это были его внуки. «Туго им приходится, беднягам», — подумал я с сочувствием. Немного погодя совещание закончилось. За все это время прошел лишь один переполненный пассажирами состав. В нем не было ни единого вагона с углем. Войдя в кабинет начальника, я изложил просьбу директора фабрики. Начальник сказал, что с шестого августа на станцию не поступило ни одного вагона с углем и неизвестно, поступит ли. Все имеющиеся в наличии вагоны, в том числе и товарные, используются для перевозки беженцев. Я рассказал начальнику станции о безвыходном положении, в котором находится фабрика, и попросил его и служащих попытаться все же выяснить, когда можно ожидать очередное поступление угля. В кабинет, громко стуча башмаками, вошел все тот же полицейский, молча прочитал расклеенные даже и здесь объявления и, по-прежнему не говоря ни слова, вышел. По-видимому, ему поручено было следить за настроениями простого народа. — Этот полицейский — вполне сносный парень. Нам с ним повезло, — сказал помощник начальника станции. Сам начальник промолчал. Полицейский и в самом деле выглядел менее заносчиво, чем обычно выглядят ему подобные. С тех пор как сбросили на Хиросиму эту адскую бомбу, военные — в неуверенности, не знают, как им себя вести: по-старому либо немного скромнее. Начальник обещал принять мою просьбу во внимание, а я сказал, что, с его разрешения, загляну через денек-другой. Вернувшись, я первым делом отправился в столовую. Директор пил ячменный чай вместе со служащими. Все сидели необычно задумчивые, подавленные. В присутствии других я не стал благодарить директора за ужин, лишь кратко доложил ему о своем разговоре с начальником станции Каи. — Спасибо за старания, — выслушав меня, мрачно откликнулся директор. — Не можешь ли ты нам сказать, Сидзума, какова реакция хиросимцев? — Я сегодня не заезжал в Хиросиму. Простите, господин директор, я плохо понял: что вы имеете в виду? — Разве ты не знаешь? По радио объявили, что завтра будет передаваться важное сообщение. Вот мы и гадаем: о чем оно? Я почувствовал, что у меня немеет кончик языка. Что это за важное сообщение? Скорее всего о мирном договоре, капитуляции или перемирии. О битве до конца упоминалось уже столько раз, что нет никакого смысла посвящать ей новое сообщение. Люди сидели молча. Но вот кто-то нарушил молчание, и все сразу заговорили. Многих удивляло, что пролетевшая в тот день эскадрилья вражеских самолетов не сбросила ни одной бомбы и по ним не стреляли. Да и накануне не стреляли, что-то изменилось за последние два дня. Непонятно только, почему тогда бомбардировали Ивакуни. Правительство, видимо, уже договорилось с противником и завтра, в полдень, сделает официальное сообщение. Судя по всему, речь пойдет не о мирном договоре или перемирии. Слишком уж нагло летают вражеские самолеты, словно не над чужой страной, а у себя дома. Значит, будет провозглашена капитуляция. В этом случае войска противника высадятся в Японии, займут все порты и потребуют разоружения и демобилизации японской армии. Так же поступали и мы, когда оккупировали другие страны. А может быть, правительство намерено объявить войну Советскому Союзу? Тогда все страны мира ополчатся против нас. Что станется с японскими солдатами, находящимися вдали от родины? Какая судьба ожидает нас всех, весь народ? До того дня мы считали, что хуже, чем есть, уже не будет, но если всей нации грозит истребление, мы готовы исполнить свой долг. (Никто из нас, увы, не мог сказать, в чем этот долг заключается.) Сила на стороне врага, и как он поступит — неизвестно. Не исключено, что противник велит оскопить всех мужчин. Почему мы не капитулировали до того, как на нас сбросили дьявольскую бомбу? Но ведь мы только из-за нее и капитулируем. Однако врагу и так ясно, что мы уже проиграли войну. Зачем же нужна была бомба? Так или иначе, тем, кто развязал эту войну, придется... Как только разговор коснулся запрещенной темы, все вдруг замолкли, не решаясь высказывать дальнейшие предположения и догадки. Я доложил директору, как обстоит дело. — Ну, что же, — сказал он, — тогда подготовьте к завтрашнему дню соответствующие документы для вручения начальнику станции Каи. Время сейчас тревожное, ожидается правительственное сообщение. Лучше на всякий случай застраховаться от неприятностей. Если начнется какая-нибудь ревизия, у нас все в порядке. Однажды мы уже обожглись. Больше рисковать не будем. Действуйте, как я сказал, Сидзума. Это мой приказ. Директор говорил нарочито громко, так, чтобы слышали все, кто сидел рядом. Весной этого года вагон с нашим углем по ошибке заслали на другую фабрику. И нас же обвинили в том, что мы сбыли этот уголь «налево». Потом недоразумение разъяснилось, но было время, когда компания по распределению угля упорно пыталась сделать из нас козлов отпущения. Я рассказал директору и всем остальным, что видел белую радугу. — Вот как! — Директор в возбуждении стукнул кулаком по столу. — Значит, и ты видел. Мне довелось увидеть белую радугу как раз в канун событий двадцать шестого февраля...[119] Я жил тогда в Токио. Директор рассказал, как двадцать пятого февраля, около одиннадцати часов утра, он прогуливался близ императорского дворца. — В тот день море сильно бушевало, и тысячи чаек слетелись ко рву с водой, опоясывавшему дворец. Там же собралось и множество диких уток. Зрелище было невиданное, но еще удивительнее была белая радуга, которая пересекала солнце. «Плохое предзнаменование», — подумал я. И правда, на следующий день начались события двадцать шестого февраля. Помню еще, как я рассказал о радуге своему начальнику, а он взволновался и говорит: «Белая радуга пересекла солнце». Это знамение свыше. Не миновать военного бунта». Начальник объяснил, что читал об этом в одном из жизнеописаний, содержащихся в китайской «Книге истории». — Я решил было, что это глупый предрассудок, — сказал директор. — Но на следующий день вспыхнул бунт двадцать шестого февраля. — Радуга, которую я видел, была узкая. Она, словно стрела, пронзала солнце, — сказал я. — И та, что я видел, тоже была узкая, ярко-белого цвета, с плавным изгибом, — заключил директор. — Вообще-то я не считаю себя суеверным, но белая радуга — плохой знак. Уж это точно. Весь день я провел на ногах и очень устал. Поэтому я отложил составление документов на следующий день и решил поужинать в столовой вместе с директором и остальными служащими. — У нас еще кое-что осталось в бутылочке, — шепнул я директору. — Вот и прекрасно, — обрадовался он. — Послушаем сообщение, а там и подумаем, когда допить. Может быть, завтра вечером?
15 августа. Погода ясная
Всю ночь я проспал как убитый, но проснулся очень рано и никак не мог дождаться времени завтрака. Чтобы как-нибудь обмануть голод, я напился воды, присел на ступеньки и закурил. Подошел старик — отец хозяина дома. — Не знаете, о чем будет правительственное сообщение? — спросил он, вручая мне газетный сверток. Старик сказал, что в свертке бразильский кофе в зернах. Больше двадцати лет назад его племянник уехал в Бразилию на заработки и прислал оттуда кофе. Как его варить — неизвестно, поэтому пакет с кофе уже пять-шесть лет лежит на полке. Я тоже впервые видел кофе в зернах и не имел ни малейшего представления, что с ним делать. Тем не менее, напустив на себя глубокомысленный вид, я сказал: — Наверно, это сорт мокко или арабика. В последнее время в Бразилии выращивают главным образом гибрид мокко и арабика. На самом же деле я был полный профан в этом деле и лишь повторил то, что слышал однажды от директора. Старик зашел ко мне не потому, что считал, будто я в курсе последних событий. Он беспокоился в ожидании правительственного сообщения, и ему, естественно, хотелось излить свое беспокойство. Однако на его вопросы я отвечал уклончиво. Между прочим, он рассказал мне, что в протекающей через Хиросиму реке Тэмма до сих пор дохнут рыбы. Они всплывают брюхом кверху, и стоит их схватить, как с них слезает чешуя, а спинной плавник остается у вас в руках. Большинство карпов в озере Асано подохли еще во время бомбардировки Хиросимы. У оставшихся облезла чешуя, и они плавают как-то неуверенно, словно слепые. Проводив старика, я зашел в столовую, позавтракал, а потом принялся за составление документов, которые следовало по приказу директора направить начальнику станции Каи. Мне пришлось основательно потрудиться. Я подробно описал, сколько мы производим продукции, какова наша потребность в угле, затем упомянул о посещении хиросимской армейской базы и об исчезновении компании по распределению угля. Сложность моей задачи усугублялась тем, что я не мог обвинять в безответственности офицера из отдела распределения угля на армейской базе, с другой стороны, говорить, будто он помог, не имело никакого смысла. «Зачем же вы тогда к нам обращаетесь?» — возразил бы начальник станции. Надо было все время обходить острые углы и вставлять обтекаемые фразы вроде «при нынешнем чрезвычайном положении» или «сейчас, когда нехватка угля грозит тягчайшими последствиями нашим воинам». В тех условиях, в которых мы находились, иначе писать было просто бесполезно. Я уже закончил составление документов и перечитывал их, когда все машины на фабрике внезапно прекратили работу. Было без пяти двенадцать, вот-вот начнут передачу важного сообщения. Убрав документы в ящик, я вышел в коридор. Сбежал вниз по лестнице и неожиданно для самого себя повернул к запасному выходу, который вел во внутренний двор. Репродуктор установлен в столовой. Через несколько минут он возвестит о каком-то чрезвычайно важном и, возможно, страшном событии. Обычно страшное притягивает. Но на этот раз оно меня отталкивало. Стоя во дворе, я слышал дробный стук ботинок в коридоре: все спешили в столовую. Когда я заглянул в окно канцелярии, оказалось, что там ни души. Может быть, все-таки пойти в столовую? Нет, не пойду! Я зашел через черный ход на кухню. На плите стоял большой чайник. Пар приподнимал крышку, и вода лилась на плиту. Из этого чайника обычно берут кипяток те, кто приносит с собой завтрак. Но сейчас о нем забыли: все собрались у репродуктора. Передача уже началась, но до меня доносились лишь приглушенные обрывки фраз. Я не старался вникнуть в их смысл и ходил взад и вперед вдоль канала, изредка останавливаясь. Берега и плоское дно канала были облицованы камнем. Канал был неглубок. От протекавшей по нему кристально чистой воды веяло необычайной свежестью. Просто удивительно, почему я до сих пор не замечал такое чудо! И совсем рядом! Неожиданно я увидел, что вверх по течению быстро плывут молодые угри. Их было великое множество. — Плывите, плывите! Доберитесь до свежей воды, — напутствовал я их. А они все плыли и плыли — и не было им числа. Откуда они? Из низовий хиросимских рек? Любопытно, где они были шестого августа, когда на Хиросиму сбросили бомбу? Я наклонился еще ниже над водой, разглядывая их спины. Угри были вполне здоровые, одинакового серого цвета — одни чуть посветлее, другие более темные. Я вернулся к запасному выходу. Навстречу мне вышел один из сотрудников. — Ну, что там сказали? — спросил я у него. Он обернулся, поглядел на меня невидящим взглядом и, не произнеся ни слова, побежал к кухне. И по тому, с какой силой он сжимал в руке шапку, и по его напряженному, замкнутому лицу я сразу почувствовал, что произошло нечто необычайное. Я направился по коридору к столовой. Мимо меня проходили служащие. Я никогда не видел их такими мрачными. Какая-то работница плакала, закрываясь шапкой с козырьком. За ней следовала целая группа ее товарок. Одна из них, положив руку на плечо плачущей, тихо повторяла: — Ну что ты хнычешь, глупая? Ведь теперь никаких бомбардировок больше не будет... И у меня тоже на глаза навернулись слезы. Я подошел к. умывальнику у входа в столовую и стал мыть руки. Закончив накрывать столы, пожилая официантка сказала мне с вежливым поклоном: — Ах, господин Сидзума, что же это такое? Я простая старая женщина, но и мне так обидно, так обидно... Она не плакала. И я тоже взял себя в руки. Честно говоря, пролившиеся у меня слезы отнюдь не были слезами верноподданного, огорченного тем, что произошло такого-то числа такого-то месяца. Вспомнилось раннее детство. Частенько, когда я играл около дома, меня изводил здоровенный деревенский парень — полуидиот по имени Ёити. Я терпеливо сносил его приставания и никогда при нем не показывал своей обиды. Лишь убежав домой и приникнув к теплой материнской груди, я давал волю слезам. До сих пор помню солоноватый вкус материнского молока, к которому примешивались слезы: то были слезы облегчения. Не такие ли слезы пролил я и сегодня?.. В столовой вместе с директором собралось человек двадцать — в большинстве своем пожилые служащие. Все сидели молча и неподвижно, словно каменные будды; никто даже не притрагивался к еде. Молодая официантка с полотенцем в руке стояла возле короткой занавески у входа на кухню, с таким видом, будто ее только что жестоко разругали. — Господин директор, — сказал я, усаживаясь напротив своего начальника. — Я все сделал, что надо... Стало быть, капитуляция?.. — Похоже, да, — с неожиданной прямотой и решимостью подтвердил он. — Только что по радио говорил император. Наш репродуктор плохо работает. Кто-то из наших пробовал его наладить, но стало только хуже. Многое из выступления императора даже нельзя было разобрать. Но ясно, что объявлена капитуляция... На ячменной каше с отрубями в наших чашах образовалась твердая корочка. Чаши и отваренные в соевом соусе сиофуки были густо облеплены мухами, и никто не делал попытки их согнать. — Не расстраивайтесь, друзья. И ешьте, не пропадать же обеду, — попробовал подбодрить нас директор с вымученной улыбкой. — Эй, девушка, принеси-ка нам соленые сливы. Каждому по три штуки. Смотри не ошибись. Завтра, может быть, наша фабрика будет захвачена вражеской армией. Тогда уже меня навряд ли кто-нибудь послушается. Ответом было молчание. Директор взял в руку палочку для еды, и я тоже приготовился к еде. Каждому принесли по три соленые сливы. По примеру директора я положил их сверху на кашу, налил туда чаю, как следует перемешал все палочками и принялся за обед. Подливая себе чай, я вдруг обнаружил, что на дне чаши лежит лишь одна слива. Куда же подевались остальные? Вроде бы я не успел их съесть, ведь косточек нигде не видно. Неужели я незаметно проглотил такие крупные сливы вместе с кашей? Я потрогал рукой горло, но ничего не нащупал... После обеда один из работников по имени Ёда неожиданно заявил в разговоре, что выступление императора содержало призыв «воевать еще решительнее». На какой-то миг в столовой воцарилась мертвая тишина. Но все, включая директора, оставались на своих местах, и никто, видимо, не собирался уходить. — Ничего подобного! — громко выкрикнул кто-то. Сотрудник отдела труда Наканиси сказал, что во время выступления Его Величества он ясно расслышал слова: «Если бы мы и далее продолжали военные действия, то это привело бы...» — Не могу ручаться, но и мне послышалось что-то в этом роде, — поддержал его директор. Нашлось и еще несколько человек, явственно слышавших эти слова, никак не совместимые с призывом «воевать еще решительнее». Такого призыва просто не могло быть. В конце концов мы все пришли к выводу, что Япония потерпела полное поражение в войне. (Это было подтверждено сообщением, переданным по радио в пять часов вечера. Потом я читал в газетах императорский рескрипт об окончании войны, где говорилось: «Враг применил новое, бесчеловечное оружие. Оно вызвало неисчислимые жертвы и нанесло огромный ущерб. Если бы мы и далее продолжали военные действия, это привело бы к уничтожению не только нашего народа, но и всей человеческой цивилизации...» — Из более поздних записей.) Я принес из канцелярии составленные мной документы и попросил директора поставить печать. Я ясно отдавал себе отчет в том, что фабрика, работающая на армию, теперь, после поражения в войне, не нужна и что моя поездка на станцию Каи потеряла всякий смысл. — Куда положить эти документы? — обратился я к директору. — Я их положу в сейф, — ответил он, забрал документы со стола и вышел. А я отправился во двор. Мне вдруг снова захотелось поглядеть, как плывут угри. Я приблизился к каналу на цыпочках, но не увидел ни единого угря. Лишь чистая, прозрачная вода». Итак, Сигэмацу закончил. Оставалось лишь перечитать дневник еще раз и вложить его в картонную коробку. На следующий день Сигэмацу пошел поглядеть, как чувствуют себя карпы. Молодь быстро набирала вес. В углу большого садка с мелкого дна тянулись вверх стебли бразении. Должно быть, Сёкити пересадил их из пруда Бэнтэн в Сирояма. Кое-где плавали на поверхности овальные листья, а между ними на тоненьких стебельках покачивались маленькие фиолетовые цветы. «Если сейчас над горами вспыхнет радуга — не белая, а пятицветная, — произойдет чудо, Ясуко выздоровеет», — неожиданно подумал Сигэмацу. И хотя у него не было никаких надежд на осуществление этой мольбы, он упорно глядел в сторону далеких гор.




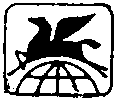
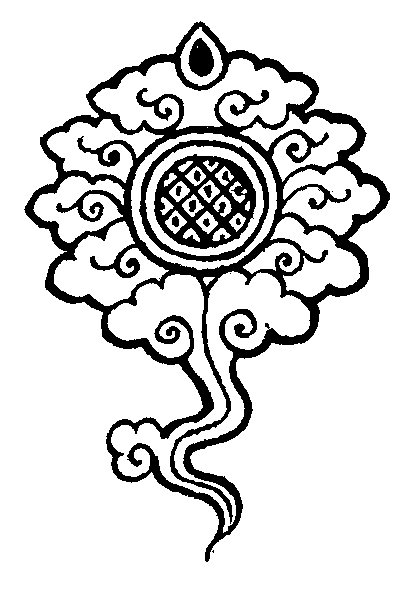
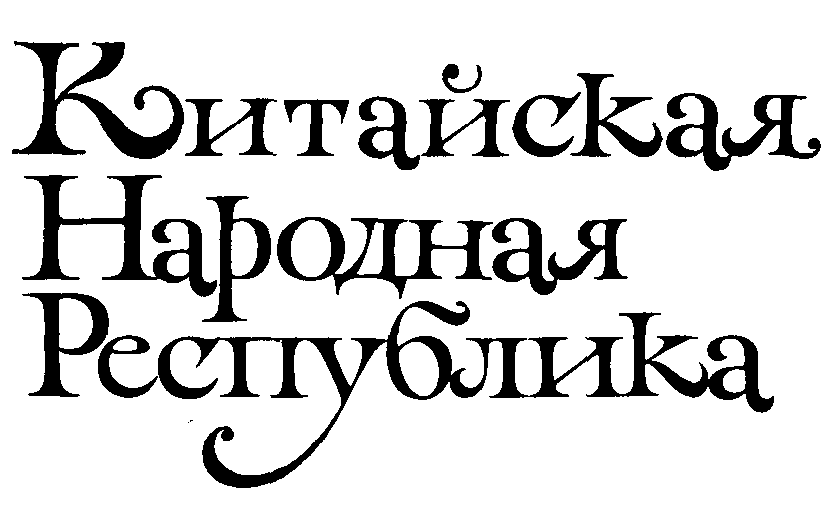

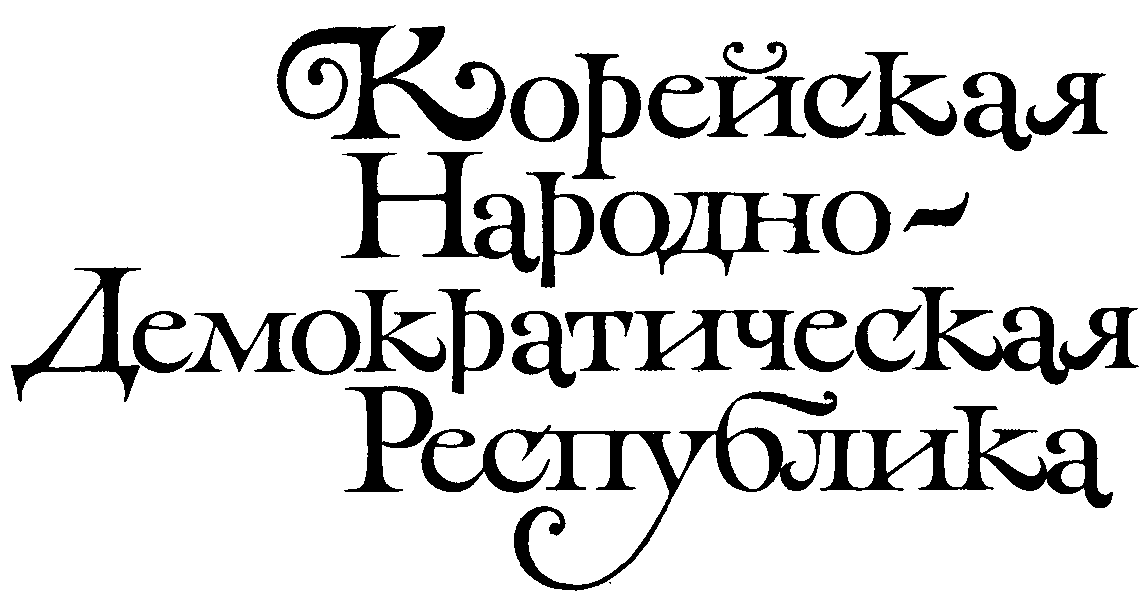




Последние комментарии
1 час 2 минут назад
2 часов 48 минут назад
4 часов 2 минут назад
5 часов 8 минут назад
6 часов 17 минут назад
18 часов 15 минут назад