Таллин. Любовь и смерть в старом городе [Йозеф Кац] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Йозеф Кац Таллин Любовь и смерть в старом городе
Об авторе
 Йосеф Кац — уроженец и житель Таллина. Культуролог, краевед, публицист. Автор книг «Старый Таллин: четыре времени города», «Городской голова Гиацинтов», «Прогулки по району Пыхья-Таллин». В свободное от основной работы время с удовольствием проводит экскурсии по родному году и стране, а также по городам Прибалтики.
Йосеф Кац — уроженец и житель Таллина. Культуролог, краевед, публицист. Автор книг «Старый Таллин: четыре времени города», «Городской голова Гиацинтов», «Прогулки по району Пыхья-Таллин». В свободное от основной работы время с удовольствием проводит экскурсии по родному году и стране, а также по городам Прибалтики.
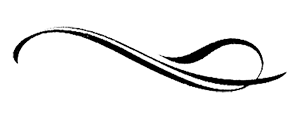
Город сердец
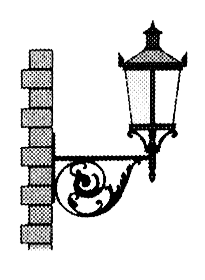 Влюбиться в Таллин — проще простого. Он и сам охотно намекает на эту простоту, прерывистой линией прежних городских укреплений вычерчивая контур, знакомый каждому влюбленному. Те, кому довелось подлетать к городу на самолете, знают: стоит блеснуть под крылом Таллинской бухте, как исторический центр разворачивается внизу огромным, вытянутым с севера на юг сердцем.
Остальным приходится довольствоваться фреской на торце здания у Вируских ворот: горожанин и горожанка в средневековых костюмах призывно взирают друг на друга — поверх плана Старого города, развернутого все в том же «сердечном» ракурсе.
Любовь Таллина сродни этому безмолвному диалогу. Она сдержанна и немногословна. Она обращена не к настоящему, а к прошлому. Она вплетена в ткань улиц и площадей. Она может показаться наивной и провинциальной, но никогда — фальшивой и пошлой.
Золотое сердце, вписанное в готическую розетку, красуется здесь на гербе Центрального административного района, или, говоря официально, Кесклиннаской части. Ее народное название — Сюдалинн, что в дословном переводе как раз и значит «Сердце города».
Покорить его в разные исторические эпохи силились датские монархи, магистры рыцарских орденов, шведские короли, самодержцы всероссийские. С переменным успехом это удавалось им в разной степени — что по большому счету и неудивительно.
Ведь при всей наглядной очевидности — планировочной, геральдической, топонимической — Таллин не спешит открывать свое сердце первому встречному. Ключ к нему каждому приходится искать самостоятельно — чтобы, отыскав, не терять уже никогда.
Поиск этот — не из легких. Любовь не разлита в здешнем сыроватом воздухе, подобно опьяняющему флеру Парижа. Не режет глаз веронским туристическим китчем. Не вступает в бессмысленный спор за признание Таллина «самым романтическим городом Европы».
Таллинская любовь — из неприметных, да верных. Таясь в стороне от проторенных туристических троп, она возводит башни и сравнивает фортификационные укрепления, дарит названия улицам и пригоркам, вдохновляет камнерезов и архитекторов.
Возвышенная и приземленная, романтическая и бесхитростная, платоническая и самая что ни на есть плотская, пребывающая в нескончаемом поединке со своими противниками — забвением и смертью, она звучит неиссякаемым источником городского фольклора. Легенды, передающиеся из уст в уста, тиражируемые электронными СМИ, дремлющие на страницах воскресных и рождественских газет вековой давности, — признание горожан в любви к родному городу. Услышать их, узнать, прочувствовать, отыскать в кажущихся на первый взгляд сказочными сюжетах рациональное зерно — значит по-настоящему понять город. Понять — и полюбить.
Ответное чувство будет крепким и стойким, как стены таллинских укреплений, раз и навсегда вычертивших сердечный контур на городской карте. А главное — таким же неподвластным времени, как и сам Таллин.
Влюбиться в Таллин — проще простого. Он и сам охотно намекает на эту простоту, прерывистой линией прежних городских укреплений вычерчивая контур, знакомый каждому влюбленному. Те, кому довелось подлетать к городу на самолете, знают: стоит блеснуть под крылом Таллинской бухте, как исторический центр разворачивается внизу огромным, вытянутым с севера на юг сердцем.
Остальным приходится довольствоваться фреской на торце здания у Вируских ворот: горожанин и горожанка в средневековых костюмах призывно взирают друг на друга — поверх плана Старого города, развернутого все в том же «сердечном» ракурсе.
Любовь Таллина сродни этому безмолвному диалогу. Она сдержанна и немногословна. Она обращена не к настоящему, а к прошлому. Она вплетена в ткань улиц и площадей. Она может показаться наивной и провинциальной, но никогда — фальшивой и пошлой.
Золотое сердце, вписанное в готическую розетку, красуется здесь на гербе Центрального административного района, или, говоря официально, Кесклиннаской части. Ее народное название — Сюдалинн, что в дословном переводе как раз и значит «Сердце города».
Покорить его в разные исторические эпохи силились датские монархи, магистры рыцарских орденов, шведские короли, самодержцы всероссийские. С переменным успехом это удавалось им в разной степени — что по большому счету и неудивительно.
Ведь при всей наглядной очевидности — планировочной, геральдической, топонимической — Таллин не спешит открывать свое сердце первому встречному. Ключ к нему каждому приходится искать самостоятельно — чтобы, отыскав, не терять уже никогда.
Поиск этот — не из легких. Любовь не разлита в здешнем сыроватом воздухе, подобно опьяняющему флеру Парижа. Не режет глаз веронским туристическим китчем. Не вступает в бессмысленный спор за признание Таллина «самым романтическим городом Европы».
Таллинская любовь — из неприметных, да верных. Таясь в стороне от проторенных туристических троп, она возводит башни и сравнивает фортификационные укрепления, дарит названия улицам и пригоркам, вдохновляет камнерезов и архитекторов.
Возвышенная и приземленная, романтическая и бесхитростная, платоническая и самая что ни на есть плотская, пребывающая в нескончаемом поединке со своими противниками — забвением и смертью, она звучит неиссякаемым источником городского фольклора. Легенды, передающиеся из уст в уста, тиражируемые электронными СМИ, дремлющие на страницах воскресных и рождественских газет вековой давности, — признание горожан в любви к родному городу. Услышать их, узнать, прочувствовать, отыскать в кажущихся на первый взгляд сказочными сюжетах рациональное зерно — значит по-настоящему понять город. Понять — и полюбить.
Ответное чувство будет крепким и стойким, как стены таллинских укреплений, раз и навсегда вычертивших сердечный контур на городской карте. А главное — таким же неподвластным времени, как и сам Таллин.
Линда: памятник верности
В Средние века говорили, что Таллин построен на соли; в наши дни — на простирающейся до шведского острова Готланда доломитовой плите. И первое и второе в равной степени соответствует истине: в одном случае речь идет об основе экономического процветания, в другом — о геологическом строении таллинских почв. О том, что в основании города лежит любовь — беззаветная, бескорыстная, достойная воистину эпического размаха, — задумываются как-то меньше. Но в метафизическом плане дело обстоит именно так. Причем лежит в самом непосредственном, материалистическом смысле: первое поселение на месте будущего Старого города возникло на естественной возвышенности, в которой фольклор упорно желает видеть творение рук человеческих, — холме Тоомпеа. «Тоомпеа» в переводе означает «Соборная гора»: речь идет не о православном соборе Александра Невского, возведенном в 1901 году, а о его ближайшем соседе — ныне лютеранском Домском соборе, заложенном крестоносцами в первой трети XIII века. Еще раньше было городище — по свидетельству современника, хрониста Генриха Латвийского, уже покинутое своими обитателям к моменту появления на берегах Таллинской бухты «воинов Христовых» — рыцарей датского короля Вальдемара. Его строители — жители древней земли Рявала, современной Северной Эстонии, — не удосужились оставить потомкам письменные свидетельства о том, как называли они свою крепость и поселение при ней, если таковое, разумеется, существовало. В скандинавских источниках оно было известно под названием Линданисе: деятели эстонского Пробуждения, наследники европейского романтизма середины девятнадцатого столетия, пытались расшифровывать этот топоним как «грудь Линды». Соплеменникам-современникам они предлагали как можно скорее вновь «припасть» к этой богатырской «груди». Иными словами — постараться вернуться к истокам национальной культуры.* * *
Линда, согласно первой же песне эстонского эпоса «Калевипоэг», — женщина вполне земного вроде бы происхождения. Но одновременно — воистину мифологической биографии. Ее родная сестра Сальме вышла замуж за Полярную звезду, а к самой Линде свататься приезжали поочередно Солнце, Месяц и Водный Поток. Всем она ответила отказом, дав согласие лишь богатырю Калеву. Радостный брак оказался недолгим — насколько вообще применим этот термин в пространстве мифа, где само понятие времени относительно. К описанию смерти Калева и безутешного горя Линды национальный эпос переходит уже во второй песне. В память о муже, безвременно покинувшем земной мир, «горькая вдовица Линда» решает возвести над могилой курган. Камни для него — то ли в подоле, то ли в сплетенной из собственных кос корзине — она носит с окрестных полей и морского побережья. Самый тяжелый из них — увесистая гранитная глыба — вырывается из рук. Линда садится на него и начинает оплакивать супруга и судьбу. Из слез ее образуется озеро Юлемисте: лежащий на его берегу «камень Линды» и по сей день заметен с трассы Тартуского шоссе. Продолжилась ли после этого работа по возведению надгробного памятника, эпос умалчивает. Скорее всего, прервалась: Линда была на сносях, и дальнейшие строки эпической поэмы повествуют о рождении младшего сына Калева — богатыря Калевипоэга. Вопреки уверениям гидов, городище на холме, насыпанном матерью, строил не он, а его кровный брат Олевипоэг, освоивший ремесло зодчего за морем. Калевипоэг же, выражаясь современным языком, занимался «менеджментом и спонсорством проекта». Увидеть возведенный совместными усилиями своих сыновей «город счастья» с «богатыми покоями» и «торговыми» палатами Линде было не суждено. Как и не было дано познать радость супружества еще раз, хотя потенциальные женихи имелись. Наибольшую настойчивость проявил злобный колдун Туслар, повелитель ветров с северного берега Финского залива. Поняв, что по-хорошему сердца Линды ему не добиться, он решился коварно похитить возлюбленную. Сыновья Калева были на охоте: материнских просьб о помощи они не услышали. На мольбу хранящей верность покойному супругу Линды откликнулся Пиккер-Громовержец. Среди солнечного дня заклубился вдруг свинец туч, полоснула сталью молния, в небесах загрохотало звонкой медью — и вдовица обратилась грузной каменной глыбой.* * *
История, с детства известная даже тем таллинцам, которые в жизни не заглядывали под обложку «Калевипоэга», может показаться «преданьем старины глубокой» только неискушенному читателю. Специалист, мало-мальски знакомый с научной фольклористикой, развенчает «древность» легенды в два счета. Даже сюжет с целым озером слез, хранящий отголосок архаики мифа, звучит в «литературной аранжировке» эпохи сентиментализма. Впрочем, и сам составитель эстонского национального эпоса, врач Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, обработавший бытовавшие в народе предания и нанизавший их на сюжетную линию поэмы, в конце жизни признавался: образ Линды — плод его собственной фантазии. Неужели и вправду супружеская верность, в прямом и переносном смысле заложенная в основание холма Тоомпеа, — вымысел? Да и вся история о кургане, воздвигнутом безутешной вдовой, — литературная мистификация; сказка красивая, но — авторская?! Казалось бы, само имя Линды на первый взгляд явно германского, средневекового происхождения: сокращение от Белинды, Мелинды или Розалинды. Однако считается, что Крейцвальд вывел его от древнейшего названия Таллина — Линданисе. Топоним этот — безусловно, финно-угорского происхождения. Около тысячи лет тому назад он мог означать нечто вроде «Места городища», то есть местности, на которой существовало укрепленное поселение, по каким-то причинам более не используемое. Верили ли его обитатели в то, что живут на холме, сложенном из доломитовых плит супругой легендарного богатыря? Проверить теперь сложно, но и исключать такую возможность нельзя. Во всяком случае, косвенное свидетельство тому можно обнаружить в городском пространстве Таллина и по сей день, хотя и непросто.* * *
До автобусной остановки «Иру» из центра города без пересадки и не доберешься. От нее — еще полсотни шагов назад по ходу движения, затем — переход на противоположную обочину Нарвского шоссе, тропинка в перелеске с левой стороны от улицы Линнусе теэ. Мы — у цели. Точнее — у массивной глыбы гранита, чей силуэт и вправду напоминает грузную человеческую фигуру. Изможденное женское лицо, поднятое с мольбой к небесам, призвано развеять последние сомнения: перед нами — окаменевшая Линда. В народе ее называют Ируской матушкой или Ируской тещей — по имени ближайшей деревни Иру. Та, в свою очередь, позаимствовала имя у ближайшего городища Иру — еще одного предка Таллина, даже еще более древнего, чем Линданисе. Сама скульптура значительно моложе: установили ее лишь в 1970 году. Рвением местных краеведов она встала приблизительно на том месте, где с незапамятных времен высилась Ируская баба — языческий культовый камень окрестных жителей. Еще два века тому назад — в ту пору, когда юный Крейцвальд сперва учился, а затем учительствовал в Таллине, — крестьяне верили: переправиться через реку Пирита, не оставив до того каменной глыбе монетку — другую, — дело опасное, если не сказать — гиблое. Тому, кто ехал в Таллин на ярмарку впервые в жизни или же отправлялся в город искать счастья ремесленного подмастерья, надлежало почтительно снять перед Ируской бабой головной убор, а затем — хорошенько угостить спутников выпивкой в ближайшей корчме. Каждый год в ночь летнего солнцестояния вокруг гранитной глыбы раскладывали костры. Это ее и погубило: в середине позапрошлого столетия гранит раскалился докрасна. Попытки залить огонь водой имели для камня роковые последствия. Местный помещик, и до того-то не испытывающий к Ируской бабе и ее популярности у своих вчерашних крепостных особых симпатий, распорядился употребить осколки для нужного и практичного дела: дорожного строительства. То, что еще совсем недавно было окаменелыми останками Линды, легло в основание Ируского моста. Ладный, четырехпролетный, о трех быках — он мог бы быть достопримечательностью Таллина, не погибни в 1944-м. Восстановить его было по силам — исторические опоры верой и правдой служили вплоть до конца шестидесятых годов. Но власти сочли иначе: остатки оригинального строения были разрушены — место его заняла бетонная конструкция. Где-то под полотном нового моста, на перекатах реки Пириты, покоятся останки верной супруги Калева, матери Калевипоэга, созидательницы холма Тоомпеа — легендарной Линды.* * *
Свято место пусто не бывает: лишь стоило исчезнуть на подъезде к Таллину «подлинной» Линде, как среди горожан-эстонцев возникла идея увековечить супругу богатыря Калева в самом городе. Мысль о создании «памятника» ей впервые родилась у проживавшего на тот момент в Италии эстонского скульптора Аугуста Вейценберга еще в 1878 году, но губернские и городские власти инициативу ваятеля на тот момент не оценили. Высеченная из каррарского мрамора двумя года позже, супруга Калева дожидалась лучших времен добрых лет сорок, коротая свои дни в зале Эстляндского провинциального музея, — располагался он, разумеется, тоже на сотворенном Линдой холме Тоомпеа. Звездный час ее пробил лишь после провозглашения государственной независимости Эстонской Республики: в 1920 году городские власти сочли, что декоративной скульптуры на площадях и в скверах новоиспеченной столицы явно недостаточно. Работа Вейценберга на роль «первого эстонского памятника» Таллина подходила идеально. Прежде всего — потому, что служила материальным воплощением известной легенды. А одновременно — была напоминанием о «докрестоносном» прошлом города. Вначале Линду планировали установить в бывшем Губернаторском саду — у самых стен замка Тоомпеа. Но потом решили: уместнее ей будет взирать на деяние рук своих со стороны, со Шведского бастиона: даром что насыпан он был только в конце XVII века. Экспонировать признанную музейной ценностью скульптуру под открытым небом не решились — отлили точную копию. Вейценберг планировал несколько увеличить ее масштаб, да только денег и металла у городских властей, к сожалению, не хватило. С тех пор она так и сидит на гранитном постаменте — по меткому определению основательно подзабытого ныне поэта-акмеиста Всеволода Рождественского, «отлитая в пасмурной бронзе, лишенная сердца и речи». Кутается в волчью шкуру, на которую в тексте «Калевипоэга», кстати, нет и намека. Воплощает тоску и скорбь по мужу, которому она сохранила верность, заплатив за нее самым дорогим — собственной жизнью.* * *
Таллинские влюбленные редко приходят к Линде: печальный облик скульптуры превратил ее в почти официальный памятник тем, кто был выслан из Эстонии и умер на чужбине. За исключением одного-единственного летнего дня — годовщины депортации 1941 года — героиня эпоса пребывает в полном одиночестве. На созданном ее трудами холме вершится местная политика и бродят суетливые туристы. Город, выросший у подножья кургана Калева, по мере сил пытается не забывать ее, называя в честь Линды то кожгалантерейную фабрику, то судоходную компанию, то улицу, пролегающую через старинное предместье Каламая. Иные даже готовы разглядеть «безутешную вдовицу» в венчающей большой Таллинский герб женской фигуре с распущенными волосами. Хотя известно, что в городскую геральдику она вошла лет за двести пятьдесят до первой публикации «Калевипоэга». Не стоит, право, искать Линду там, где ее нет. Ради встречи с ней уместнее выкроить из времени, отведенного на знакомство с дежурными достопримечательностями Верхнего города, минут хотя бы десять-пятнадцать. Спуститься с холма Тоомпеа, пройти две сотни шагов — и начать неспешный подъем по парковым аллеям Линдамяги — горки Линды, как с начала тридцатых годов называют бывший Шведский бастион. Если нет возможности побывать на месте гибели героини народного эпоса, навестите хотя бы памятник ей, создательнице фундамента, на котором вырос впоследствии Таллин. И если скорбное лицо в минуту прощания покажется вам чуть менее опечаленным, будьте уверены: общий язык с Таллином вы обязательно найдете. А значит — почти наверняка вернетесь в город еще не раз.На миг вместе
С недавних пор в монументальной пластике Таллина увековечена героиня еще одной любовной истории, также позаимствованной из эстонской «народной» мифологии. Накануне Рождества 2004 года перекресток улиц Лайкмаа и Гонсиори украсился фигурой из анодированной бронзы внушительных масштабов: современным ремейком классической скульптуры работы все того же Вейценберга — «Хямарик». «Хямарик» по-эстонски — «Вечерняя заря». Согласно преданию, сочиненному в первой трети девятнадцатого столетия врачом и писателем Фридрихом Робертом Фельманом, она воспылала однажды нежными чувствами к своему брату — Койту, Утренней заре. Боги были против кровосмесительного союза, и потому небесный старец Уку разлучил влюбленных навеки. Встретиться на миг — и вновь расстаться дозволено им лишь в самую короткую ночь года, с 23 на 24 июня — накануне Иванова дня. Интересно, вспоминают ли печальную легенду нынешние таллинские подростки, давно уже взявшие в обычай назначать друг другу свидания «под зеленой теткой», стоящей у входа в торговый центр «Viru Keskus»?
Герман и Маргарита: роман в камне
Согласно недавней статистике, наиболее популярные среди таллинцев имена — Александр и Елена — как в эстонском, так и в русском варианте написания. Исследований популярности таллинских имен за пределами Таллина пока не проводились, но фаворитов предсказать несложно: Герман и Маргарита. С обязательным уточнением: Длинный и Толстая. Прилагательные здесь — не фамилии, не прозвища и не клички. Они — полноценная часть официальных названий двух едва ли не самых знаменитых башен таллинской крепостной стены.* * *
Городские укрепления — сооружения сугубо функциональные, а потому имена их ключевых элементов — дозорных башен — почти неизбежно несут на себе печать утилитарности. Основное их предназначение — как можно точнее указывать, куда следует бежать жителям по зову осадного набата, сзывающего на защиту города от надвигающегося неприятеля. Примечательные некогда для таллинцев постройки — очевидные и общеизвестные на тот момент ориентиры — запечатлелись в названиях таких башен, как, например, Саунаторн (Банная), Таллиторн (Конюшенная) или даже Башня у русской церкви Святого Николая. Случалось и по-другому: богатый купец хранил в башне товар, обязуясь в лихую годину обеспечить ее защитников оружием и жалованием. Со временем его фамилия могла превратиться в башенное «имя»: башня Рентерна, допустим, или же башня Эппинга. Менялись принципы фортификации, средневековые укрепления теряли свою важность, разрушались постройки, давшие когда-то башням их имена, вымирали некогда славные купеческие династии. Вспоминая тридцатые — сороковые годы XIX века, архивариус Хансен писал, что даже в официальных бумагах Таллинского магистрата башни городской стены перечислялись лишь по номерам. Но и он, будучи в ту пору ребенком, твердо знал: для Длинного Германа и Толстой Маргариты было сделано исключение — их имена неизменно оставались у горожан на слуху. Вероятно, первые попытки объяснить колоритные прозвища башен были предприняты безвестными авторами таллинских легенд и преданий именно тогда — лет двести тому назад.* * *
Чаще всего рассказывают так: жили когда-то давным-давно в Таллине ладный долговязый парень и пухленькая девчушка. Звали их соответственно Германом и Маргаритой. Принадлежали они, надо понимать, к небогатым горожанам, селившимся за крепостной стеной: Герман жил в предместье Кассисаба, относящемся к юрисдикции Верхнего города, Маргарита — в рыбацком форштадте Нижнего города, нынешнем районе Каламая. Повстречавшись раз на рынке, шумевшем каждый будний день у стен ратуши, молодые люди поняли, что созданы друг для друга. Да только родители их были категорически против брака, и потому видеться они могли только вдали от их глаз — в Старом городе. Чуть солнце начинало клониться к закату, Герман и Маргарита должны были мчаться к городским воротам. Не успеешь минуть их до закрытия — поволокут тебя в арестантский дом за ратушей. И тогда их тайные свидания станут достоянием всех. Влюбленные, как известно, часов не наблюдают, да и откуда было взяться часам в те давние времена у простого человека? Как-то летней ночью юноша с девушкой заболтались. О том, что городские ворота закрываются, они вспомнили лишь с боем ратушного колокола. Изо всех сил бросились они в разные стороны, даже позабыв толком попрощаться: Герман — на юго-запад, по направлению к предместью Кассисаба, Маргарита — на север, к порту и рыбацким хижинам Каламая. Но — не успели: с последним ударом колокола и Герман, и Маргарита окаменели, на глазах изумленных воротных стражей превратившись в две невиданные доселе таллинцами башни. Говорят, сбылось проклятие, тайно наложенное на влюбленных бургомистром, — чем они не угодили главе городского самоуправления, наиболее распространенная версия легенды умалчивает.* * *
Менее известный вариант вводит в историю тему инцеста: Герман и Маргарита, дескать, были внебрачными детьми самого бургомистра, отданными на воспитание в семьи бедняков. А следовательно — братом и сестрой. Отголосок этого предания неожиданным образом звучит в фельетоне, опубликованном на страницах «Ревельских известий» в 1893 году: оживший в новогоднюю ночь Длинный Герман обращается к Толстой Маргарите не иначе как со словами «любезная сестрица». О сбывшемся проклятии, правда, в заметке нет ни слова: родство башен здесь — исключительно материалистическое. Если не сказать — материальное: Герман напоминает Маргарите, что оба они выстроены из одного камня, доставленного с плато Ласнамяги.* * *
Есть и еще одна, основательно позабытая в наши дни байка. Мотив запретной любви незаконнорожденных отпрысков главы магистрата вытеснен в этом сюжете романтикой рыцарского служения прекрасной даме и беспредельной девичьей верности. Герман, дескать, был воином, отправлявшимся в дальний и долгий поход, Маргарита — его возлюбленной. Доверял он ей настолько, что не стал проделывать унизительной процедуры с поясом верности, а попросил с девушки слово дожидаться суженого. Прошел год, другой, а от Германа не было ни слуху, ни духу. Лучшие женихи города стали засылать к Маргарите сватов. А те, что понахальнее, заявлялись в ее дом собственной персоной и грозились в случае отказа взять девичью крепость силой. Слово, данное возлюбленному, Маргарита блюла крепко. Для того чтобы раз и навсегда отбить у потенциальных мужей интерес к собственной персоне, она якобы перешла на своеобразную диету: стала питаться исключительно пряниками и марципанами. Результат не заставил себя долго ждать: девушка располнела так, что не смогла выйти из дверей собственного дома. От былой ее красы не осталось и следа, но честь была, несомненно, спасена. Возвращения Гурмана его невеста так и не дождалась. Он же, вернувшись из похода, был столь потрясен этой историей, что все добытое за морями золото вложил в строительство башни. Возведена она была, разумеется, на месте дома, где погубила себя сластями и сдобой Маргарита, ставшая неприглядно-толстой, но верность ценой этого сохранившая.* * *
При всей сказочности данный сюжет — впрочем, исключительно интуитивно — нащупывает верное направление: Герман и вправду был рыцарем. Только вот в Таллине он никогда не жил. Да и не мог жить: согласно средневековой германской традиции, Длинным Германом звали христианского воина, первым взошедшего на стены Иерусалима в дни Первого же крестового похода. Состоялся он, как известно, в самом конце XI века, то есть более чем за сто лет до того, как датский король Вальдемар и его верные вассалы приступили к возведению замка на холме Тоомпеа — колыбели средневекового Таллина. Процесс, приведший датчан в Эстонию, историкам известен под именем Северных крестовых походов. По сути, были они «коллективной фрустрацией»: потерпев фиаско на Востоке, «воины Христовы» огнем и мечом понесли «истинную веру» на север Европы. Военные экспедиции против предков нынешних эстонцев и латышей католические рыцари воспринимали как продолжение крестоносной эпопеи. Образ легендарного Германа, бившегося с сарацинами в Святой земле, оказался на новом месте весьма кстати. «Германовские башни», или собственные «Длинные Германы», высятся над замками, выстроенными крестоносцами в Нарве, Пайде, Курессааре. Самая мощная башня не сохранившегося замка в Тарту тоже была наречена в честь крестоносца Германа. Одноименная таллинская башня — ровесница своих тезок. Заложена она была в 1370 году, а свой нынешний облик и сорокапятиметровую высоту окончательно обрела только к концу пятнадцатого столетия. Таллином в ту пору владели уже не датчане, а рыцари Ливонского ордена — наследники участников Северных крестовых походов, почитавшие легендарного Германа предшественником. В рыцарской среде это имя было популярно: третьим наместником еще только покоряемых на тот момент Ливонских земель был провозглашен в начале XIII века Герман Балк. Еще один Герман — фон Брюггеней — был сорок вторым магистром Ливонского ордена в середине шестнадцатого столетия. В 1536 году он посещал Ревель[1], принимая присягу от местных жителей. Кто знает, не поднимался ли он, ради лучшего обозрения города и окрестностей, на своего «замкового тезку» — башню Длинный Герман?* * *
Как и полагается даме, Толстая Маргарита чуток моложе своего кавалера. Столетия приблизительно на полтора: для защиты Больших морских ворот ее возвели лишь в середине XVI века. Первоначально даже намека на женское имя в своем названии башня не несла: сперва ее называли Новой башней у Розового сада, затем — башней Розенкранц, что можно перевести как «башня Церковных четок». В документах городской инженерной команды под именем Толстой Маргариты она впервые упоминается только в 1842 году. Но в изустной речи прозвище это, насколько можно судить по косвенным свидетельствам, было известно и ранее. Так, император Николай I, посещавший Таллин лет на пятнадцать раньше, завершив осмотр башни, говорят, с армейским юмором заметил: дескать, хорошую казарму выстроила в свое время датская королева для нынешнего самодержца всероссийского! Датская королева, в середине XIII века отдавшая распоряжение опоясать Таллин первой городской стеной, действительно звалась Маргаритой. Но сомнительно, чтобы мастера, возводившие башню у Больших морских ворот тремя веками позднее, помнили это. В методичке, популярной на курсах подготовки таллинских гидов, приводится утверждение: свое нынешнее шутливое имя башня у Больших морских ворот получила от моряков. Но чем они руководствовались — не уточняется. Среди краеведов бытует убеждение: «Толстыми Маргаритами» или «Неуклюжими Гретами» якобы назывались приземистые орудийные башни, возводившиеся в городах немецкого побережья Балтики на заре Нового времени. Не исключено, что это и в самом деле так: корабельный люд, повидавший заморскую «Маргариту» где-нибудь в Ростоке, Любеке или Штральзунде, вполне мог «импортировать» название в Таллин. Жаль вот только, что в списках укреплений тамошних городов собственная Толстая Маргарита или фета нигде не фигурирует. По крайней мере — среди сохранившихся башен.* * *
В эпоху, далекую от представления о гендерном равноправии и равенстве полов, «карьеры» Германа и Маргариты складывались по-разному. Первый, венчающий собой резиденцию орденских магистров, королевских наместников, царских губернаторов, был и остался воплощением верховной власти, правящей не только Таллином, но и окрестными землями. Символ могущества — государственный флаг — был впервые поднят над Длинным Германом в 1885 году: в ту пору им был, разумеется, российский. Триколор нынешний, эстонский, взвился над башней в 1918-м. После политических перипетий XX века сине-черно-белый флаг вернулся на главную башню Тоомпеаского замка в 1989 году. На рассвете он поднимается под звуки гимна, на закате — опускается в сопровождении мелодии песни «Отечество любимое мое». Маргарита с женской осмотрительностью в политику не вмешивалась. Политика, напротив, вмешалась в ее судьбу бесцеремонным образом: после революции 1905 года башню превратили в тюрьму, в феврале 1917-го — сожгли заодно с соседним околотком. Полицейский участок восстановили быстро, а вот что делать с самой башней — решить не могли. Проекты двадцатых — тридцатых годов предусматривали оборудование в Толстой Маргарите планетария, торгового дома и даже — социального жилья для городской бедноты. В конце концов руины законсервировали, а в надвратном помещении в 1939 году начал работу Таллинский городской музей. Саму же башню привели в презентабельный вид только в восьмидесятые, приспособив для нужд уже другого музея — Эстонского морского. Музейные функции Толстая Маргарита успешно выполняет и по сей день, хотя часть экспозиции и переехала из нее в недавно отреставрированные ангары бывшей Летной гавани. Расположены они, кстати, в Каламая — том самом предместье, где якобы жила некогда девушка, подарившая башне свое ставшее знаменитым имя.* * *
«Сквозь туман, как сон старинный, проступают далеко этот Герман, вечно длинный, вечно толстая Марго…» — пела в свое время Вероника Долина. Вечность — понятие относительное, но в XX веке известность обеих башен шагнула далеко за пределы Таллина. Почтовая марка с изображением Толстой Маргариты была выпущена в 1927 году; однокроновую банкноту Длинный Герман украсил в 1992-м. И хотя из оборота обе они нынче изъяты, хочется верить, что на популярности неразлучной пары это не отразилось. Более того, «роман» Маргариты и Германа, похоже, начинает вдохновлять на развитие сердечных отношений и соседние башни. Не иначе как последовав их примеру, о собственной любовной истории рассказали — посредством отыгранного прошлым летом у стен замка Тоомпеа спектакля под открытым небом — «госпожа Ландскроне» и «господин Пильштикер». Их фамилии, как известно всякому любителю таллинской старины, — названия двух замковых башен, ровесников Длинного Германа. До самого последнего времени об их амурных делах неизвестно было ничего… Но такой уж город Таллин — даже каменные башни влюбляются здесь друг в друга. И досадные мелочи вроде разницы в росте, возрасте или внешности им при этом совсем не помеха. Впрочем, кто сказал, что у нас, людей, дела обстоят как-то принципиально по-иному?Двойники и родственники
Искусствоведы давно выяснили, что ближайшие «родственники» таллинского Длинного Германа — аналогичные по типу постройки дозорные башни — в массовом порядке возвышаются над замками нижнего течения Рейна. О том, что у Длинного Германа «родственник», а если угодно — младший брат, имеется непосредственно в Таллине, известно им куда меньше. Лучше всего об этом осведомлены посетители Таллинского… Центрального рынка. Память подсказывает: появилась оформленная в виде уменьшенной копии фортификационного сооружения привратная тумба в середине девяностых годов XX века. Имя ее архитектора и заказчика история, увы, для нас не сохранила. «Короткий Герман» ниже прославленного прототипа раз в десять, но внешний облик его копирует старательно. Флагшток, правда, на нем начисто отсутствует — зато имеются металлические буквы, указывающие на название рынка. Есть «родственница» и у Толстой Маргариты: каменный восьмигранник газгольдера Таллинской газовой фабрики фельетонисты столетней давности в штуку величали «Новой Маргаритой». Определенное сходство есть. А главное — расположена она по соседству со своей средневековой сестрой. Жаль только, позднейшие корпуса электростанции скрывают их друг от друга.
Поцелуева горка: объятия навек
Таллин — не Рим, не Москва и не Иерусалим: легендарных холмов здесь не семь, а добрых три с лишним десятка. И хотя горожане с почтительным упрямством гордо именуют их «горами», высота даже самого внушительного из них — Ласнамяги — не превышает пятидесяти пяти метров над уровнем моря. В семье своих сестер-братьев — естественных и рукотворных возвышенностей Таллина — Мусумяги, Поцелуева горка, не может выделиться ни размерами, ни славой, ни даже бурной биографией. Примечательна она иным — романтическим называнием, которое в 2005 году стало официальным, но в изустной речи горожан существовало, насколько позволяют судить газеты, с тридцатых годов минувшего столетия как минимум.* * *
Родители Поцелуевой горки — грозный бог войны Марс и вполне прозаичная городская конно-железная дорога; в просторечии — конка. Волей первого перед Вирускими воротами, защищавшими въезд в Таллин с восточной стороны, в середине семнадцатого столетия стали возводить дополнительное укрепление — Высокий бастион. Каким бы высоким он ни был — а знакомые всякому таллинцу и гостю города две стройные башенки предвратных укреплений были скрыты за ним полностью, — спустя всего сто лет конструкция его оказалась устаревшей. Затеяли строительство нового, Бременского бастиона. Но дальше подготовительных работ дело не пошло: грянула Северная война, таллинская торговля пришла в упадок, да и у шведских королей с финансами стало, скажем прямо, негусто. «Недомодернизированное» фортификационное сооружение просуществовало добрых полтора столетия. После окончания Крымской войны бастион у Вируских ворот вместе с прочими крепостными укреплениями был демилитаризован и передан городу. Что с ним делать — отцы города, похоже, поначалу не знали. Если на других бастионах вскоре зашумели увеселительные парки, то горке у Вируских ворот определенно не везло: часть ее занимал частный яблоневый сад, часть — мучные склады некого Гроссмана. Тридцать лет спустя ситуация начала стремительно меняться. В августе 1888 года в Таллине пустили конку. Трасса первого маршрута была призвана связать приморские дачи в окрестностях Кадриоргского дворца с центром города. Таковым вплоть до самого конца XIX века оставалась Ратушная площадь. На нее, правда, дребезжащие вагончики конно-железной дороги зажиточные домовладельцы не пустили, но до площади Ванна-Тург предок таллинского трамвая все-таки добрался. Для того чтобы проложить рельсы по улице Виру, былой бастион надо было бы срыть. Но денег у акционеров конки было не много, и потому они выбрали «бюджетный вариант» — прокопали через рукотворный холм нечто вроде широкой выемки. На северной его стороне вскоре были выстроены магазины, и часть бывшего фортификационного укрепления оказалась на их задворках. С южной стороны склон оставался незастроенным — словно бы дожидался лучших времен. Настали они спустя еще одно десятилетие: весной 1898 года в местной прессе было опубликовано решение городской Думы — превратить пустующую часть горки у Вируских ворот в общественный парк.* * *
Подготовительные работы закончились еще в конце июля, однако открывать горку не спешили: дожидались возвращения из служебной поездки главы муниципалитета. «Множество народа устремилось посмотреть на прекрасное местечко, преобразованное усердными руками городского садовника господина Валкера, — писал корреспондент эстонской газеты „Walgus“. — Вид отсюда — великолепен». Отмечая, что преображенная горка по праву может считаться одним из красивейших парков Таллина, корреспондент выражал опасение: поблизости — балаганы Нового рынка и распивочные рынка Русского. Не ровен час — хулиганы погубят благое начинание. Отцы города, вероятно, предвидели подобное развитие событий. Потому в кусты сирени, высаженные по периметру парка, была запрятана ограда… из колючей проволоки. Ну, а тем, кто вздумал бы преодолеть и ее, было не избежать встречи с парковым сторожем. Специально для него была выстроена «служебная квартира»: назвать эллипсообразную в плане неоготическую башню, пристроенную к остаткам средневековых предвратных укреплений, просто «сторожкой», откровенно говоря, язык не поворачивается. На горке у Вируских ворот были проложены гравиевые дорожки, высажены полсотни декоративных растений и пять с половиной сотен кустов. Для «уединенных разговоров» была возведена ажурная металлическая беседка, сохранившаяся поныне. Кроме того, для облегчения подъема на горку выстроили каменные лестницы, перед наиболее эффектной из которых был установлен фонтан: три отлитые из чугуна танцующие грации украшали его. Похоже, он стал первым общественным фонтаном в центре города: до того этот элемент паркового убранства можно было встретить либо в Кадриорге, либо же в частных садах и палисадниках. Время от времени городские власти вспоминали о благоустройстве: перед самой Первой мировой войной, например, решили срочно заменить здешние керосиновые фонари новомодными электрическими — неясно, правда, был ли реализован утвержденный проект.* * *
Складывается неистребимое ощущение, что при всех своих достоинствах благоустроенная горка у Вируских ворот постоянно наводила таллинцев на мысль еще более «улучшить» ее — или задействовать еще более эффективно. В начале двадцатых годов, например, городские власти обсуждали возможность оборудовать в «младшей» из башен Вируских ворот… подстанцию электрического трамвая, а в уцелевших от бастиона подземельях разместить трансформаторные будки. Каким-то мистическим образом горка притягивала к себе доброхотов от монументальной пластики: в 1901 году автор статьи в «Ревельских известиях» предлагал строить памятник броненосцу «Русалка» не на далеком морском берегу а именно здесь — в самом центре. В конце тридцатых годов бывший бастион определили как место возведение монумента павшим в войне за государственную независимость Эстонии: открыть его предполагалось к двадцатипятилетию начала боевых действий, в ноябре 1943 года. Пока шло обсуждение будущего, разбитый на горке в конце девятнадцатого столетия парк медленно, но верно приходил в запустение. Пост паркового сторожа был упразднен, в его жилище-башне заработало кафе, но репутацию места оно не спасало. Газетная хроника тридцатых годов время от времени сообщает то о грабителях, покушающихся на провинциалов, по рассеянности забравшихся на горку, то о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации, ищущих здесь себе пару. Удар Второй мировой по нынешней Мусумяги был нанесен точечный, но от этого — не менее болезненный. В дни обороны Таллина летом 1941 года прямым попаданием авиабомбы разрушена была псевдосредневековая башня ворот Виру. Новые хозяева — оккупационные власти нацистской Германии — не нашли ничего лучше, как захоронить на самом высоком месте парка шестерых солдат, погибших во время штурма города. На южном склоне горки была разбита клумба в виде силуэта… танка. Не позднее лета 1944 года оказался утрачен и фонтан: его скульптура пала жертвой кампании по сбору металла, который на оккупированных нацистами территориях принимал форму организованного грабежа культурных ценностей.* * *
Трудно сказать, почему именно горка у Вируских ворот оказалась обласкана вниманием вернувшейся в Таллин советской власти прежде других пострадавших объектов. Перво-наперво уже к лету 1945 года на место сгинувших «Трех граций» встали «Мальчики с рыбой»: облик их настолько «буржуазен», что заподозрить в фонтане послевоенную скульптуру с первого раза нелегко. Следом фактически с нуля была отстроена башня-сторожка: восстановление постройки, решенной в духе неоготики, в ту пору, когда без жалости уничтожались пострадавшие в войну памятники готики подлинной, выглядит необъяснимым курьезом. Тем более что вскоре появилась идея полностью перепланировать всю горку, по сути превратив ее в пьедестал памятника Победы. Проект так и остался на бумаге, но республиканскую доску почета у подъема со стороны улицы Валли все же открыли. На том пафос преобразований, по счастью, и иссяк: даже плакаты с портретами вождей, устанавливавшиеся здесь в послевоенную пору к октябрьским праздникам, оказались лишь временным явлением. Горка, похоже, избавилась от совершенно несвойственной ей политической роли. Парк на ней решили сохранить, частично перепланировав, частично восстановив вымерзшие в суровые военные зимы насаждения сирени. Такой — чуток запущенной, но от этого не менее очаровательной — запечатлена она на кинопленке: в начале семидесятых годов Георг Отс исполнил здесь «Песню о Таллине», ставшую едва ли не первым «музыкальным клипом» таллинской тематики. «…Я только в него влюблен», — каждым рефреном признавался легендарный баритон в чувствах к городу, который он, вопреки записи в метрике, по праву мог считать для себя родным.* * *
И все же — почему именно она, Мусумяги, Поцелуева горка? Чему или кому обязана она своим романтическим именем? Само расположение бывшего бастиона может навести на ложный след: хронист Бальтазар Руссов писал в начале XVI века о «возмутительном обычае» горожан времен католичества — встречая и расставаясь, многократно целоваться. Обычай оказался живуч: служивший в Ревеле последней трети XVIII века домашний учитель из Веймара Христиан Шлегель отмечал, что здешние юноши, в отличие от германских сверстников, целуют своим возлюбленным при встрече не руку, а уста. Городские ворота, конечно, для расставаний и встреч — самое подходящее место. Но топоним Мусумяги — не настолько древний. В разговорной речи таллинцев он закрепился не ранее рубежа двадцатых — тридцатых годов прошлого века. Объяснений у названия существует два: романтическое и приземленное. Согласно первому, заросли сирени привлекали на горку влюбленных: ажурная парковая беседка стала местом первого поцелуя для поколений таллинских гимназистов и школьников. Вторая версия гораздо циничнее: говорит она о том, что в первой половине XX века полиция — с равным рвением и царская, и эстонская — гоняла девиц легкого поведения сглавной торговой артерии Старого города — улицы Виру. Не желая терять клиентуру, «ночные бабочки» при приближении постового «вспархивали» на ближайшую горку. И уже из парка посылали своим потенциальным клиентам воздушные поцелуи: отсюда, дескать, и название. Справедливости ради стоит отметить: «улицей красных фонарей» Виру все же никогда не слыла, а уличная проституция была распространена в кварталах, примыкающих к гавани. Так что, вероятно, истина — за романтикой. Тем более что в Тарту и Вильянди Поцелуевы горки обязаны своими названиями именно влюбленной молодежи.* * *
Где влюбленные — там, разумеется и цветы. А где цветы — там и цветочницы: никто уже и не помнит, когда первые из них обосновались в окрестностях нынешней Поцелуевой горки. Во всяком случае, на открытках и фотографиях дореволюционного и довоенного времени на привычном месте их пока еще не видать. Но предшественник у современного цветочного рынка на улице Виру, вероятно, был. Правда, торговали на нем не цветами, а земляникой: с тех пор как в начале тридцатых годов Таллин открыли для себя иностранные туристы, совершавшие круиз по портам Балтийского моря, они неизменно спешили за ней именно «к лестницам Вируской горки». Можно предположить, что во второй половине сороковых годов, когда Таллинский городской рынок из-под стен театра «Эстония» был перенесен на свое нынешнее место, часть торговцев цветами решила сохранить верность центру столицы. Благо торговать ими можно было в буквальном смысле «с рук». Да и стоящие на страже принципов социалистической торговли милиционеры относились к пожилым горожанкам, предлагающим приобрести скромные букетики, достаточно снисходительно. Импровизированный цветочный базар у северного склона Поцелуевой горки, похоже, пришелся городу и горожанам настолько по вкусу, что даже бесцеремонные кооператоры времен Перестройки стали ставить свои ларьки чуть в стороне от него. К тому времени, впрочем, торговля цветами на улице Виру переросла в серьезный бизнес. Разномастные, выстроенные без какой-либо логики дощатые будки цветочниц облик «главного входа» в Старый город отнюдь не украшали. В самом конце девяностых годов рынок переехал в новые помещения, удачно встроенные в склон Поцелуевой горки: тому, кто сегодня приходит на Поцелуеву горку впервые, кажется, будто цветочный ряд был здесь всегда. Жаль только, что товар, прямиком доставленный из голландских и польских теплиц, полностью вытеснил на улице Виру цветы, выращенные непосредственно в Таллине и его окрестностях. Неисправимым романтикам и любителям местной экзотики остается лишь порекомендовать цветочные ряды на северо-восточной оконечности площади Свободы. Тамошний товар — особенно летом и в первой половине осени — однозначно местный.* * *
Название, не менее восьми десятилетий бывшее исключительно изустным, на карте Таллина было официально закреплено в 2001 году. А еще через шесть лет — в мае 2007-го — романтическое название Поцелуевой горки обзавелось «материальным подтверждением»: двумя скульптурами — «Миг до поцелуя» и «Миг после поцелуя». О художественных их достоинствах, откровенно говоря, можно дискутировать. Но в городское пространство и, что, безусловно, даже еще более существенно — в мир городского фольклора, им удалось вписаться легко и непринужденно. У молодежи есть поверье: если влюбленные, встав по разные стороны от достаточно брутальных изваяний, смогут взяться за руки и поцеловаться — роман их наверняка не останется случайным и мимолетным. Что ж, такому «творческому переосмыслению» ставшего наконец официальным топонима Мусумяги можно только искренне порадоваться — от всего сердца.Love street
У каждого времени — свои ритуалы и свои приметы. И неформальные названия — тоже свои, порой непонятные потомкам. Лет сто тому назад предки нынешних таллинцев звали нынешнюю Морскую аллею парка Кадриорг аллеей Влюбленных: облик ее и впрямь располагал для прогулок счастливых парочек. Этимологию неофициального таллинского топонима «улица Любви», или, на английский манер, Love street, отследить немудрено. Но почему он твердо закрепился за отрезком улочки Лаборатоориуми — окончательно неясно. Еще более удивительна живучесть связанных с ним поверий: школьницы еще и в середине девяностых годов верили, что самый надежный метод «приворожить» симпатию — написать его имя на стене дома на «улице Любви». Похоже, что «улица Любви» досталась подросткам последнего десятилетия XX века от их родителей и старших сестер-братьев: местных последователей движения хиппи, знакомых с одним из хитов группы «Doors» — песней «Love street». Англоязычное словосочетание — вкупе с изрядно полинявшим от времени знаком «пацифика» — красовалось на стене дома на углу улиц Лай и Лаборатоориуми вплоть до самой его реставрации, осуществленной на рубеже нынешнего тысячелетия. Почему именно этот уголок Старого города таллинские последователи заморских «детей цветов» решили избрать в качестве культового места, не помнят даже те, кто активно «хипповал» в конце шестидесятых — начале семидесятых. Один из патриархов местных хиппи вспоминает: в «довиртуальную» эпоху стены домов на окраинной улочке выполняли функцию интернет-чата — приезжающие в Таллин хиппи писали сообщения о месте возможной «вписки». Так это или не так — проверить невозможно. Но то, что «доска объявлений» адептов «свободной любви» со времен превратилась в объект паломничества для жаждущих любви верной, — примечательно. И пусть современной таллинской молодежи топоним Love street не говорит практически ничего. Кто знает, каким смыслом наполнят улочку на окраине Старого города их дети?
За окном: эхо свадеб
Века полтора тому назад среднестатистического петербуржца манили в Ревель целебные свойства местной морской воды: понятия «эффект плацебо» еще не существовало, но действовал он безотказно. Его современный наследник, если верить официальной статистике, чаще всего приезжает в Таллин ради погружения в атмосферу усредненно-европейской рождественско-новогодней сказки. От родителей он наверняка знает: в семидесятые — восьмидесятые годы у столицы тогдашней Эстонской ССР был несколько иной «туристический профиль» — сотни, если не тысячи ленинградцев ежегодно стремились провести медовый месяц именно здесь. После того как злополучный «железный занавес» проржавел настолько, что рухнул, популярность Таллина в качестве основного направления «свадебного туризма» для жителей города на Неве упала практически до нулевого уровня. Но это вовсе не означает, что отголоски свадебных празднеств былого Таллина стихли навсегда. Практически неразличимые в туристическом гуле Старого города, они эхом звучат на страницах архивных документов. И, само собой, — в городском фольклоре.* * *
Средневековым человеком бракосочетание воспринималось как кульминационный момент земной биографии: в немецком языке свадьба и по сей день звучит как «Hochzeit»; в дословном переводе — «вершина времени», «расцвет», «разгар». Именно в городах Германии на самом излете Средневековья возник такой феномен, как «Hochzeitshaus»: представительное здание, построенное либо напротив ратуши, либо в непосредственной близости от нее и предназначенное для проведения свадебных пиров. До возведения его таллинского аналога дело не дошло, но по крайней мере одна сыгранная в городе свадьба оставила несомненный след в таллинской архитектуре. Он и по сей день хорошо различим на фасаде жилого дома по адресу Ратаскаеву, 16. Точная дата проведения свадебного пира неизвестна, равно как и имя невесты. Зато жених может похвастаться воистину общемировой известностью: городской фольклор уверен, что свадьбу в былом Ревеле справлял не кто иной, как сам Нечистый. Прибыв в город инкогнито, Черт поспешил к хозяину дома, стоящего аккурат напротив Колесного колодца. Себя он выдал за богатого иноземца, желающего сочетаться браком в Таллине и остро нуждающегося потому в помещении для проведения торжеств. Домовладелец, молодой человек, промотавший на женщин, вино и карты родительское наследство, как раз подумывал уйти от кредиторов через веревочную петлю. Гость предложил помочь ему — оплатив за аренду зала на один вечер все скопившиеся долги. Своего нового знакомого чужестранец попросил об одном одолжении: ни за что не пытаться увидать во время свадьбы невесту Парень пожал плечами и пообещал не подсматривать за избранницей своего благодетеля даже в замочную скважину. Ровно в полночь площадь перед домом наполнилась цокотом копыт и щелчками кучерских кнутов; лестница заскрипела, привычно приглушенная шелестом пышных шелковых юбок; послышались голоса многочисленных гостей и бравурная музыка. Все было бы ничего, но и улица, и жилище оставались при этом пустыми. Любопытство боролось в душе домовладельца с данной иноземцу клятвой — и он решил действовать хитростью: посмотреть на диковинную свадьбу, не нарушая заключенный договор. Веревку, которую еще утром он планировал использовать совсем для других целей, молодой человек крепко обмотал вокруг пояса. Выбравшись через чердачный люк на крышу, он привязал другой ее конец к каминной трубе, по-кошачьи подполз к карнизу, свесился с него и, не нарушая своего обещания, заглянул в свадебную залу не сквозь замочную скважину, а с улицы, через окно: про окно-то ведь у них с женихом никакого уговора не было. Разглядеть невесту он не успел — поди угляди ее в вихре сатанинского шабаша! Крик ужаса вырвался у юноши, веревка отозвалась предательским треском, и через миг рухнувшее тело разбилось о мостовую. Нечисть сей же миг словно ветром сдуло. Разом погасли окна в праздничной зале. То, в которое успел заглянуть незадачливый домовладелец, навсегда задернулось черными каменными шторами…* * *
Само предложение арендовать для свадебного пира жилое помещение горожанину средневекового Таллина показалось бы по меньшей мере странным. По своей натуре он — впрочем, как и бюргер любого западноевропейского города той поры — был экстравертом: праздник не мог для него считаться состоявшимся, если оставался событием сугубо личным, семейным. Магистрат, особенно после Ливонской войны обеспокоенный борьбой с расточительством, пытался привить таллинцам привычку отправляться после церковного венчания пировать-танцевать-веселиться в дом новобрачных, да без особого толку. Разве что во время общегосударственных трауров по усопшим шведским монархам призывы эти имели какое-то воздействие. Если же король здравствовал, ничто не могло удержать горожанина от старинного обычая — отпраздновать свадьбу в гильдейском зале. Удивляться тут особенно нечему. Во-первых, человек Средних веков практически не мыслил себя вне профессиональной корпорации — гильдии. А во-вторых, само слово это происходило от древнегерманского корня, означающего пирушку или даже — попойку. В идеале, конечно, было снять для свадебного пира зал самой могущественной купеческой корпорации — Большой гильдии. Хотя удовольствие это было не из дешевых — полторы марки за вечер для гильдейских братьев, пятнадцать марок — для «сторонних». Под последними подразумевались исключительно те, кто мог сравниться с купцами богатством. То есть дворяне, не упускавшие возможности пустить бюргерам пыль в глаза размахом свадебного банкета. А вот ремесленники — сколь бы зажиточными они ни были — на свадьбу в Большой гильдии рассчитывать не могли: довольствоваться им полагалось помещениями собственных профессиональных корпораций, Только в самом конце восемнадцатого столетия, крайне неохотно, купцы позволили арендовать гильдейский зал городским служащим и «литератам» — горожанам с университетским образованием.* * *
Если верить очевидцу свадебных пиршеств ганзейского Ревеля — хронисту Бальтазару Руссову, то несчастного владельца дома по улице Ратаскаеву, 16, мог напутать разве что внешний облик нечистой силы, но никак не масштабы ее кутежа. Как пишет он, гостей на дворянскую свадьбу начинали сзывать со всей Ливонии чуть ли не за три месяца: если учесть, что это образование занимало территорию как нынешней Эстонии, так и Латвии, срок по большому счету вполне разумный. Многочисленные гости начинали собираться за несколько дней до венчания. Двумя пышными кавалькадами — одна следовала за гарцующим на жеребце женихом, вторая — за едущей в дамском седле невестой — они торжественно въезжали в Таллин. На следующий день молодых вели к алтарю и после формальной церемонии — Руссов, будучи лютеранским пастором, не мог удержаться от критики священников католической поры — сразу же направлялись в Большую гильдию. «Тут происходило безмерное пьянство, особенно у слуг орденских и дворянских, — свидетельствует автор „Хроники Ливонии“. — Один перед другим выпивал половину или целую дюжину маленьких кубков с пивом один за другим, пока не выпивал их залпом. Точно то же должен был делать и его соперник, если не хотел, чтобы тот всадил ему в живот короткий кинжал. Такое пьянство не происходило без того, чтобы не проливали много пива; пол становился совершенно мокрым, так что нужно настилать сена. Кто мог наилучше пить и бражничать, драться, колоть и бороться, ругаться, проклинать и призывать на других чуму, тот считался первым молодцом и его сажали выше всех и почитали его больше всех. Когда все напивались до безумия, тогда начинали бороться, драться и колоть друг друга, не только на улице и в сенях, но и в самой гильдии, где сидели женщины и девушки, и все должны были вскакивать на высокие столы и скамейки. Тогда они хватались за чаши, которые были величиной с боевой меч и которые можно было удержать только обеими руками. Тогда многие рассекали головы и отрубали руки, так что цирюльникам и костоправам приходилось работать день и ночь…»* * *
У купцов, по словам Руссова, дела обстояли не намного лучше: свадьба обходилась без кровопролития, но деньги на наряды и изысканные кушанья тратились безудержно и безрассудно. Вероятно, подобным расточительством был обеспокоен не только хронист-морализатор, но и отцы города: по крайней мере, с конца XV века таллинский магистрат пытается урегулировать размах свадеб законодательными актами. Магистратские распоряжения стремятся в деталях прописать не только время начала и окончания свадебного банкета, количество дозволенных танцев и блюд на столе, но и даже их… цвет: подавать «черную похлебку» позволялось, а «желтую» — нет. Тщетно искать в этих цветовых рекомендациях скрытую символику: вопрос тут исключительно «денежно-гастрономический». В первом случае речь идет о супе, заправленном свиной кровью, во втором — о сдобренном драгоценным шафраном. Под тем же девизом борьбы за умеренность гостям свадебных пиров в ремесленных гильдиях не разрешалось подавать редкое и изысканное заморское кушанье — рисовую кашу. Купцам она была позволена — но исключительно без миндальной подливы. Чтобы избавить молодых или их родителей от штрафов за возможную пропажу во время пира парадной гильдейской посуды, подавать на серебре допускалось лишь первую перемену блюд — последующее угощения полагалось есть-пить из оловянной посуды. Регламентировано было и число гостей — на пиру в Большой гильдии, например, могли присутствовать не более восьмидесяти ратманов, бюргеров[2] и лиц духовного звания, столько же — женщин и девиц, а сверх того — пять дюжин купеческих приказчиков. Вероятно, этот лимит постоянно превышался — магистрату это так действовало на нервы, что в начале XVII века столешницы в гильдейском зале были решением властей демонстративно укорочены с помощью пилы… Более того — отцы города добились изготовления специальных решетчатых ограждений: танцевать как гостям, так и участникам свадьбы разрешалось отныне только на пространстве, ограниченном ими. В 1631 году Бернхард фон Гертен, сын бургомистра, разгоряченный пляской, демонстративно перепрыгнул через решетку — отцу пришлось пережить позор и заплатить внушительный штраф. Дошло до того, что магистрат пригрозил вовсе запретить гильдейские свадьбы — и выстроить собственный «Hochzeitshaus», где пиры будут проходить с благопристойной скромностью. Этого все же не случилось: то ли горожане и впрямь задумались о морали, то ли свободных средств на возведение еще одного общественного здания в городской казне не нашлось.* * *
Документы Городского архива позволяют реконструировать свадебные празднества былого Ревеля, но увидать их воочию, увы, невозможно. Иконографического материала по средневековым таллинским свадьбам вообще не сохранилось: к тому времени, когда светская живопись распространилась на далекую северную окраину Европы, золотая пора их давно минула. Лишь роспись люнета в сенях здания Большой гильдии в некоторой степени может служить подмогой. Правда, полотно, выполненное в середине XIX века, полно неточностей и изображает иное событие, но общую атмосферу — наверняка передает. Изображена на нем не сама свадьба, а ее «игровое подобие»: торжественный въезд в город «Майского графа» — победителя ежегодного весеннего турнира. Рука об руку с ним следует на коне его избранница — «Майская графиня»: самая красивая девушка города. Нет сомнений, что именно этот праздник вдохновил Пауля Флеминга — мастера поэзии немецкого барокко, который жил одно время в Таллине первой трети семнадцатого столетия и даже планировал создать здесь семью, — на написание поэмы «Снежная графиня Ливонии». По форме это пространное воспоминание о бракосочетании некого Андреса Рюттингса с Аннен фон Хольтен, состоявшемся в феврале 1636 года. По содержанию же — «лебединая песнь» уходящим в прошлое свадебным пирам средневекового Ревеля. Здесь есть все: и сияющая колесница Гелиоса, въезжающая на заиндевелый небосклон; и пир, «подобный шумом битве»; и даже ритуал, достойный «чертовой свадьбы» в доме на Ратаскаеву, 16: слуги внезапно гасят свечи, и кавалеры ищут свою пару вслепую. При этом о недоброй славе адреса, известного ныне всякому любителю туристической «чертовщины», ни Флеминг, ни воспетые им новобрачные, ни один из их таллинских современников, понятное дело, еще и не догадывался. Первый дом с «фальшивым окном» — правда, не прорубленным в толще стен, как в бюргерском жилище напротив Колесного колодца, а нарисованным поверх штукатурки — появился в Таллине лишь полвека спустя — в 1685 году. Возведен он был на углу улиц Лай и Айда в духе барокко: требования архитектурного стиля, ценившего строгую симметрию фасадов, заставили зодчего прибегнуть к курьезному элементу декора. Приблизительно века полтора спустя — уже в эпоху классицизма — он был применен в таллинской архитектуре еще раз: при перестройке средневекового домовладения на улице Ратаскаеву. Впрочем, совсем не исключено, что владелец предпринял ее накануне свадебного банкета: не коварного повелителя преисподней, разумеется, а своего. Или же — кого-нибудь из домочадцев.* * *
В ресторане, что обосновался в доме «чертовой свадьбы», позаимствовав у него в качестве названия его точный адрес, снять зал для свадебного пира, разумеется, можно. Набравшись храбрости, конечно, можно при желании провести первую брачную ночь в комнате за окном с «окаменевшими гардинами» — над заведением общепита ныне расположены апартаменты для гостей. Являются ли им во снах женихи и невесты ганзейского Ревеля, пышные пиры средневековых свадеб? Многочисленные туристические форумы интернета хранят на этот счет молчание. Следовательно, остается только одно — выбрать направлением свадебного тура Таллин. Или отправиться сюда в поездку, отметив очередную годовщину заключения брачного союза. И удостовериться на личном опыте: «Уста любимой слаще здесь стократ, чем лучших поваров произведенья» — так же, как и во времена поэта Флеминга четыреста лет тому назад.Дом для невесты
После регистрации брака в Департаменте семейного состояния таллинские молодожены наших дней отправляются для фотографирования в парк Кадриорг, на водопад в Кейла-Йоа или к памятнику затонувшему броненосцу «Русалка». Скромное строение, расположившееся над аркой, замыкающей переулок Биржевого прохода со стороны улицы Лай, не пользуется у них даже подобием популярности. И совершенно зря: к свадебным обрядам былого Ревеля оно имеет прямое отношение. Двухэтажный домик был выстроен в 1510 году для так называемой невестиной каморы — специального помещения, в которое новобрачных торжественно сопровождали ближайшие друзья и родственники после того, как свадебный пир был окончен. До сих пор неясно, был это чисто ритуальный акт, или же молодые проводили в «невестиной каморе» первую брачную ночь, как было это принято в ряде городов ганзейского региона. В любом случае с начала XVII века по первоначальному предназначению домик не используется: Таллин переживал экономический кризис, и купцы сдали «невестину камору» в аренду. Арендатора определили путем конкурса: наиболее высокую плату за пользование помещением предложил мастер, специализировавшийся на изготовлении украшений для шляп. Нет сомнений, что среди участников свадебных пиров его продукция пользовалась стабильным спросом, как и среди самих новобрачных.
Свидетельство чувств: имена усадеб
Увековечить имя супруги на внутреннем ободке обручального кольца большинству современных таллинцев — вполне по плечу. Те, кому этого кажется недостаточно, просят гравера вырезать имя супруги на навесном замке: так как с мостами в Таллине явный дефицит, вешают их на корабельные цепи у подножия памятника погибшему броненосцу «Русалка». Обыватели былого Ревеля могли бы подать современным мужьям хороший пример: на городское имущество они ни в коей мере не покушались, но память о нежных чувствах, которые питали они к своим супругам, сохранить для потомков сумели. Эта память живет в городском пространстве Таллина вот уже без малого двести лет — в названиях улиц и парков, торговых центров и остановок общественного транспорта, в легендах, наконец. Во всем том, что на профессиональном жаргоне краеведов и культурологов принято называть «текстом города».* * *
Вопреки распространенному — и, как часто бывает в подобных случаях, наверняка ошибочному — убеждению, территория средневекового города вовсе не ограничивалась кольцом крепостных стен. С внешней стороны фортификационный пояс окружала застройка предместий, за ними простирались городские пастбища, оброчные земли магистрата, принадлежавшие бюргерам загородные сады. Первые упоминания о них относятся к шестнадцатому столетию, первые визуальные изображения — семнадцатому, но «золотым веком» загородных садов и возникших при них усадеб стал рубеж восемнадцатого-девятнадцатого. Город, залечивший раны Северной войны, хотя и не сумел вернуть себе былого экономического процветания — сказывалась растущая конкуренция портов Риги, Санкт-Петербурга, Пярну, — вновь вернулся к спокойной, размеренной жизни. Первыми летними резиденциями поспешили обзавестись в предместьях дворяне Верхнего города. Ближе к концу XVIII века о существовавшей еще со времен шведского владычества практике вспомнили и представители «третьего сословия» — купцы. К концу первой трети следующего столетия стремление снять на лето дачу охватило и ремесленников: по свидетельствам очевидцев, даже самые небогатые таллинцы стремились обзавестись «хоть комнатой с садиком или самой скромной хижинкой». Последние, разумеется, сгинули без следа. Но порядка тридцати летних усадеб былого Таллина сохранились до наших дней. Иные — исключительно в топонимике, другие — вполне материально.* * *
Планировка дворянских и бюргерских «дач» двухвековой давности была по большей части стандартна: с поправкой на масштаб они копировали баронские усадьбы в сельской местности. Композиционным центром ансамбля был, как правило, одноэтажный дом: самые богатые «дачевладельцы» со временем надстраивали его мезонином, а то и полноценным вторым этажом. За домом располагались служебные помещения — конюшни, кузницы, жилье для прислуги, обязательно — подземный ледник: в отличие от «настоящей» помещичьей не было разве что зерновых амбаров. Если в окрестностях имелись родники, территорию поместья окружал искусственный водоем, усиливающий сходство «дачи» с защищенным крепостным рвом поместьем, некогда перестроенным из замка рыцарских времен. Вода наполняла и многочисленные пруды — помимо выполнения чисто декоративных задач, использовались они и в хозяйственных целях: в них, как правило, разводили зеркальных карпов; эстеты экспериментировали с выращиванием устриц. Встречались, разумеется, исключения из правил, обусловленные особенностями рельефа, художественными предпочтениями или финансовыми возможностями хозяев. Но больше всего они соперничали друг с другом не обликами своих дач, а их… названиями. Тут тоже существовало несколько «типовых» правил. Иногда летняя усадьба заимствовала имя у окружающей местности. Порой — нарекалась иностранным, умышленно причудливым словом. Не склонные к оригинальничанию горожане просто превращали в название «дачи» собственную фамилию, снабдив ее приставкой, означающей долину, гору или место отдыха. Как минимум семь былых таллинцев решили пойти более романтичным путем: свои загородные владения они нарекли в честь любимых жен.* * *
Традиционно считается, что первым имя «лучшей половины» присвоил своей таллинской летней резиденции Петр I. Название Екатериненталь, нынешний Кадриорг, звучит тому недвусмысленным доказательством — но только если позабыть, что в письменных источниках оно начинает фигурировать лет через тридцать после смерти царя-реформатора. По всей вероятности, пальма первенства в данной области принадлежит все же принцу Петеру Августу Фридриху Хольштайн фон Беку — или же Петру Фридриховичу Гольштейн-Бекскому, как звали его на русской службе. Потомок датских монархов и шестиюродный дядя Петра III, петербургский генерал-губернатор в неполный год правления своего царственного родственника, он был удален из столицы после дворцового переворота, приведшего к власти Екатерину II. О блистательном Санкт-Петербурге и придворном блеске пришлось, увы, позабыть, но должности эстляндского генерал-губернатора, которую Хольштайн фон Бек занимал в 1743–1753 годах и вновь — с 1758 года, императрица его не лишила. Здесь, вдалеке от славы и интриг, он смог посвятить себя тем радостям жизни, которые дарил провинциальный Ревель. В 1760 году Петер Август приобрел основанную за несколько десятилетий до того летнюю усадьбу. По имени супруги нового владельца «дача» генерал-губернатора получила название Наталиенхоф: в дословном переводе с немецкого «двор», но точнее все же «усадьба Наталии».* * *
Названия загородных резиденций ревельских обывателей полутора-двухвековой давности стабильностью и постоянством не отличались. Умирал владелец, разорялся или же, напротив, получал повышение по службе, меняя место жительства, — и уже успевший стать в речи горожан привычным топоним уступал место новому. Хольштайн фон Бек скончался в 1775 году Его супруга, урожденная графиня Наталья Николаевна Головина, покинула этот мир на восемь лет раньше мужа. Название, присвоенное летней усадьбе в ее честь, не пережило порога девятнадцатого столетия. Во всяком случае, новый владелец усадьбы — ратман Дидрих Роде, выкупивший мызу в 1803 году, уже именует ее в официальной переписке Шарлотенталем — «долиной», стало быть, уже не Наталии, а Шар лоты: по имени своей супруги, понятное дело. Кстати, топоним этот оказался на редкость «живучим»: само поместье к середине XIX века превратилось фактически в фабрику, но вода обнаруженного в его окрестностях источника была признана минеральной — Роде всерьез взялся за торговлю ею. Еще лет сто сорок тому назад ревельские аптекари предлагали своим пациентам отведать «Шарлотентальской воды»: помимо всего прочего, она, как считалось, повышала иммунитет против холеры.* * *
Абсолютным в Таллине «чемпионом по переименованию», стало, пожалуй, скромное и ничем иным не примечательное поместье Мариенталь. Судите сами: вначале — мыза Мюленхоф. Потом — Анненхоф. Затем — Мариенталь, то есть «Долина Марии». Но и это еще не все: в середине двадцатых годов прошлого века ее начинают называть Мариенру — «Отдых Марии» или «Мариинский покой». Ни знаменитыми владельцами, ни архитектурно-парковыми достоинствами усадьба Мариенталь не отличалась. Постройки ее бесследно сгинули в послевоенное десятилетие, а на закате советской власти превратились в болото и были засыпаны рыбные садки. А улица, которая вела некогда к ним — сохранилась. С 1946 года она носит название Марья. Вроде бы — просто Ягодная в переводе с эстонского. Но, с другой стороны, звучащая очень уж схоже с «Мариинской» — опять-таки, на эстонский манер. Название прижилось: в шестидесятые годы оно распространилось на ближайшую троллейбусную остановку, еще через десятилетие — на продовольственный универсам, выстроенный в непосредственной близости от нее, почти на месте былой усадьбы! Несколько лет назад на противоположной стороне улицы вырос офисный комплекс «Marienthal» — едва ли не самый яркий пример современной архитектуры в ближайших окрестностях. Вне сомнения, небогатый, судя по всему, ревельский бюргер, подарившей некогда своей «даче» имя супруги, вряд ли мог мечтать о подобной славе!* * *
Только специалисты да самые увлеченные любители таллинской старины смогут сходу сказать, где располагались летние поместья Гертруденлуст или Климентиненталь — при том, что постройки последнего сохранились в целости и сохранности. Мало кто помнит печальную историю Эрхарда Дегио: приобретение загородной усадьбы бережливый бургомистр откладывал и откладывал. Жена скончалась, так и не дождавшись покупки: название Анненхоф было присвоено «даче» в ее память посмертно. Зато Луиза фон Штайнхаль у горожан на слуху. Хотя из проезжающих ежедневно по улице Луизе мало кто догадывается, что своим именем она обязана летнему поместью Луизенталь, приобретенному вдовой барона фон Штайнхаля в 1791 году. Примечательно, что покупательница сама решила увековечить в названии «дачи» свое имя. Кто знает, не этот ли беспрецедентный шаг спас улицу от переименования: в двадцатые годы ее предлагали назвать в честь… героини национального эпоса — Линды.* * *
Единственная, пожалуй, загородная усадьба, и по сей день хорошо известная таллинцам под своим, хотя и видоизмененным, именем — Мариенберг, теперешняя Маарьямяги: здесь расположен филиал Исторического музея, в котором хоть раз в жизни горожане бывают. В переводе — что с немецкого языка, что с эстонского — топоним этот означает «гора Марии». Вопрос только — какой именно Марии: это имя одновременно носили и жена, и дочь графа Анатолия Орлова-Давыдова, купившего себе ревельскую «дачу» в 1873 году. Если быть совсем точным, шталмейстер его императорского величества рискнул приобрести промышленные предприятия: комплекс построек бывшей сахарной мануфактуры, впоследствии успевших побыть спиртовой и крахмальной фабрикой. Развивать производство высокопоставленный петербургский царедворец не планировал: его в первую очередь прельщал открывающийся с фабричного двора вид на Ревельскую бухту с рисующимся вдали силуэтом городских башен и шпилей. Не иначе, именно он вдохновил нового владельца недвижимости перестроить производственные корпуса в уютный «замок», решенный в духе неоготической архитектуры — со ступенчатым фронтоном и зубчатой «дозорной» башней. Возможно, именно облик усадьбы Орлова-Давыдова послужил основой легенды, точнее — заблуждения, время от времени встречающегося на страницах газет и путеводителей столетней давности. Дескать, граф «возродил» средневековый топоним: Мариенберг якобы носил это название еще во времена католичества, когда Деву Марию почитали покровительницей всех Ливонских земель. Версия звучит красиво, да только возрождать владельцу усадьбы было нечего: в купчей недвижимость зовется Цукерберг — Сахарная горка. До того холм звали Штрейтберг — Гора поединка. Последнее содержит намек на вооруженную стычку времен Ливонской войны: в 1558 году отряд Братства Черноголовых столкнулся где-то по дороге в Пирита с разъездом московитов. Подлинной же «Мариинской горой» в средневековом Ревеле мог бы быть холм Тоомпеа. Хотя название это он и не носил, здесь располагался и собор, посвященный Деве Марии, и Мариинская гильдия. Единственный в Средние века общественный колодец на территории Верхнего города назывался Мариинским — под защиту матери Иисуса источник воды был передан для пущей надежности. Впрочем, к именам жен ревельских обывателей, запечатленным в названиях летних усадеб, это отношения уже не имеет.* * *
…Жаркий летний вечер — никто, правда, не может сейчас уже сказать, какого точно года — запомнился ревельским обывателям надолго. В парке загородной усадьбы Левенру, славной своим кегельбаном, кондитерской, заведением минеральных вод, а пуще всего — павильоном для бальных танцев, случилось чрезвычайное происшествие. Некий щеголеватый морской офицер осмелился пригласить на танец даму, явившуюся на бал с ремесленным подмастерьем: надо сказать, хозяин радушно позволял посещать свою «дачу» всем, лишь бы только одеты те были прилично. Кавалер ответил военному дерзко, офицер схватился за шпагу, ремесленник взял в руки увесистое кресло… Кто кого ударил первым — за давностью лет уже и не упомнишь. Да только вызванный из города медик констатировал две смерти разом. Именно это печальное событие, по мнению публицистов конца XIX века, ознаменовало собой закат некогда популярнейшего у горожан места загородного отдыха. А следом — и всей традиции благоустройства летних усадеб. Понято, что это — не более чем легенда: то же поместье Левенру было выкуплено у былых владельцев купцом Фридрихом Нольте и превращено в мануфактуру по изготовлению уксуса, селитры, краски и, внезапно… шоколада уже в 1804 году. Скорее всего, интерес к далеким предкам последующих «дач» начал угасать после того, как горожане открыли для себя прелесть морских купаний: большинство летних усадеб располагалось достаточно далеко от побережья. В условиях зарождения капиталистической экономики преобразовать былые места отдыха в приносящие доход предприятия оказалось банально выгоднее — «дуэль» офицера с подмастерьем тут вовсе ни при чем. К началу двадцатого столетия практика присвоения загородным усадьбам женских имен в Таллине полностью угасла. В отличие, например, от Пярну, где она дожила чуть ли не до Второй мировой войны. Суждено ли красивой традиции возродиться еще раз? Делать какие-либо прогнозы трудно. Но если таллинские мужья любят своих жен не меньше, чем двести лет тому назад, шанс имеется.Королевский подарок
Усадьбы Маарьямяги и Анненхоф расположены по пути или же в самом районе Пирита, Климентиненталь — на обрыве над парком Кадриорг; Луизенталь — практически в самом центре современного Таллина. Однако абсолютное большинство предшественников нынешних дач располагались к юго-западу от городских стен — вдоль нынешних улиц Эндла, Тонди, Мустамяэ теэ: на территории района, называющегося Кристийне. Историческое его имя — Кристиненталь: долина Кристины. Среди горожан-эстонцев бытовал топоним «Кристинеский покос», что, собственно, соответствовало истине: еще и в конце позапрошлого века здесь косили сено, заготавливая на зиму фураж. Покос площадью в добрых четыреста с лишним гектаров долгие годы был камнем преткновения в земельных спорах между городской общиной и наместником замка Тоомпеа — каждый считал его своим исконным владением и отдавать соседу не хотел. Конфликт, тянувшийся едва ли не через все Средневековье, удалось разрешить лишь в середине семнадцатого столетия: трехлетняя тяжба в надворном суде Стокгольма волей правящей королевы Кристины была благополучно разрешена в пользу таллинцев. Благодарные отцы города навсегда увековечили имя своей покровительницы на карте Таллина. А затем — разбили полученную в пользование землю на сорок девять земельных участков, разыгранных между ратманами и гильдейскими старейшинами. Полученные наделы вскоре были обнесены изгородями и превращены в загородные сады. К концу шведского времени пятнадцать из них стали летними усадьбами — предшественницами тех, что носили позже имена бюргерских жен. Следует отметить, что сама королева Кристина замужем так никогда и не была, хотя претендентов на руку и сердце дочери монарха-полководца, «Северного льва» Густава II Адольфа, правительницы динамично развивающейся сверхдержавы тех лет, хватало. Кристина отказала всем, открыто заявив, что намерена хранить вечное девство по примеру королевы Елизаветы Английской. А в двадцать восемь лет и вовсе официально отказалась от престола. Покинув родину инкогнито, в мужском платье, она после долгого путешествия добралась до Рима, где еще раз шокировала всю Европу — отреклась от протестантизма в пользу католичества. Сложно даже представить себе, какие сплетни и пересуды породили известия об эскападах бывшей королевы-благодетельницы в провинциальном Ревеле середины XVII века…
Вершина любви: детский город
Таллин — если судить по его названию — город датский. Однако назвать его детским оснований имеется предостаточно. В самом деле: где, как восклицал некогда киногерой, теперь те датчане? С детьми же в Таллине встретишься на каждом шагу: в оформлении фасадов, в топонимике, в городских преданиях. Если верить им, дети не просто жили в городе во все времена, но и принимали самое непосредственное участие в формировании его архитектурного облика — правда, не всегда по собственной воле.* * *
Город, выросший на берегу Таллинской бухты, большую часть своей биографии мечтал стать островом — частью суши, со всех сторон окруженной водой. К середине восемнадцатого столетия мечта эта практически осуществилась: ломаная линия городского рва замкнулась вокруг бастионов, равелинов и куртин, укрепляя в горожанах чувство собственной безопасности. Специалисты и по сей день спорят — был ли год, когда все отрезки Таллинского рва оказались одновременно заполнены водой. Фольклор в спор не ввязывается — он старается объяснить, почему «островной» период в истории города оказался столь недолгим. Рассказывают, что как-то на закате летнего дня горожане прогуливались на крепостных валах: в мирное время комендант Ревеля вполне дозволял это. Чинно вышагивали отцы семейств, степенно совершали моцион старики, щебетала молодежь, дурачилась ребятня. Вечернюю идиллию нарушило появление незнакомца, самим обликом выделявшегося на фоне беззаботной публики. Чем-то древним, суровым, тревожным веяло от него — словно из средневекового могильного склепа, ненароком вскрытого при ремонтных работах. Погруженный в собственные мысли, словно не замечая вокруг себя ничего, рыцарь в монашеской рясе поверх лат неспешно поднимался к замку Тоомпеа. Внезапно окаменевшее лицо его перекосила гримаса не то ужаса, не то презрения. Гость из мрачного Средневековья прислушался. До него доносился возмутительный детский смех, живой и пронзительный: мальчик с девочкой развлекали себя тем, что бросали в подернутый тиной и ряской городской ров камешки. Увидав рыцаря, они и не подумали испугаться. А когда тот подошел поближе, то и вовсе начали потешаться над его старомодным, показавшимся им таким смешным и нелепым одеянием. Возмущению призрака не было предела. Он простер над детьми свою закованную в броню длань и произнес: «Изменить вашу судьбу я не в силах, но за непочтение ко мне поставлю у нее на пути преграду. Небесами вам суждено быть вместе. Но соединиться навек вы сможете не раньше, чем собственноручно засыплете городской ров доверху и не сроете крепостные валы до основания!» Пророкотал так — и сгинул без следа. А беззаботные дети вернулись к своей забаве, не понимая, что она стала их проклятьем: кидать камешки в воду придется им до скончания века.* * *
Звучит невероятно, но непосредственная связь между судьбой городских укреплений и юными горожанами в Таллине и вправду существует. Хоть и не столь драматическая, как повествует легенда. В 1823 году группа горожан обратилась к магистрату с просьбой: создать в городе парк — слишком уж далеко и неудобно было добираться до аллей Кадриорга в пору не знавшую общественного транспорта. Просьба была подкреплена обещанием оплатить все работы по созданию будущего зеленого оазиса за счет ходатайствующих. Городские власти дали добро — и летом того же года у Харьюских ворот возник так называемый Детский сад. Для его создания пришлось срыть часть вала, прикрывающего южные подступы к городской стене, — впрочем, он давно уже морально устарел и потому не рассматривался военно-инженерной командой города всерьез. Сад, вернее — парк, как и следует из его имени, предназначался прежде всего для прогулок самых юных горожан под присмотром бонн и гувернанток. Но вскоре его облюбовали для себя и таллинцы, определенно вышедшие из нежного возраста. Изящными манерами они явно не обладали: спустя пять лет после открытия в единственной городской газете даже пришлось публиковать правила поведения в парке: не ломать ветки, не лазать по деревьям, не обрывать листву с кустов. На протяжении второй половины XIX века Детский сад несколько раз приводили в порядок, пытаясь выдворитьза его пределы нежелательных посетителей: выпивох с ближайшего Сенного рынка и дам сомнительной репутации. Самая масштабная кампания была проведена в 1884 году, когда изрядно разросшиеся кусты проредили, а также установили летней павильон, «чтобы в случае дождя детям было укрытие», как трогательно поясняла газета. Топоним Детский сад существовал в повседневной речи таллинцев еще и в начале двадцатых годов XX века, десятилетием позже он превратился в достояние историков и краеведов. Парк же частично уцелел: несколько вековых деревьев, растущих у северной стены Яановской церкви на площади Вабадусе, — живая память о нем.* * *
Сама идея создать в городе место, предназначенное именно для детей, — свидетельство глобальных перемен в сознании европейцев Нового времени. Средневековью подобная мысль попросту не могла прийти в голову: в ребенке видели лишь «уменьшенную копию» взрослого. Слабую физически, а потому, как бы цинично это ни звучало, — ценимую значительно меньше. Средние века детьми не умилялись: раз в год они, словно нехотя, «воздавали им должное», отмечая в конце декабря День невинно убиенных младенцев — в память о злодействе, учиненном царем Иродом, пожелавшим убить новорожденного Иисуса. Об отмечании этой даты в Ревеле ганзейских времен неизвестно, да и местная художественная школа, похоже, не обращала на детей никакого внимания. «Детьми» здесь называли в ту пору членов одной корпорации: старейшее имя Большой гильдии — Детская. То немногое, что может быть принято за обращение к «детской тематике» в искусстве средневекового Таллина, — реконструкция последних полутора десятилетий. Например, барельеф Девы Марии с «не по-детски взрослым» младенцем на башне ворот Люхике-Ялг. «Открытие ребенка» принадлежит эпохе, вернувшей европейцам умение ценить красоту человеческого тела, — Ренессансу. Следующий за ним художественный стиль, барокко, научил не просто «видеть детство», но и откровенно любоваться им. Причем — не без жеманно-игривого умиления: даже ангелов, согласно христианской доктрине не имеющих ни возраста, ни пола, начали изображать в виде шаловливых младенцев: в искусствоведении их называют итальянским словом «пути». По-северному сдержанное барокко Эстонии не вывело пухлых ребятишек на фасады таллинских зданий ни в XVII веке, ни в XVIII. До здешних краев они добрались позднее — в пору увлечения «неостилями», сознательно копирующими искусство прошлых эпох. Необарочные младенцы с музыкальными инструментами в руках с 1911 года украшают фасад магазина на улице Айа, 3. Они же «позируют» на фасаде здания 1920 года постройки, занимающего квартал между улицами Вооримехе, Пикк и Кинга. Подобная трактовка образа ребенка продержалась в Таллине на удивление долго: даже скульптуры ряда декоративных парковых фонтанов явно тяготеют к «младенческой пухлости» — даром что установлены они были уже после Второй мировой войны. Курс на реализм был взят уже под грохот ее орудий: весной 1940 года скульптор Аугуст Вомм украсил бетонным барельефом только что возведенный дом квартирного кооператива «Oma pere» — «Своя семья». На любование «младенческой пухлостью» здесь нет и намека. Напротив — и малыш на коленях у матери, и стоящий чуть в стороне от нее подросток изображены предельно реалистично. Возможно, даже грубовато-утрированно. Особенно, если помнить, что квартиры в здании, расположенном на центральной улице Роозикрантси, предназначались отнюдь не для пролетариев. В этом плане оформление первых таллинских «хрущевок» было честнее: панно на их торцовых стенах вполне реалистично изображали среднестатистических горожан начала шестидесятых. Жаль только, что и взрослые, и дети, выполненные по рисункам художницы Валли Лембер-Богаткиной, скрылись под панелями пенопластового утеплителя лет десять тому назад…* * *
Вторая половина тридцатых годов XX века ознаменована появлением в Таллине нового «детского топонима». Точнее — возрождением прежнего, уже успевшего стать забытым, — Детского парка. Новый парк было решено создать фактически под окнами главы государства: президент Константин Пяте, ставший после 1934 года, по сути, авторитарным правителем, не прочь был примерить на себя популярную в тогдашней Европе роль «лучшего друга детей». руководитель Государственного паркового управления Пеэтер Пяте не пойти навстречу родному брату никак не мог. Алар Котли, «придворный архитектор» президента, набросал предварительный план, и в 1936 году на южной окраине Кадриорга закипела работа. Главной постройкой и композиционным центром возрождавшегося на новом месте Детского парка стал павильон с колоннадой, возведенный из дерева, но решенный в духе неоклассицизма и увенчанный импозантным куполом. Здесь расположились раздевалки — рядом был создан бассейн-лягушатник, помещения для спортивного инвентаря, комнаты для занятий природоведением и краеведением, рабочий кабинет методиста-педагога, сторожка. Гордостью комплекса стала просторная столовая, которая в считанные минуты могла быть превращена как в гимнастический зал, так и в кинотеатр — аппаратуру для него закупили в Германии. Детский городок в Кадриорге, открытый в независимой Эстонии, благополучно пережил войну. Верой и правдой он служил юным таллинцам и при ЭССР — в его помещениях работала спортшкола. Строения Детского парка оказались окончательно амортизированными в начале нынешнего тысячелетия: городские власти рассматривали тогда предложение его полного сноса. Оригинальный памятник архитектуры — а в не меньшей степени и памятник заботы властей довоенной республики о подрастающем поколении — удалось, по счастью, отстоять. С осени 2009 года в помещениях исторического «павильона с куполом» работает филиал Таллинского городского музея — так называемый Музей детских игр «Миа-Милла-Манда». Свое название он позаимствовал у героини детской книжки, популярной у довоенной эстонской детворы.* * *
Немецкий географ и путешественник Иоганн Георг Коль, посетивший Таллин в тридцатых годах девятнадцатого столетия, признавался: нигде прежде он не видывал на городских улицах такого количества детей. Причина здесь, пожалуй, не столько демографическая, сколько градостроительная: дворы Старого города, никогда не отличавшиеся особым простором, к началу позапрошлого столетия оказались застроенными по максимуму. Мостовые и тротуары оставались, по сути, единственным пространством для игр и прогулок. Отпрыски богатых семейств, которым возиться в уличной пыли было не к лицу, смирно восседали вместе со взрослыми на средневековых каменных скамьях у входа в дом. Существовать «детской» идиллии, искренне восхитившей гостя из Германии, оставалось совсем недолго. Буквально, через три-четыре десятилетия город решительно перешагнул крепостную стену, а горожане — потянулись в форштадты. Лет двадцать тому назад на территории былых исторических предместий можно было отыскать два топонима, имеющих к «детской странице» в истории Таллина самое непосредственное отношение: Ластекоду и Ластеайа. Сами их имена — соответственно улица Детского дома и улица Детского сада — свидетельство тех проблем, которые принесла таллинцам бесконтрольная урбанизация позапрошлого века. Равно как и своеобразный памятник путям их разрешения. Первая — до революции ее назвали Лютеро-Сиротской — хранит в своем названии память о первом в городе детском приюте: основан он был в год трехсотлетия церковной реформации, начатой Мартином Лютером. Вторая изначально называлась Магдаленской: круглосуточный детский сад на территории бывшего «Магдалениума» — приюта для страдающих алкоголизмом женщин — был открыт уже в послевоенные годы. Учитывая, что в западноевропейской традиции Мария Магдалина считается, помимо прочего, и покровительницей детей, возвращение былой улице Ластеайа ее исторического имени оправдано вполне. Есть в Таллине, наконец, и «просто» улица Ласте, то есть Детская. Находится она в районе Нымме, до 1940 года бывшем отдельным, независимым от столицы городом-спутником. Название ее в дополнительной расшифровке не нуждается: улица ведет к импозантному зданию Клиники матери и ребенка, выстроенной в 1925 году в духе представительного необарокко.* * *
Всесоюзную известность песне о восторженной любви к жизни принесли в середине двадцатого столетия два исполнителя — разом, но по отдельности: одессит Марк Бернес и таллинец Георг Отс. Между тем строчку: «…и вершина любви — это чудо великое, дети» — соплеменникам легендарного баритона услышать на родном языке было не суждено: при переводе на эстонский она была заменена предложением, лишенным даже намека на афористичность. Наверное — неслучайно. Красивые фразы Таллин во все времена ценил меньше, чем поступки: филигранность речи городу, всегда стремившемуся подчеркнуть свое суровое, мужское начало, казалась слишком женственной и сентиментальной. Таллин любит своих детей по-мужски: сдержанно, но искренне. Всех без исключения — застывших изваяниями парковой скульптуры, резвящихся в декоре фасадов, побеждающих любые преграды в городских преданиях. Что с того, если в реальной жизни это им не всегда и не во всем удается?! Родной город по-прежнему относится к ним с отческой любовью. И не без основания рассчитывает на взаимность с их стороны.Влюбленные с детства
Детская любовь — тема, беспроигрышная всегда: обращение к ней в литературе если и не гарантирует «билет в бессмертие» стопроцентно, то бронирует его однозначно. Вряд ли именно этим мотивом руководствовался автор «Снежной королевы», но результат творческого процесса превзошел все ожидания: Кай и Герда — пара не менее знаковая, чем Ромео с Джульеттой. Для Таллина она, возможно, даже еще более значительная: в странствиях по миру Андерсен до здешних краев так никогда и не добрался, но для жителей «одной шестой части суши» герои его оказались связаны с этим городом навсегда. Волей кинематографистов «Ленфильма» сказочник бродил вокруг Домского собора на таллинском Вышгороде, Герда лепила снеговика на горке Харьюмяги, а сани повелительницы снега и метелей увозили Кая через Башенную площадь. Облик заваленного сугробами Старого Таллина подходил на роль декораций к экранизации андерсеновской сказки идеально — о том, что на реальную Данию похож он отдаленно, массовый зритель в 1966 году, скорее всего, не догадывался. Но что заставило ввести «таллинскую тему» в мультфильм «Снежная королева», снятый девятью годами позже, — догадаться сложнее. Уж его-то создатели точно не были стеснены в выборе антуража: нарисовать можно любую натуру. Город, в котором живут мультипликационные Кай и Герда, изображен условно, но черты архитектуры провинциальных датских городков времен Андерсена переданы в нем достаточно точно. Тем удивительнее увидеть среди этой сказочной условности любовно прорисованный… фасад таллинской Большой гильдии: любой горожанин опознает его безошибочно. Кай с приятелями катаются перед ее фасадом на санках с конца четырнадцатой минуты мультфильма. И отсюда же — на пятнадцатой минуте — забирает мальчика Снежная королева.
Кунигунда Шотельмунд: тень на плите
Ее нет. Совсем. Вот уже более семи столетий — ровно столько минуло с тех пор, как она навсегда покинула подлунный мир, сжатый для нее крепостными стенами еще молодого на тот момент города Ревеля. Она и сама была молода — насколько, сказать не может никто: Средневековье, видевшее в земной жизни лишь пролог к жизни вечной, датам рождения уделяло куда как меньше внимания, чем датам смерти. Нам практически ничего неизвестно о ее предках, родителях, сестрах, братьях, детях; несколько больше — о супруге. Нам неведомы черты ее характера, сильные его стороны, равно как и неизбежные слабости. Все, чем мы располагаем, — лишь силуэт, едва различимый на каменной плите, закрепленной на стене бывшей церкви доминиканского монастыря. А еще — относительно молодое таллинское предание. Звучащие в нем имена исторически достоверны. И это дарит надежду, что восемь столетий тому назад все обстояло именно так, как хочется верить современным таллинцам и гостям города.* * *
Фольклор — даже если это и фольклор гидовский — стихия с широкой душой: если он кого и делает своими героями, то либо сильных мира сего, известных всякому школьнику, либо же — безвестных персонажей, действующих, как правило, анонимно. Для того чтобы оказаться увековеченным легендой, «рядовому обывателю» — не знаменитому монарху и не полководцу или же, напротив, не обреченному на безымянность простолюдину — надо совершить нечто из ряда вон выходящее. Ревельский ратман, а впоследствии и бургомистр Госсшлак Шотельмунд был, конечно, не совсем уж простым бюргером. Но имя себе в городском фольклоре он обеспечил не богатством и общественным положением, а любовью к супруге. Поздно вступив в брак — да не по расчету, а по любви, Шотельмунд недолго был счастлив. Его возлюбленная жена, прекрасная Кунигунда, начала вдруг на глазах таять, словно зажженная свеча — даром, что была она моложе своего мужа. Тщетно ратман жертвовал доминиканскому монастырю воск и ладан, тщетно раздавал милостыню нищим, толпящимся у монастырских ворот перед каждым воскресным богослужением. Неведомая болезнь мучительно точила Кунигунду изнутри. До основания старейшей в городе аптеки — ратушной — оставалось добрых четыре десятилетия. Ученые монахи, знавшие толк в лечебных травах и снадобьях, только разводили руками — помочь Кунигунде и ее супругу они ничем не могли. Наконец, поняв, что дни жизни супруги сочтены, ратман Шотельмунд начал беспокоиться о месте упокоения для своей возлюбленной. По обычаю тех лет знатных горожан хоронили под полом церквей — такое погребение считалось самым почетным. Сраженный предчувствием неотвратимого, Шотельмунд явился к настоятелю Доминиканского монастыря с просьбой: позволить захоронить супругу после ее кончины у самого алтаря. А лик любимой — запечатлеть на каменной надгробной плите. Визит ратмана сильно озадачил монастырского приора. Нет, в том, что жена столь щедрого жертвователя, как господин Шотельмунд, достойна погребения в самом подобающем месте, сомнений не было. Что же касается второй части просьбы… Всю ночь настоятель не спал. Заглядывал в книги. Молился. Но изменить монастырскому уставу не посмел. Ратману он ответил отказом: никаких иных женских изображений, кроме девы Марии и святой, которой посвящена церковь, в храме быть не должно. И тогда Шотельмунд решился на невиданную дерзость. «Если Всевышнему неугодно видеть среди молящихся ту, которая была среди них при жизни, быть может, он допустит под своды церковного здания хотя бы, ее тень?!» — бросил ратман в лицо настоятелю. Тот лишь пожал плечами: про тень он как-то не подумал. Муж же тем временем послал за самым искусным в городе камнерезом. Когда тот явился, он попросил Кунигунду встать у оконного проема и, выхватив из очага уголь, очертил ее силуэт на полу. Резчик по камню понял деликатную задачу: он лишь углубил угадываемые очертания женской фигуры почти невидимыми линиями — так, чтобы она и впрямь казалась не более чем тенью — мимолетной, ускользающей, невесомой. В день, когда тело усопшей Кунигунды опускали под пол монастырской церкви, настоятель увидел заказанную Шотельмундом надгробную плиту — и не стал ничего говорить безутешному супругу. Ведь на то, кто захоронен под ней, указывала, как и позволял монастырский устав, эпитафия, высеченная по периметру плиты. Рисунок же ни в коей мере не нарушал никаких запретов. Надгробная плита Кунигунды Шотельмунд стала памятником супружеской любви. Настолько сильной, что ради ее увековечивания супруг дерзнул пойти на конфликт с церковью.* * *
Ратман Шотельмунд, вероятно, сильно удивился бы, узнав, что надгробная плита его супруги располагается не внутри монастырского храма, как и положено, а совсем даже напротив — снаружи. Он, переживший свою Кунигунду на добрых девятнадцать лет, вряд ли мог себе представить, что через столетие с небольшим непререкаемый авторитет католической церкви пошатнется — вспыхнет церковная реформация. Иконоборцы-лютеране вначале основательно разгромили доминиканский монастырь Святой Екатерины, потом его постройки загадочным образом сгорели: горожане небезосновательно подозревали в мести изгнанных из Ревеля монахов. Огромный архитектурный ансамбль стал приходить в запустение: магистрат позволил использовать обширные руины в качестве каменоломни. Когда все мало-мальски годное для строительства было растащено, на монастырском подворье стала селиться беднота. Интерес к руинам проснулся лишь в пору увлечения «романтикой рыцарских времен» — в середине XIX века. Правда, уцелевшие здания монастыря стали активно перестраивать для сиюминутных нужд, но обнаруженные в ходе работ примечательные детали сберегли. Уже в 1857 году первую из надгробных плит, устилавших пол монастырской церкви, извлекли из-под строительного мусора и перевезли в летнее поместье ревельского коменданта Вольдемара Зальца: тот был падок до средневековых «антиквитетов». Прошло еще семнадцать лет — и бургомистр Андрес Кох решил перестроить остатки храма в амбар. Два десятка найденных строителями средневековых надгробий он попросту отложил в сторону — до лучших времен, надо понимать. Настали они в 1882 году: преемник Коха на бургомистерском посту, владелец одного из крупнейших строительных предприятий Российской империи «цементный барон» Жирар де Сукантон выкупил тринадцать плит для своей коллекции. Надгробие Кунигунды Шотельмунд, оказавшееся среди них, было доставлено в загородную резиденцию бургомистра. Там, на месте нынешнего парка-музея народного зодчества в Рокка-аль-Маре, они были расставлены вдоль аллеи. Особых сражений в этом районе в годы Второй мировой войны не шло, но, когда сотрудники Таллинского городского музея в конце сороковых годов решили провести инспекцию тамошних памятников старины, обнаружилось, что состояние их плачевно. Резные плиты, на которых явно упражнялись в стрельбе из автоматического оружия, было решено вернуть с далекой по тем временам окраины в Старый город. Операцию осуществили неумело — часть из них умудрились разбить уже при транспортировке. Экспонировать их планировали внутри остатков монастырской церкви. Но так как цех по производству кинопленки освобождать помещения для музейных нужд не спешил, многострадальные плиты разместили снаружи — у южной церковной стены. Решение изначально было представлено как временное. И словно в подтверждение банальности, что ничего более постоянного, нежели временное, нет, плиты находятся на прежнем месте и поныне. Для того чтобы непогода не уничтожила надписи и орнаменты, вырезанные на хрупком доломите, окончательно, над плитами установили навес, Худо-бедно защищающий от дождя и снега. Лет десять тому назад, в ходе кампании по благоустройству и популяризации переулка Катарийни, превратившегося в один из «брендов» Старого Таллина, там же установили инфостенд. Он расположен как раз слева от плиты, имеющей у музейщиков инвентарный номер один: принадлежит она Кунигунде Шотельмунд.* * *
Искусствоведы подсчитали: до наших дней в Таллине уцелели порядка шестидесяти средневековых могильных плит, причем женских — только четыре. Еще две погибли в годы войны. Можно долго рассуждать о том, что история западноевропейского Средневековья в значительной мере, как любят порой шутить английские историки, была «His Story» — «историей его», то есть «историей мужчины», а не женщины. Для Ревеля это верно лишь относительно. По крайней мере, три похороненные под надгробными плитами горожанки играли в обществе пятнадцатого-шестнадцатого столетий далеко не последние роли: они были настоятельницами монастыря ордена Святой Биргитты. Но плита Кунигунды Шотельмунд менее уникальной от этого не становится. И не только потому, что это единственный памятник представительнице бюргерского сословия ганзейского Ревеля, но и потому, что он — старейший дошедший портрет горожанки. Глядя на вертикально установленную в наши дни плиту, меньше всего хочется верить, что перед тобой — надгробие. Вырезанная на камне женщина не лежит в недвижной, словно окостенелой позе, что будет характерно для эпохи Ренессанса. Кажется, будто жительница Таллина более чем семивековой давности живо и непринужденно позирует — то ли нам, то ли неведомому художнику, чье имя исследователям, увы, отыскать до сих пор не удалось. Не исключено, что это был иноземный мастер: его местные собратья по цеху в последней четверти четырнадцатого столетия если и изображали человеческие фигуры, то куда как менее профессионально и грациозно. Если речь идет об иностранце, то, по аналогии с надгробными памятниками того же времени, уцелевшими в церквах городов северогерманского региона, нам придется проститься с легендой о тени. Дело в том, что подобные могильные плиты, выполненные в технике «процарапанного» рельефа, как правило, были богато расписаны: лицо поручали увековечить не камнерезу, а живописцу. В верхней части памятника — над фигурой усопшего — прорисовывался пышный балдахин. «Пустота», бросающаяся в глаза, над головой Кунигунды Шотельмунд не исключает этого. На нем иногда помещалась пространная эпитафия — более подробная, чем лаконичное указание имени и даты смерти.* * *
Кто знает — возможно, навсегда стертый обувью прихожан монастырской церкви, живописный слой надгробия Кунигунды Шотельмунд мог поведать о всей полноте чувств, которые испытывал к ней супруг. В силу утраты искать их приходится в «зашифрованном» виде — символический язык, доступный и понятный человеку Средневековья, зачастую даже не владевшему чтением и письмом, заставить звучать не так-то просто. Попытки, конечно же, предпринимались — по большей части в связи с силуэтами двух собачек, кружащих у длинноносых башмаков Кунигунды. Они, кстати, являются заодно и старейшими изображениями животных в искусстве Старого Таллина. В этих четвероногих созданиях искусствоведы видят двойную символику. Во-первых, доминиканцы использовали самоназвание «domini canes»: в переводе с латыни — «псы Господни». Во-вторых, собака — универсальный символ супружеской верности. Никто почему-то не обратил внимания еще на одну деталь — текст, вырезанный по периметру плиты готическим шрифтом. Покинувшая этот мир 27 апреля 1381 года супруга ратмана Шотельмунда названа словно бы не вполне «официально». То, что звали ее Кунигундой, известно из архивных документов. Но на каменной плите, ставшей для нее пропуском в мир легенд и преданий, она навсегда осталась под сокращенным, почти что детским именем Куне. Вопрос возникает снова: не было ли со стороны супруга дерзостью увековечить жену не под полным именем, а под тем, как он, возможно, ласково называл ее, сидя у домашнего очага?* * *
Стремление увековечить не просто память, а визуальный облик конкретного человека — черта нового, не средневекового, но ренессансного мировоззрения. В силу целого ряда объективных причин — прежде всего, затянувшейся Ливонской войны и связанного с ней общего упадка уровня жизни — подлинного Возрождения искусство нынешней Эстонии так и не познало. Говорить о полном его игнорировании будет неуместно — тем более что в Домском соборе на Тоомпеа имеется несколько дворянских саркофагов, на крышках которых лежащие супруги изображены с пугающей, почти «фотографической» точностью. В искусстве же «третьего сословия» — жителей Нижнего города — путь, некогда впервые намеченный неизвестным автором надгробия Кунигунды Шотельмунд, стал основным с известным отставанием: в период проникновения художественных веяний барокко. Общий консерватизм, присущий культуре затерянного на окраине европейского мира Ревеля, не замедлил проявиться и здесь: одно из первых изображений счастливого семейства в местной живописи — эпитафия, заказанная в 1643 году для церкви Нигулисте. Впрочем, если не знать этого и отбросить в сторону коленопреклоненные позы заказчика, полковника шведской армии Йохана фон Рехенберга, его жены Элизабеты Ассерье и дочери, можно увидеть в ней групповой портрет, типичный для своей эпохи. Право считаться старейшим изображением конкретной таллинской горожанки в живописи, впрочем, могут оспаривать несколько женских портретов, украшающих сени старинного бюргерского дома по адресу Лай, 29. Датировать с точностью до года портреты жен домовладельцев — представителей купеческой династии Хуков — едва ли возможно, но в том, что изображения эти изначально создавались как светские, сомнений нет. Более того, по крайне мере два из них практически наверняка были написаны еще при жизни портретируемых моделей.* * *
Обнаружение старейшего портрета горожанки на средневековой могильной плите, ставшей элементом паркового ансамбля летнего поместья Рокка-аль-Маре, взволновало разве что узкий круг краеведов-остзейцев. Его возвращение на территорию Старого города привлекло внимание газетных хроникеров, но — не более того: нынешний переулок Катарийни вплоть до середины девяностых годов минувшего столетия туристической славой не пользовался. Когда заставленный мусорными бачками и дровяными сараями проход вдоль стены бывшей монастырской церкви преобразился в таллинский аналог знаменитой пражской Златой улочки, Кунигунда Шотельмунд пережила пик интереса к себе. Имя давным-давно ушедшей супруги ратмана и бургомистра избрали себе в качестве названия одна из молодежных краеведческих организаций, а также салон авторских головных уборов: оба, впрочем, ныне благополучно переименованы. Едва ли это хоть как-то отразилось на известности самой Кунигунды: за последние полтора десятилетия и она сама, и ее имя настолько плотно вплелись в городской фольклор, что забвение им определенно не грозит. Угроза утраты самого силуэта, высеченного более шести веков тому назад рукой неизвестного, но, безусловно, талантливого мастера, к сожалению, существует: дождь и снег к таллинскому доломиту безжалостны. Фотография прориси надгробия Кунигунды Шотельмунд, сделанная еще при бургомистре Сукантоне, помещена на сопровождающий его инфостенд очень даже кстати — оригинал с каждым годом все менее отчетлив. Лучше всего он заметен ранним морозным утром, когда вторгшийся с континентальных равнин арктический воздух превращает извечную приморскую изморозь в белоснежный иней. В такой час силуэт горожанки проступает на сером доломите отчетливее, чем когда-либо. Напоминает об истории любви, оказавшейся сильнее времени. Заставляет поверить в нее.Заветный символ
Если аудитория подберется почти исключительно женская, гид не упустит возможности посоветовать гостьям Таллина: если желаете, чтобы муж любил вас так же крепко, как Кунигунду Шотельмунд, приложите ладонь к ее рукам. Для того чтобы желание сбылось точно, туристам предлагают отыскать «магическую точку»: высеченное на камне изображение сердца, которое супруга ратмана якобы сжимает в сложенных ладонях — как символ вечной любви. Поиски могут занять несколько минут экскурсионного времени, но успехом не увенчаются. Изображения сердца там нет. И никогда не было: то, что иногда принимают за него, — лишь природное отслоение крошащегося доломита. Удивляться тут особенно нечего: в четырнадцатом столетии подобная символика сердца еще не была распространена в Ревеле широко — отыскать изображение сердца можно на печатях, но не памятниках искусства. Популярным символом сердце становится лет на триста позже. Одно из свидетельств тому — силуэт, вырезанный на надгробной плите, что вмурована в пол северо-западной части церкви Нигулисте. Кто похоронен под ней — неизвестно: плита давным-давно раскололась, а часть, украшенная сердцем, не несет на себе хоть толики информации, на основании которой можно было бы делать догадки. Куда как прозрачнее символика и история резной плиты, закрепленной в крохотном дворике ратушной аптеки со стороны переулка Кунигунда Шотельмунд: тень на плите Сайаканг: в летние месяцы он открыт для посещения. Два инициала украшают ее: аптекаря Йохана Бурхарата и его супруги Марии Венглер. Над ними — королевская корона, под ними — дата «1742» и скрещенные пальмовые ветви. Корону можно толковать по-разному, но пальмовая ветвь — символ траура: выполняя волю усопшего супруга, его вдова возвела задуманное им здание аптечной лаборатории. В месте своего пересечения пальмовые ветви на мемориальной плите отчетливо образуют силуэт сердца — явный намек на неугасаемую любовь.
Монахи и монахини: запретная страсть
«Влево от Бумажного озера — род башни, в которую, но преданию, были заложены монах и монахиня, убежавшие из монастырей своих и пойманные в том месте. Основанием башни, или столба, огромный дикий камень. Посередине в башне в рост человеческий два камня дикие с изображением на каждом грубо вырезанного креста. Не доходя до этого места, близ озера, нашли мы нечаянно эхо удивительной точности и верности, повторяющее целые фразы с точностью чудесною. Только что не отвечает: „Je me porte fort bien“ на вопрос: „Comment vous portez-vous?“»[3]…* * *
Монография, посвященная отдыхавшим в былых Эстляндии и Лифляндии знаменитым российским дачникам, называет легенду, попавшую в записные книжки поэта и литературного критика Петра Вяземского, малоизвестной. Для современного таллинца — не говоря уже о госте города — звучит она и вправду незнакомо. Далеко не каждый из горожан опознает сходу в «Бумажном озере» нынешнее Юлемисте, а уж «башня-столп» может наверняка ввести в легкий ступор. Между тем жители Ревеля столетней давности охотно пересказали бы легендарный сюжет куда более подробно, чем удосужился сделать это друг и современник Пушкина: фольклорные сюжеты, как известно, любят обрастать подробностями. В изложении газетчиков, любивших пощекотать нервы читателям рождественских и предновогодних выпусков, равно как и авторов текстов к отрывным календарям, леденящая кровь история времен «мрачного Средневековья» звучала приблизительно так. «Не было среди монастырей былого Ревеля знаменитее, чем обитель ордена Святой Биргитты на берегу реки Пирита. Славен он был не только богатством и обилием священных реликвий, но и тем, что жили в его стенах как монахини, так и монахи. По две стороны от монастырской церкви раскинулись женские и мужские кельи: если где и могли увидеть друг друга их насельники, то исключительно во время богослужения. Внутреннее пространство храма рассекала кованая решетка от потолка до самых сводов. Раз в неделю настоятель и настоятельница двух слитых в единое целое обителей имели право подойти к ограждению и поприветствовать друг друга. Рядовым же монахам и монахиням даже подходить к решетке запрещалось — не то что разговаривать. Однако, как бы ни замысловато были выкованы ее украшения, от откровенных взоров защитить они полностью не могли. Однажды во время долгой рождественской мессы глаза молодого монаха и его ровесницы-монахини ненароком встретились. Через крестьян, выполнявших в монастыре подсобную работу, у них завязалась переписка. Письмо за письмом — молодые люди поняли, что созданы друг для друга. И решились на дерзкий побег из обители. Влюбленный монах знал: в незапамятные времена от монастыря Святой Биргитты до города проложен подземный ход. У старого монастырского ключника юноша разведал, в каком подвале он начинается. Заранее подпилив втайне прутья решетки, ровно в полночь назначил он возлюбленной свидание в опустевшей церкви. Преграда пала — и две тени, путаясь в рясах, кинулись в сторону подземелья. Лишь нырнув в него, влюбленные поняли: в спешке они забыли прихватить свечи и огниво. Обратного пути не было: монах с монахиней двинулись в полной темноте на ощупь. Вновь оказавшись на поверхности земли, беглецы, к своему удивлению, обнаружили: потайной ход привел их вовсе не в сутолоку и толчею городской жизни, а на берег тихого озера. „Свобода!“ — радостно крикнул юноша. „Да!“ — разделило его радость эхо. „Навсегда!“ — вторила ему девушка. „Да!“ — заверяло ее эхо, заглушая приближающийся цокот копыт. Крик услышал отряд конной стражи, объезжавший границы городских земель…»* * *
Дальнейшая судьба влюбленных оказалась незавидной: арест, суд, казнь — замуровывание заживо в назидание всем прочим, осмелившимся нарушить монастырский устав и обет безбрачия. Свидетель исполнения сурового приговора — угрюмый каменный столп, служивший сочинителям «древних» преданий источником вдохновения, — на подъездах к Таллину и вправду был. Причем не один: старинные открытки запечатлели странного вида каменные сооружения на обочинах как минимум Тартуского и Пярнуского шоссе: близ озера Юлемисте и у моста через речушку Пяэскюла. В начале двадцатого столетия, вероятно, только городской землемер и его подручные да еще сотрудники Эстляндского провинциального музея помнили, что это за постройки, кем, когда и с какой целью они некогда были возведены. Отряд стражников появился в тексте легенды не случайно: «башни» из доломитовых плит — по сути, межевые знаки, расставленные для обозначения подвластных магистрату земель в середине и во второй половине XIV века. Последний из них — тот самый, в котором народная молва «опознавала» гробницу влюбленных монаха и монахини, — был снесен летом 1946 года. Кому и чем мог он помешать на далекой по тем временам окраине города — понять невозможно. Куда как понятнее причины, по которым городской фольклор — причем не «газетный», а подлинный — относился к насельникам ревельских монастырей, мягко говоря, довольно прохладно. Город, одним из первых за пределами собственно Германии воспринявший идеи лютеранства, всегда видел в местном монашестве почти исключительно негативные черты. Возможно, связано это с тем, что на северную периферию средневекового мира попадали далеко не самые достойные представители монашеских орденов Западной Европы. И хотя прямых свидетельств тому, что Ревель действительно был некогда «местом ссылки» проштрафившихся монахов, не сохранилось, фольклор позволяет нам допустить это. Послушать предания и легенды — так здесь жили и активнейшим образом действовали персонажи, достойные пера не то что Боккаччо — самого Макиавелли.* * *
Официальная топонимика современного Таллина фиксирует следы монастырского прошлого на карте города точно, сухо и беспристрастно. Крохотная и малоприметная улочка Мунга, в переводе — Монахов — притаилась на задворках квартала, принадлежавшего некогда доминиканскому монастырю Святой Екатерины. Куда как более известная и оживленная улица Нунне — Монахинь — ведет не столько к территории бывшего монастыря Святой Екатерины, сколько к давно сгинувшим воротам Монахинь. Потому, наверное, горожане часто зовут ее именем советской поры — Вакзали. Фольклор добавляет к этому перечню еще одно уличное название: Лай, Широкая. Словно помнит, что еще лет триста тому назад в магистратских бумагах она фигурировала как улица Цистерцианских сестер — подразумевались, конечно, сестры-монахини. Монастырь ордена цистерцианцев, впрочем, находился в глубине квартала и с улицы был не виден. Зато прекрасно виден и по сей день дом по адресу Лай, 29: сколько бы ни прятался он под сенью растущих у порога вековых лип, готический фронтон его заметен. Историю, разыгравшуюся здесь во второй половине XV века, иначе как детективной и не назовешь. Место в ней нашлось всему: истовой религиозности, хитрому расчету, всепоглощающей страсти, пламенной ревности, неразделенной любви и краху надежд. Началась она с прибытия в город молодого фанатичного монаха. Единственное его желание — основать в Ревеле монастырь ордена францисканцев — поддержки у местных властей не нашло. Юноша решил действовать самостоятельно, на свой страх и риск. Вокруг убежденного проповедника сложился кружок почитателей, в который вошел и владелец дома на нынешней улице Лай. Он предоставил свое жилище для проведения тайных месс, в которых принимали участие и сам хозяин, и члены его семейства. Вскоре у монаха возникла идея: любой ценой завладеть недвижимостью своего покровителя, перепродать его, а на вырученные средства выстроить в городе монастырскую церковь, окруженную кельями и всеми необходимыми службами. Во время вспышки чумы монах убедил домовладельца не мешать общению здоровых членов семьи с заразившимися. Расчет оказался верен: все двенадцать дочерей ратмана черная смерть унесла в могилу, пощадив лишь восемнадцатилетнюю падчерицу. Для нее у монаха уже был припасен «жених» — его земляк, прибывший в Ревель специально для исполнения коварного плана. Ему надлежало обольстить девушку, жениться на ней, овладеть полученным наследством, а затем передать его сообщнику. До момента женитьбы все шло как по маслу. Но, обвенчавшись, молодые люди только посмеялись над намерениями монаха. Сам же он, мало того что ощутил себя одураченным, так еще и влюбился в падчерицу покойного домовладельца. Тщетно монах распространял по городу порочащие слухи, писал возлюбленной письма собственной кровью, грозил церковным отлучением. Наконец, во время подготовки покушения на нового владельца дома по улице Лай, 29, он попал в руки правосудия. Под пытками монах рассказал о своем замысле и его крахе. Пуще лютой казни боясь наказания не на этом, а на том свете, он раскаялся в своей греховной страсти к замужней женщине. Раскаяние не помогло: согрешившего инока магистрат приговорил к мучительной смерти — он должен был быть заживо замурован в стену того самого дома, который мечтал заполучить. Как отнеслась к этому его возлюбленная — легенда умалчивает. Но темный силуэт монаха ненастными ночами регулярно видят в старинных сенях средневекового дома и в наши дни…* * *
У мрачной легенды, какой бы «умышленной и литературной» она ни казалась на первый взгляд, есть, как ни странно, вполне реальная — и даже задокументированная — основа. В середине тридцатых годов прошлого века таллинские историки, работавшие с архивами ганзейского города Любека, нашли бумаги, проливающие свет на злоключения влюбленного монаха. Действительно, в 1464 году некий магистр философии Эрфуртского университета, францисканец Йохан фон Хильтен, остановился в доме зажиточного ревельского ратмана Германа Греве. Правда, далеко идущих планов об учреждении в городе еще одного монастыря у него, вероятно, не было: в скандал он оказался замешан потому, что начал испытывать к падчерице домовладельца непозволительные для монаха чувства. Взятый под стражу, он умудрился сбежать и найти приют в городе Тарту: там у францисканцев была собственная обитель, и проштрафившегося собрата они не только укрыли, но и переправили на родину, в Германию, где он прожил еще четверть века. Каким образом был осуществлен его побег из таллинской темницы — дело темное. Очевидно одно: подземным ходом, который привел героев легенды о замурованных возлюбленных к началу Тартуского шоссе, воспользоваться он не мог точно. Впрочем, хотя легендарный этот ход никогда не существовал в реальности — уровень средневековых технологий попросту не позволил бы выстроить сооружение подобных масштабов, — фольклор упорно верит в него. Что, пожалуй, совсем даже неудивительно: согласно легенде, он является беспрецедентным памятником верности и горячей, преданной, а главное — разделенной любви.* * *
Вопреки всем историческим хроникам, легенда уверяет, что однажды Ревель подвергся нападению язычников-литовцев. Не сумев взять город, они решили выместить злобу на монастыре Святой Биргитты: располагался он далеко от городских укреплений и был защищен лишь невысокой каменной стеной. Монахам удалось отбить атаку неприятеля, но язычники захватили в плен всех монахинь. Сын языческого князя, Удо, влюбился в одну из пленниц — юную послушницу, прекрасную Мехтгильду, дочь одного из основателей монастыря. По наущению отца она пошла на хитрость: согласилась стать женой Удо, если литовцы освободят остальных монахинь. Пока шли переговоры, подоспевшее из-за моря войско разбило отряд незваных гостей, и в плену оказался сам княжеский сын. Брошенный в подвалы замка Тоомпеа, он тосковал по своей возлюбленной. То ли мышь, то ли крот подсказали ему верный путь к спасению: подговорить соратников по несчастью прокопать на свободу подземный ход. Усилия оказались тщетными: выбравшись на поверхность как раз у ворот монастыря, он увидел свою возлюбленную в монашеском одеянии. Изменить обету и бежать с княжичем Мехтгильда отказалась. Год спустя обозленный на христиан Удо вновь появился под стенами Таллина с верной дружиной. На этот раз литовцы были наголову разбиты, а молодой князь остался лежать под трупами. Подобрали его монахи-доминиканцы. Узнав, что Удо находится в их обители, Мехтгильда воспользовалась подземным ходом — и явилась к нему с самыми чудодейственными снадобьями. Пораженный чистотой чувств монахини, язычник принял христианство. Со временем он стал настоятелем доминиканского монастыря, а его возлюбленная возглавила обитель биргитток. Умерли они, как и полагается неписаными канонами мифа, в один день. Тела их вскоре обнаружили в одной могиле — не уточняется только, в котором из двух монастырей.* * *
Легенда о подземном ходе монастыря Святой Биргитты существует и в другой редакции — практически позабытой ныне, но пользовавшейся лет двести тому назад широкой известностью. Еще бы — ее записал, художественно обработал и издал основатель и директорпервого таллинского театра Август фон Коцебу, один из самых популярных и востребованных в России начала девятнадцатого столетия драматургов. По его словам, дело обстояло следующим образом: отправился доблестный рыцарь на войну — да и сгинул без следа. Невеста воина хранила ему верность до конца, пока, поддавшись уговорам близких, не решила стать монахиней. Только приняла она монашеский постриг, как жених ее объявился в Таллине. Узнав о случившемся, рыцарь прискакал к воротам монастыря Святой Биргитты, но привратник даже на порог его не пустил: не бывало такого, чтобы монахиня в мир воротилась! Тогда безутешный влюбленный решился на отчаянный шаг: вместе со своими слугами и оруженосцами он начал копать потайной ход на территории монашеской обители. Работа затянулась на годы — под землей и морским дном пройти предстояло километров десять… Наконец титанический труд был закончен: поддев плиту каменного пола монашеской кельи, рыцарь оказался в буквальном смысле слова у ног своей возлюбленной. В растроганных чувствах не смогла она отказать жениху — и согласилась на побег. Потерпеть подобного позора своей обители святая Биргитта не смогла: стоило беглецам пройти половину пути, как с обеих сторон путь им преградили каменные стены. Загробный голос сказал, что освободить их сможет лишь невинная душа. Таковая вскоре обнаружилась: наместник замка Тоомпеа никак не желал отдавать свою единственную дочь за отважного, но бедного рыцаря. Когда он в очередной раз явился к возлюбленной под покровом ночи, разгневанный отец велел кинуть его в темницу. Дочь же, заподозренную в нарушении добрачной чистоты, отец повелел навек сделать «Христовой невестой» — насильно отдать в монахини. В ночь перед пострижением она истово молилась святой Биргитте — и покровительница монастыря откликнулась ей. Биргитта, зная о непорочности девушки, сама указала ей спуск в подземный ход и сама вела ее, оберегая от ловушек и боковых ответвлений. Как и было предсказано, стены, перекрывшие его однажды, рухнули — и возлюбленная добралась до своего жениха. Обнаружив молодых людей рыдающими в объятиях друг друга, суровый отец понял: их отношениям покровительствует само небо. Согласие на брак он дал, попросив об одном — никогда и никому не рассказывать, откуда начинается и куда ведет подземный ход. Для секретного сообщения между городом и монастырем подземный ход якобы использовался до середины шестнадцатого столетия, когда и погиб вместе с самой разграбленной обителью. Хотя, по словам того же Коцебу, привести его в рабочее состояние магистрат и военные пытались даже в 1790 году, когда шведский флот в последний раз появился на ревельском рейде. Лишь научные раскопки руин монастыря, предпринятые летом 1934 года, установили окончательно: никаких подземных коммуникаций со Старым городом обитель никогда не имела.* * *
На протяжении большей части своей биографии с нарушившими обет монахами и монахинями Таллин, если верить фольклору, обходился жестоко — преимущественно замуровывал. Безвестные авторы подобных преданий, вне сомнения, были бы удивлены, если не возмущены, окажись они на улице Нунне — напомним, не какой-нибудь, а именно Монашеской — летом 2010 года. На помосте, поднятом над мостовой до уровня второго этажа близлежащих домов, появилась выполненная из раскрашенного пенопласта фигура коленопреклоненной монахини. «Сестра Эльсабе, оступившаяся» — гласила надпись на «постаменте». Следы горожанки, насильно отданной родителями в монастырь, но первой покинувшей обитель в годы церковной реформации, вернувшейся в мир и вышедшей замуж за подмастерье сапожника, в городских архивах, увы, затерялись. Но гротескный памятник, появившийся на свет в рамках Таллинского театрального фестиваля TREFF, дарит надежду: быть может, фольклор станет к влюбленным монахиням и монахам чуть более милосердным? В конце концов ни одного замурованного скелета в стенах, подвалах и подземельях Таллина за все годы реставрации памятников старины до сих пор, по счастью, так и не обнаружено. Ни у кого, кроме совсем уж бесчувственных моралистов, тенденция эта сожаления, хочется верить, не вызывает. И, понадеемся, никогда уже не вызовет.Черепичные пикантности
Десятки тысяч монахов и монашек, в крепких объятиях сливающиеся вот уже которое столетие подряд на таллинских крышах, выглядят фантазией средневекового эротомана. Между тем любой реставратор подтвердит, что это на самом деле так: «монахом» — разумеется, в кавычках — называется полукруглая в сечении черепица, укладываемая сверху. «Монахиней», соответственно, — ложащаяся снизу. Черепица подобного типа возникла в Средиземноморском регионе еще в античности: на территорию современной Франции, например, она проникла еще во времена наследников Юлия Цезаря и называется чаще всего просто «римской». До северных окраин Европы древние римляне не дошли. Сюда наиболее архаичный, но одновременно простой в изготовлении и надежный в использовании тип черепичного покрытия попал только в Средние века. Первыми новаторскую для своего времени строительную технологию предкам нынешних немцев продемонстрировали настоятели монастырей. Потому, наверное, она и получила в немецкой строительной традиции название «монах-монахиня». Вместе с монахами, пришедшими на земли теперешней Эстонии вслед за рыцарями-крестоносцами, черепица данного типа распространилась в архитектуре таллинского Старого города. Более того, любая попытка заменить черепицу «монах-монахиня» более современным покрытием крыши жестко пресекается Департаментом охраны памятников старины.
«Красный монастырь»: цвета порока
Услышав на экскурсии, что, мол, сквер перед церковью Нигулисте был в средневековом Таллине своего рода биржей продажной любви, можете смело разворачиваться и идти прочь. «Звон» гид определенно слышал, а вот уяснить его происхождение явно не удосужился: порадовать клиентуру мнимой пикантностью с ощутимым привкусом «клубнички» показалось ему уместнее, а главное — беспроигрышнее и проще. Действительно, основатель первого в Ревеле театра, Август фон Коцебу, писал о ярмарке, ежегодно устраиваемой на бывшем церковном кладбище накануне Иванова дня: «Но чем здесь наиболее торгуют — это обменом взглядов». Намека на фривольность в этих словах не было никакого: Иванова, или, как еще называли ее горожане двухсотлетней давности, Липовая, ярмарка негласно считалась главной ярмаркой невест всей Эстляндской губернии. Сроки ее проведения совпадали с днями ландтага — ежегодного съезда местного дворянства. Отцы семейств, направлявшиеся на него с окрестных мыз, брали с собой в город и дочерей на выданье. Бродя под сенью лип, и по сей день шумящих у входа в церковь Нигулисте, обращаясь то к галантерейщикам, то к мороженщикам, провинциальные барышни привлекали взор городских кавалеров. Если улыбка оказывалась благосклонной, а намечающаяся партия, по мнению родителей, — достойной, уже к осени можно было говорить о помолвке, а после Рождества — так и о свадьбе.* * *
Благостная сценка, описанная в духе благопристойной литературы эпохи бидермейера, не должна вводить в заблуждение. Полагать, что любовь в былом Таллине встречалась исключительно чистая, возвышенная и бескорыстная, — откровенная наивность. Тем более что и устная традиция свидетельствует об обратном. Фольклор торгового и портового города никогда не был столь лицемерным, чтобы скрывать наличие продажной любви и ее неизбежных жриц. Но и в деликатности легендам не откажешь: акцент они делают не на проституции, а на борьбе с пороком. Самый знаменитый, вероятно, сюжет данного цикла связан с Девичьей башней. В ее первый, а то и в «нулевой», подвальный этаж городские предания настойчиво помещают женскую тюрьму: место заключения проституток в Средние века. Лет сто тому назад среди горожан бытовала еще одна, более мрачная и, судя по всему, архаичная версия. Согласно ей строители башни никак не могли закончить работы: сколько камней ни укладывали они днем, одна стена за ночь то и дело обрушивалась. Наконец, старшему каменщику приснился сон: здание не будет завершено, пока в его стены не вмуруют… девушку. Отцы города проявили своего рода «гуманизм» — и вместо порядочной горожанки замуровали проститутку: выдал ее любовник, нечестивый монах. Те, кому доводилось встретить в Девичьей башне полночь, рассказывают: с этажа на этаж бродит призрак в монашеской рясе — душа монаха, проклятого за коварное предательство замурованной девицей…* * *
Что правда, то правда — тюрьма в Девичьей башне действительно существовала. Проработала она до 1626 года. Но о содержании в ней исключительно особ прекрасного пола ничего неизвестно. Зато известно, что обширным подвалом Девичья башня обзавелась не в седое Средневековье, а лет сорок тому назад — во время приспособления ее помещений под кафе потребовалось спрятать кухонный блок под землю. Реставраторы, вернувшие фортификационному сооружению его близкий к первоначальному облик, ничего не сообщали об обнаружении в башенных стенах каких-либо замурованных останков — ни женских, ни мужских. Как ни парадоксально, к реальным девам, девушкам и девицам Девичья башня отношения не имеет. Ее название — плод «народной этимологии», переосмыслившей малопонятный немецкий топоним «Megdheturm» как вполне переводимый «Mädchenturm». Второе, собственно и означает «Девичья башня». Первое же, изначальное ее название несло в себе память о неком Хинсе Мегдхе, домовладельце середины XIV века и, что не исключается, подрядчике работ по возведению самой башни. Главным фасадом его жилище выходило на нынешнюю улицу Рюйтли. Упираясь в крепостную стену, она перетекает в улицу Мюйривахе, имеющую к истории продажной любви в Таллине самое непосредственное отношение.* * *
«Мюйривахе» с эстонского языка можно перевести как «простенок». По сути, простенком улица Мюйривахе, зажатая с одной стороны линией городских укреплений, с другой — домами небогатых горожан, всегда и была. Облик узкого боевого хода, тянущегося вдоль крепостной стены и проложенного, прежде всего, для оперативного перемещения защитников города к той или иной башне, она сохранила на большей трассе своего маршрута. Единственное исключение — отрезок между улицами Харью и Вана-Пости, основательно выбомбленный в годы Второй мировой войны и застроенный в начале пятидесятых зданиями, не имеющими ничего общего с масштабами и обликом Старого Таллина. Ничто не напоминает, что въезд во двор между теперешним Министерством экономики и кинотеатром «Сыпрус» — бывшее место расположения одного из самых своеобразных заведений средневекового Таллина — так называемого Красного монастыря. Монашескую обитель, как ни странно, тут и вправду едва не возвели. Только церковная реформация помешала созданию в городе монастыря Святой Анны — комплекс зданий в 1522 году передали братству Святого Роха для оборудования в них чумного госпиталя. Но еще за полвека до того «Красный монастырь» фигурировал в документах магистрата. Причем достаточно часто — как источник стабильного дохода городской казны, о котором власти заботились, регулярно проводя в здании текущий ремонт и модернизацию. С точки зрения современного человека, источник этого финансового ручейка кажется довольно сомнительным: «Красный монастырь» был принадлежащим ратуше домом свиданий, или попросту — борделем. Название это, представленное в исторической топонимике едва ли не всех приморских городов ганзейского региона, в бумагах городского совета Таллина встречается уже в 1474 году. И это не первое свидетельство о существовании в городе подобных заведений. Так, например, «криминальная хроника» 1430 года сообщает о неком монахе, задержанном в борделе. Невольно задумаешься: не отсюда ли, часом, берет свое начало легенда о привидении в монашеской рясе, бродящем по этажам Девичьей башни в полночный час?!* * *
Хотя желтая пресса и подкидывает время от времени сенсационные материалы о «веселящемся и развратничающем средневековом Таллине», мораль в нем была достаточно строга. Местные кодексы Любекского права — стандартной «конституции» городов ганзейского региона — прямым текстом запрещали проституткам промышлять своим позорным ремеслом и селиться под защитой крепостных стен. Более того, добропорядочным горожанам запрещалось сдавать им даже чердачные каморки и подвальные углы. В противном случае на домовладельца падало подозрение в сводничестве, и самое малое, чем мог он отделаться, — стояние у позорного столба. Позорный столб ожидал и саму женщину легкого поведения. Правда, если на момент задержания она была «очевидно и явственно беременна», наказание несколько смягчалось: ее только обривали наголо и навсегда изгоняли из города. Насколько часто применялись к жрицам любви столь строгие меры — сказать сложно. Во всяком случае, в середине XVII века, когда строгость нравов почиталась у лютеран за высшую добродетель, ревизии по выявлению гулящих женщин проводились регулярно. Правда, основной интерес ревнителей морали в ту пору привлекали уже городские предместья, прежде всего — корчмы и постоялые дворы. Из центра города, худо ли, бедно, продажная любовь, надо понимать, уже была изжита. Стоит, впрочем, отметить, что столь строг закон был исключительно к уличным проституткам. Куртизанки же высшего класса легально «трудились» под крышей «Красного монастыря» как минимум полвека. Что послужило причиной его закрытия — сказать сложно. Не исключено — соображения не морального, а санитарного плана: в начале XVI века до севера Европы докатилась неведомая доселе напасть — сифилис.* * *
Болезнь, вместе с табаком и картофелем завезенная из Нового Света последователями Колумба, поставила крест на существовании еще одного типа заведений, без которых представить себе средневековый Таллин едва ли возможно, — общественных бань. Для массового сознания само их существование может показаться немыслимым: живучим оказался предрассудок о «мрачном Средневековье», когда люди якобы «мылись всего дважды в жизни» — при крещении в младенчестве и при посмертном омовении усопшего. Прогулка по таллинской улочке Сауна, чье название не нуждается в переводе, — замечательное средство в борьбе с устоявшимися стереотипами. Ведь и по сей день здесь сохранились два здания средневековых общественных бань: дома под номерами 6 и 8. Свое имя улица Сауна носит с 1419 года, а бани на ней — и того старше: открылись они в 1364-м. Если учесть, что к XIV веку относятся многочисленные свидетельства наличия домашних саун, несложно предположить: в общественные ходили «заодно и помыться». Местного, таллинского иконографического материала по банной тематике не сохранилось, но книжная миниатюра Западной Европы дает представление о том, что представляли собой средневековые наследники античных терм. Главным помещением в них были не парилки, а «сени», где стояли деревянные кадки с подогретой водой. Мужчины и женщины вполне могли сидеть в этих импровизированных «ваннах» совместно, беседуя, играя в карты, прихлебывая пиво или вино. Большинство общественных саун средневекового Таллина принадлежало частным лицам: некоторым из них, как, например, банщику Болеману, даже довелось быть избранными в магистрат. Но бани на улице Сауна в XV–XVI веках принадлежали городу. На свободные нравы, царившие в «парильнях и мыльнях», городские власти до поры до времени смотрели с тем же снисхождением, что и на работу скандального «Красного монастыря»: лишь бы налоги регулярно в казну поступали. Только когда волна «французской хвори» захлестнула даже семьи почтенных ратманов, отцы города забили тревогу, но в силу наивности тогдашней медицины бороться стали не с причиной, а со следствием. Связь между посещением общественных бань и заражением неисцелимой болезнью была очевидна. Однако медики решили, что причина ее — не половая распущенность, а сама… горячая вода и пар. Решив раз и навсегда обезопасить горожан от неведомых «частиц болезни», якобы просачивающихся в раскрывшиеся от тепла поры кожи, магистрат опечатал все общественные бани. Фактически на протяжении всего XVII века они стояли в Таллине закрытыми, вновь возвратившись к работе лишь в следующем столетии — правда, уже за городской стеной, в предместьях. Вероятно, и на новом месте они оставались домами свиданий. Во всяком случае, совместное мытье женщин и мужчин таллинские полицейские правила запретили лишь в 1807 году.* * *
От многочисленных «заведений для холостяков», существовавших в XIX — начале XX века в таллинских предместьях, сохранились лишь запечатленные в воспоминаниях старожилов названия: «Желтая обезьяна», «Белая блоха», «Венеция». Да еще — крохотная калитка в городской стене: современные байки упорно связывают ее со «скользкой дорожкой», которой не упускали возможности воспользоваться в относительно недавнем прошлом любители плотских наслаждений. Уверяют, будто бы пробита она была в ту пору, когда Таллин все еще числился в списках крепостей Российской империи: ежедневно с закатом солнца половинки городских ворот накрепко запирались, что создавало посетителям домов терпимости явное неудобство. Ночевать в борделях Каламая «позолоченной молодежи» было явно не с руки, дожидаться рассвета — долго, перелезать крепостную стену через чердаки и крыши прилепившихся к ней домов было в темноте и сложно, и небезопасно. Потому будто бы они попросту скинулись — и подкупили главу Ревельской инженерной команды: за хорошую мзду тот позволил кутилам прорубить в давно устаревших морально городских укреплениях калитку «для своих». Втайне якобы был изготовлен комплект ключей от нее. Причем замок был устроен таким хитроумным способом, что открывался он исключительно в том случае, если все «ключники» собирались открыть его одновременно. Байка, конечно, замечательная. Тем более что и дорожка, начинающаяся от прохода в стене, ведет к улице Кёйэ — Канатной, носившей в XIX веке немецкое имя Репербан: точь-в-точь как и знаменитая гамбургская «улица греха». Только вот крохотные воротца появились никак не раньше середины тридцатых годов прошлого столетия: прорублены они были в рамках кампании по благоустройству нынешней Торниде вяльяк — Башенной площади.* * *
В известном смысле Таллину не повезло: для дам здешнего полусвета за восемь минувших веков не нашлось ни своего Тулуз-Лотрека, ни собственного Куприна — невоспетыми остаются они и поныне. Но, быть может, именно в этом для города и заключается подлинное везение? Любовь продажная, оставаясь для культурного текста города явлением маргинальным, заставляет поверить: все это оттого, что Таллин любит исключительно по-настоящему. Старомодно и наивно — как провинциальные барышни, фланировавшие два века тому назад между ярмарочными лотками под сенью нигулистских лип. Бескорыстно и безвозмездно. Требуя взамен только одного — верности.Издержки реализма
На фоне уличных переименований, которыми советская власть щедро одарила Старый Таллин, имя основоположника реализма в эстонской литературе — писателя Эдуарда Вильде — выглядело вполне «либерально». Непонятно, правда, чем провинился перед коммунистами средневековый повар Таллинской ратуши Ханс Дункер, чье имя улица, тянущаяся от площади Колесного колодца к ратуше, носила изначально. Однако в год восьмидесяти пятилетия прозаика он был удостоен «персональной» улицы. Просуществовала она, правда, недолго: в 1963 году переименование было внезапно аннулировано — и в честь Эдуарда Вильде назвали улицу в новом жилом районе. Мимо таких странных поступков городская молва пройти не могла: в кратчайшие сроки фольклору было необходимо осмыслить и объяснить, с чего это вдруг писателя «возвысили» до одной из улиц центра, а потом — «сослали» на окраину? Неофициальное объяснение гласило: вначале краеведы отыскали свидетельство того, что молодой Вильде, будучи корреспондентом тартуской газеты, жил в некой гостинице на улице Дункри, приезжая в начале двадцатого столетия по делам в Таллин. Но потом будто бы старожилы начали вспоминать, что это была не гостиница, а «меблированные номера», причем очень сомнительной репутации. Вильде действительно бывал в них, но совсем не в рамках журналистских расследований… Так этот или не так — документально проверить и по сей день, похоже, никто не удосужился. Курьеза ради стоит добавить, что средневековое название улице Дункри тогда так и не вернули, присвоив имя Вана-Тоома — Старого Тоомаса. Если учесть, что в «земной» своей жизни будущий ратушный флюгер был ландскнехтом, то можно не сомневаться: и с обитательницами «Красного монастыря», и с банщицами улицы Сауна был он знаком не понаслышке. Может, именно поэтому в 1989 году горисполком счел за лучшее вернуться к самому первому названию улицы — и возвратил ей имя средневекового повара ратуши Ханса Дункера…
След легенды: таллинский Дон Жуан
Шанса покрасоваться в позаимствованных из музея турнирных доспехах Таллин не упустит, но по натуре своей он не столько «город-рыцарь», сколько «город-купец» и «город-ремесленник». Обстоятельная неспешность, трезвый расчет и граничащая с прижимистостью бережливость во все времена были горожанам ближе, чем склонность к эскападам и авантюрам. Прославленные на всю Европу авантюристы платили ему взаимностью: маршруты их путешествий в Россию, кажется, специально прокладывались по территории современной Прибалтики в объезд Таллина. Даже Тарту может похвастаться хранящимся в университетской библиотеке письмом с автографом Казановы. А уж в курляндской столице Митаве — нынешней латвийской Елгаве — маг и чернокнижник Калиостро морочил головы тамошней знати с десяток дней. До Ревеля ни один, ни другой добраться так и не удосужились. Возможно, предчувствовали: делать им здесь особенно нечего. В лучшем случае — разве что попробовать повторить успех своего знаменитого предшественника — Дон Жуана. И пускай в Севилье, на родине коварного сердцееда и легендарного дамского угодника, о предпринятом им путешествии на далекую северную окраину средневековой Ойкумены даже и не догадываются, таллинцам до того и дела нет. Они-то твердо знают: Дон Жуан их родной город посещением почтил. Одиннадцать миллионов одних только советских зрителей — тому порукой.* * *
Жанр киномюзикла строгого соответствия историческим реалиям не подразумевает: если с экрана уверено распевают: «Но Дон Жуан и в Таллине бывал», значит, так оно и есть, бывал. Изначально севильский греховодник должен был направиться на берега не Балтийского моря, но Черного: эстонский режиссер Арво Крууземент загорелся идеей экранизации пьесы «Тогда в Севилье» во время посещения Воронцовского дворца в Алупке. Фильм планировали с размахом: главные роли в нем прочили беспроигрышным звездам — Анастасии Вертинской, Вячеславу Тихонову, Татьяне Дорониной. Начались В переговоры, но в планы и намерения кинематографистов внес свои коррективы… туризм. Точнее — возобновление прерванного еще Второй мировой войной пассажирского сообщения между Таллином и Хельсинки. Финский теплоход «Велламо» открыл его вновь в 1965 году, пять лет спустя его сменило советское судно «Ванемуйне». Таллин после четвертьвекового перерыва вновь стал доступен для зарубежных туристов. Чтобы стимулировать их приток, власти задумали снять несколько «рекламных лент», знакомящих потенциальных гостей с достопримечательностями города. Результат получился, говоря откровенно, «сшитым на живую нитку»: парадоксальная пьеса советского сценариста Самуила Алешина о том, что Дон Жуан на самом деле был не мужчиной, а женщиной, превратилась в кинематографический «капустник». Улицы и переулки Старого Таллина сыграли в комедийной ленте не более чем роль «натуральных декораций», практически никак не связанных со значительно упрощенной сюжетной линией оригинального текста. Едва ли большинству зрителей «Дон Жуан в Таллине» запомнился чем-то большим, нежели лихими трюками, фехтовальными номерами, песнями, музыкой и «средневековым» антуражем. Но для самого Таллина он значил нечто большее: возрождение легенды, существовавшей, возможно, задолго до того, как братья Люмьер впервые взялись за ручку киноаппарата.* * *
Когда именно предки современных таллинцев впервые узнали о самом существовании испанского сластолюбца — точно установить, наверное, теперь уже не сможет никто. Первый сын Испании поселился в городе свыше трехсот лет тому назад: в 1702 году уроженец Сарагосы со звучным именем Альфонсо Телладо Карвалидо открыл первое в Ревеле кафе. Рассказывал ли он за кружкой ароматного напитка его посетителям о своем земляке, к тому времени уже прочно вошедшем в литературную традицию Западной Европы, — остается только строить догадки. Доподлинно известно другое: имя севильского авантюриста на слуху у ревельской публики закрепилось лет на сто позднее — после того как в городском театре состоялась премьера оперы Моцарта «Дон Жуан». Минуло еще одно столетие — и в первой трети XX века горожане уже без труда могли показать и могилу его таллинского «двойника», и дом, в котором он якобы жил, и даже жилище одной из его многочисленных местных жертв. В том, что она была далеко не одна, жители Ревеля столетней давности ничуть не сомневались: даром, что ли, вдоль восточного отрезка городских укреплений тянулась целая улица Рогоносцев?! Топоним этот, бытовавший преимущественно в остзейской среде, относился, конечно же, к разряду шуточных: официально нынешняя улица Уус именовалась по-немецки Neugasse — Новая. Здание, явно прозвучавшее новым словом в традиционной архитектуре ганзейского города и, что не менее важно, ставшее источником причудливого прозвища улицы, — сохранилось. Служащее последние лет двадцать посольством Литовской Республики, оно, если верить фольклору, навсегда увековечило в своем облике любовные победы таллинского Дон Жуана. Или — что будет вернее — позор, который он якобы принес своими похождениями одному из почтенных ревельских семьянинов.* * *
На фоне суровой северной готики, определяющей архитектурное лицо Старого Таллина, постройка по адресу Уус, 15, кажется игривой, если не сказать — легкомысленной. Четкая симметрия фасада, салатово-пастельный цвет стен, вычурный картуш чердачного окна, филигранная ковка металлических деталей, а прежде всего — безудержный декор лепного портала не оставляют сомнений: стиль рококо. Если не знать исторического фона, то и вправду заподозришь в доме особняк дворянина «галантного века», одновременно утонченного, изысканного, знающего толк в чувственных наслаждениях и совершенно не намеренного скрывать это от окружающих. Между тем дворяне на окраинной улочке Уус, первой проложенной за чертой крепостных стен в тридцатые годы XVII века, не селились. Уникальный для Таллина, да и для всей Эстонии, образчик зодчества эпохи рококо — не жилое здание, а… производственное. Или, если угодно, административно-хозяйственное — браковка конопли: важное это учреждение, ответственное за контроль качества крайне необходимых парусному флоту пеньковых канатов, ревельский магистрат постановил основать еще в 1729 году. Для разоренного Северной войной и чумой города задача эта оказалась поначалу непосильная. Лишь двадцать лет спустя три бюргера решили приобрести заброшенный жилой дом шведских времен на Новой улице и восстановить его для новых нужд. Здание браковки конопли принадлежало городу. Но фасад его украшают не символы городской власти, а три геральдические композиции — своего рода «автографы», навсегда оставленные тремя «спонсорами» его строительства непосредственно над входом. Центральная часть композиции отведена якорю — гербовой фигуре онемечившегося английского рода Гернетов: ратман, а впоследствии и бургомистр Вильгельм Генрих Гернет, вероятно, был инициатором всей перестройки здания. Справа от якоря — вставший на дыбы лев, опирающийся на ствол дерева: герб старейшины Большой гильдии, купца Ганса Якоба Эггерса — первого арендатора предприятия по браковке пеньковых канатов и сырья для них. Слева — герб купеческой семьи Адольфа Ома, также профинансировавшей строительство здания браковки конопли: бросающееся в глаза с первого взгляда сердце, увенчанное парой ветвистых оленьих рогов. Не надо быть краеведческим светилом, чтобы догадаться: своим неофициальным именем улица Уус обязана именно этому курьезному элементу в декоре самого примечательного на ней дома. Род Омов по мужской линии прервался в первой трети XIX века: память об их фамильном гербе стерлась. Но двусмысленный геральдический символ с уличного фасада никуда не исчез.* * *
Если в конце XIX века горожане сомневались, жил ли на улице Уус обманутый Дон Жуаном честный супруг или же сам легендарный обольститель, то с 1909 года сомнения по поводу последнего развеялись. Ну конечно же, если где он и квартировал в Таллине, так на углу нынешних улиц Пикк и Хобузепеа. Недаром же архитектор Жак Розенбаум, выстроивший на месте снесенных средневековых построек четырехэтажный дом, поместил на карнизе его скульптурный «портрет»! Розовощекий господин, явно битый временем, пожалуй, старомодный, но всячески молодящийся и даже стремящийся скрыть проступающие морщины под густым слоем пудры и грима, — бесспорный фаворит городских преданий последние лет сто. В зависимости от фантазии гида — а также половой и возрастной аудитории его клиентов — хозяин или жилец здания, занимаемого ныне Российским посольством, лорнетирует либо проходящих по улице горожанок, либо обитательниц дома напротив. Во втором случае ими могут оказаться кто угодно: супруга соседа-домовладельца, их дочери, служанки. А дальше — что уж буйное воображение подскажет: от вполне «приличных» телефонисток до прачек, поломоек и девиц легкого поведения. Аппаратура, вызывающая ассоциации с фразой: «Барышня, Смольный!», за пыльными окнами действительно была различима еще и в начале девяностых — в советское время в здании располагался коммутатор служебной связи. До того здесь обитал Таллинский политехникум, а изначально дом принадлежал ремесленной гильдии святого Канута: понятно, что никаких женщин в ее окнах разглядеть было невозможно даже при большом желании. Сомнительна и новейшая версия легенды: дескать, скульптурный портрет того, кого принимают за таллинского Дон Жуана, на самом деле — насмешка над тем, кто принес заказчику дома деньги и славу. Молва полагает: купец Рейнгольд Рейхман был владельцем крупнейшей в Таллине газеты. Тогда фигура на карнизе дома — журналист-сплетник, выглядывающий для нее очередную сенсацию. При желании можно разглядеть и «сплетницу» — черную кошку, задравшую хвост, на котором она разносит слухи, на карнизе бокового фасада, выходящего на улицу Хобузепеа.* * *
Увы, при всем изяществе и это предание ничего общего с реальностью не имеет: бизнес домовладельца Рейхмана к СМИ никакого отношения не имел. Да и Розенбаум — в 1909 году начинающий двадцатидевятилетний архитектор — вряд ли стал бы позволять себе иронию над заказчиком: дом с лорнетирующим господином был его архитектурным дебютом. Более того, согласно первоначальному проекту, никакой скульптуры на главном фасаде здания не предполагалось. А на перпендикулярном, по сути, тыльном, вместо кошки должен был красоваться заспанный увалень в ночном колпаке. Что заставило автора отказаться от изначального замысла, сообщить потомкам он, к сожалению, нужным не посчитал. Однако прообраз окончательного варианта — бюста молодящегося старичка с лорнетом в руках — отыскать не сложно. С изрядной долей вероятности можно предполагать, что своим появлением на свет господин с лорнетом обязан архивариусу Готхарду Хансену — автору мемуаров, изданных под названием «Родной город Ревель в годы моего детства». «Так как город отставал от остального мира лет на пятьдесят, „эпоха напудренных париков“ задержалась тут очень надолго, — писал он. — Мужчины упорно щеголяли в обществе в париках с косичками, да еще с какими! Подобных комических чудаков и оригиналов позднейшее время и выдумать себе не могло. Но эти бравые дедки, несмотря на свое упрямство, обладали в массе своей добрым сердцем». Не в среде ли этих старожилов, еще помнящих ревельскую премьеру моцартовского «Дон Жуана», родилась легенда о его местном «двойнике» — и была «привязана» к конкретной точке на карте? Или, если быть совсем уж пунктуальным — на плане захоронений под полом Домского собора в Верхнем городе.* * *
С недавних пор попасть в старейшую таллинскую церковь туристу можно только через боковой вход, расположенный ближе к основанию колокольни. Но если ненароком посчастливится оказаться на Вышгороде воскресным утром, можно попробовать затесаться в ряды прихожан — и войти в Домский собор так, как это положено. При этом — разумеется, только по окончании службы — удастся насладиться уникальным интерьером, избежав досадной платы за вход. Но еще прежде того — невольно привести в исполнение суровый судебный приговор трехвековой давности. Согласно широко известному в городе преданию, вынесен он был дворянину Отто Йохану Туве, наследному владельцу поместий Эдизе, Вяэна и Коону: имя его и по сей день можно разобрать на истертой могильной плите прямо у входа под церковные своды. Жизнь свою он прожил в распутстве, но, чувствуя кончину, попросил земной суд помочь избежать ему хоть толику суда небесного. Судьи, удивившись просьбе, постановили: пусть всякий, входящий в дом Божий, вытирает о могилу грешника грязь с подошв. О реальном Туве известно до досадного мало: другие представители этого рода, захороненные под сводами Домского собора, оставили после себя пышные резные эпитафии, где перечислены их заслуги. От Отто Йохана осталась лишь дата смерти: 1696 год. Да упоминание о том, что за многочисленные долги он был вынужден продать вассальный замок Эдизе исконным соперникам, баронам Майделям. Можно ли на основании этого факта биографии заключить, что Туве был сердцеедом и соблазнителем, чьи похождения могли сравниться с авантюрами знаменитого севильского дворянина? Едва ли. Но фольклор, похоже, руководствуется тем, что и Йохан, и Хуан — лишь национальные вариации одного и того же имени Иоанн, и упорно кличет раскаявшегося грешника «таллинским Дон Жуаном». Впрочем, раскаявшегося ли? Ведь, согласно «продолжению» легенды, Туве сам приказал похоронить себя под церковным порогом, дабы и посмертно «заглядывать» под дамские юбки…* * *
Фильм «Дон Жуан в Таллине» кинокритики приняли достаточно прохладно — и, говоря начистоту, было за что. Впрочем, на народной популярности это не отразилось: по словам автора, костюмированный мюзикл оставался неизменным «хитом» кинопрограмм санаториев и домов отдыха. Как-то, лет через пятнадцать после премьеры, уже в середине восьмидесятых, режиссер поинтересовался у администрации одного из них: в чем заключается популярность проходной, в сущности, ленты. «Ответом мне была всего одна фраза, — делился несколько лет тому назад давнишними воспоминаниями Арво Крууземент. — Этот фильм, знаете ли, заставляет зрителей вновь говорить о любви». Кто после этого усомнится, что легендарный любовник действительно бывал в Таллине?! И даже если след этого визита сохранился лишь на поблекшей кинопленке — бывал явно не зря.Скандальная слава
В конце двадцатых — начале тридцатых годов в самых дорогих кофейнях Таллина часто видели представительного молодого человека, окруженного миловидными особами. Спутницы менялись часто, но общество не усматривало в том ничего предосудительного: наличие солидного донжуанского списка было для начинающего светского льва почти что обязательным. Гром грянул, когда почтовые службы ряда европейских государств обратились в Таллин с требованием провести срочное расследование: аноним из Эстонии рассылал по всему свету в конвертах… эротические фотокарточки. Выйти на след скандального фотографа было просто: им оказался тот самый юноша — сын владельца Сакуской пивоварни Эдуарда фон Баггенхуфвудта и дочери основателя дачного предместья Нымме, чудаковатого барона Николая фон Глена. Пикантность ситуации заключалась в том, что поначалу он не платил своим «моделям» ни гроша: жены и дочери далеко не бедствующих таллинцев позировали своему соблазнителю исключительно из «любви к высокому искусству». Более того, одна из них, ради отведения от возлюбленного подозрений, даже согласилась заключить с ним законный брак — благо, гражданское бракосочетание в Эстонской Республике уже практиковалось широко. Попытка напечатать манифест, в котором новоявленный «поборник свободной и чистой любви» стремился донести до масс свои «прогрессивные взгляды», успехом не увенчалась: доморощенного порнографа сослали на пустынный остров Кихну. Толку от ссылки было мало. То ли сбежав, то ли вовсе не явившись на место отбытия наказания, осужденный пустился в головокружительную одиссею по Европе, с радостью отслеживаемую бульварными изданиями. Известия о скабрезных фотокарточках, выпущенных под псевдонимом Нед де Багго, то и дело поступали то из Латвии, то из Германии, то даже из такого патриархального уголка, как Андорра. На крупные неприятности уроженец Таллина нарвался на Мальорке: диктатор Франко был ревностным католиком, и суд города Лас-Пальмаса приговорил фотографа к трем годам тюрьмы. Дальнейшая судьба скандальной «звезды» неясна. Во всяком случае, когда он в 1961 году пытался ходатайствовать о шведском подданстве, официальный Стокгольм ответил отказом. В середине девяностых издатели эстонского «журнала для взрослых» предложили повесить мемориальную табличку на доме по адресу Рауа, 6, где находилось ателье Багго. По понятной причине инициативу эту городские власти Таллина оставили без какого-либо отклика.
Палач: не любимый никем
Улица Харью и в лучшие-то свои годы обилием туристических достопримечательностей особо похвастаться не могла, а после трагической мартовской ночи 1944 года, когда Таллин подвергся бомбардировке советской военной авиации, — так и подавно. После сноса разрушенных войной кварталов, конечно, открылся панорамный вид на церковь Нигулисте, но гиды почему-то все больше предпочитают вести рассказ о ней, стоя на перекрестке улиц Ратаскаеву, Рюйтли и Пикк-Ялг. В зимние месяцы парк, разбитый на месте руин, переливается огнями катка — но сколько ее, той зимы? Любителям архитектурных курьезов можно показать Дом писателей — «хрущевку» под черепичной крышей, — но много ли таких ценителей среди туристов? Не иначе как ради того, чтобы избавить экскурсоводов от мучительности вынужденного молчания, городские власти решили привнести в пространство одной из основных артерий уличной жизни Старого Таллина чуток «средневековой» экзотики. Трасса былой улицы Трепи — среди русских старожилов она бытовала под именем Лестничного переулка, — закопанная в ходе послевоенных восстановительных работ, была расчищена и в августе 2007 года вновь открыта для пешеходов. Короткий проход, соединяющий улицу Харью с подворьем церкви Нигулисте, как и много веков тому назад, завершается ныне крохотными воротцами с подобающим названием: Ныеласильм, то бишь — Игольное ушко. Стоит ли пояснять, что столь колоритный топоним, возвращенный к жизни после более чем полувекового забвения, попросту не мог не попасть под самое пристальное внимание фольклора?!* * *
Рождению новейшей таллинской легенды поспособствовали два фактора: само словосочетание «игольное ушко», отсылающее к библейской притче о зыбкости шанса на вхождение богача в Царствие небесное, и былое направление улицы Харью. Это сейчас, едва минув снесенные полтора века тому назад Харьюские ворота, улица растворяется в шири площади Вабадузе, напоминая о своем существовании лишь булыжным мощением, специально выложенным среди бетонных плит мостовой. Полтысячелетия тому назад она тянулась мимо капеллы Святой Барбары, чумного кладбища при ней, незаметно перетекала в русло нынешней улицы Роозикрантси и наконец выводила к Иерусалимской горке: городским виселицам и эшафоту. Улицей Грешников — что бы ни утверждали на этот счет авторы «исторических» заметок в периодике столетней давности — Харью в черте крепостных стен никогда не называлась, но осужденных магистратским судом проследовало по ней в свой последний путь немало. «Однако, — тут гиды почему-то переходят на доверительный шепот, — если преступник каким-то чудом умудрялся усыпить бдительность сопровождающих его к месту казни и, затерявшись в толпе, вбежать в „Игольное ушко“, его полагалось оставить в живых». В милости к падшим авторам подобных баек не откажешь. Как и их собратьям по ремеслу, рассказывающим — правда, без привязки к конкретному объекту — о существовании в средневековом Ревеле еще одной «лазейки» для осужденных. Якобы приговоренная к смерти преступница могла спасти свою жизнь в том случае, если соглашалась сочетаться законным браком с самым презираемым человеком в городе — палачом. Фиктивность процедуры исключалась: стоило заплечных дел мастеру сообщить, что исполнять прямые обязанности жена не спешит, смертный приговор ей вновь вступал в силу.* * *
Как и всякий образчик городского фольклора, крупицу неоспоримых исторических фактов обе рассказываемые доверчивым туристам байки, разумеется, в себе несут — но лишь малую толику. В средневековом городе палач действительно относился к числу обладателей«отверженных» или «бесчестных» профессий — и потому создать семью было для него, говоря помягче, весьма проблематично. «Игольное ушко», разумеется, не могло даровать его «клиентам» помилования, — но сам исполнитель судебных приговоров и воротами с причудливым именем, и ведущим к ним переулком, отправляясь на службу, наверняка пользовался. Он и жил тут неподалеку — не на самой, правда, улице Харью — она была для этого слишком «парадная», а через квартал от нее. Там, где чеканили монету, лили пушки и колокола, подковывали лошадей, — на городском работном дворе. Палач и сам был на все руки мастер. Кроме проведения экзекуций, он был обязан следить за санитарно-гигиеническим состоянием улиц и общественной моралью, оказывать медицинскую помощь и даже — выступать гарантом законности муниципальных выборов. Специалист настолько «широкого профиля» наверняка вселял в души современников и сограждан противоречивые чувства. С одной стороны, его опасались, побаивались и откровенно недолюбливали. С другой — испытывали нечто вроде восхищения. Ведь сколь позорным ни считалось палаческое ремесло, оно воплощало собой справедливость и всесильность Закона. А кроме того, запретное и отверженное всегда скрывают в себе элемент привлекательного и манящего.* * *
Родившийся в 1920 году классик современной эстонской прозы Яан Кросс с последним ревельским палачом «разминулся во времени» примерно на шесть десятилетий, но литературный портрет представителя этой профессии выписан им сочно: «…Вот он шагает, провожая какого-нибудь жалкого грешника в последний путь — в расстегнутой на волосатой груди красной рубахе, переваливаясь с ноги на ногу, тихонько насвистывая и бросая вызывающие взгляды на рыночную толпу. В такой день он не опускает глаз, ибо сегодня он городу и взаправду нужен. В наступившей на мгновение тишине — только лошади продолжают тихо ржать — можно услышать попреки старух: „ох, и скотина!“ Или девичьи вздохи: „ох, какой красавец!“» Так это было в середине XVI века или же не совсем так, как описано в историческом романе «Между тремя поветриями», — проверить невозможно. Но от вздохов прекрасной половины населения Ревеля ганзейской поры палачу было не легче. По крайней мере, в пространных письменных жалобах, адресованных магистрату в следующем, семнадцатом столетии, палачи неоднократно сокрушались: ни в одном немецком городе не относятся к ним с презрением, равным ревельскому, — даже в соседней Риге. Упреки были небезосновательны. Палач Якоб Флигенрик, например, возмущался: он даже лишен возможности похоронить своего скончавшегося ребенка — последние забулдыги-могильщики почитают за оскорбление принимать от него деньги за труд. Не слаще было детям палача и при жизни. В школу, допустим, ходить они были обязаны наряду с прочими сверстниками. Да только вот появляться в ней могли не ранее, чем через час после того, как дети прочих добропорядочных горожан уже разойдутся по домам. Неудивительно, что особого выбора, кроме отцовского ремесла, у наследников палача не было. Но заступить на палаческий пост они могли не ранее, чем вступив в законный брак. И тут снова возникало препятствие. Заключать браки дети палачей могли исключительно внутри «профессионального круга». Так как содержать двух палачей Ревелю было не по карману, невесту «выписывали» из другого города. Хорошо, если таковая имелась в семье палача ближайших Пярну, Нарвы, Тарту или даже в Риге. В противном случае приходилось вступать в долгую переписку с палаческими семьями «заморской» Германии. Ведь породниться палач мог только со своими соплеменниками. А должность эта, хотя и считалась презренной, могла быть доверена отцами города исключительно немцу. В подмастерья, правда, охотно брали и «ненемцев» — эстонское население предместий. Именно им была поручена самая черновая работа: уборка улиц, вывоз за черту городских укреплений мусора и трупов животных, чистка выгребных ям, изгнание из церквей ненароком забежавших туда собак. Сам палач в «свободное от основной работы» время занимался делами куда как более чистыми. В частности, во главе судебных приставов обходил дома и взыскивал с нерадивых хозяев неуплаченные вовремя подати и налоги. Вместе с городским врачом и «достойными горожанами» он — по крайней мере, в шведское время — инспектировал корчмы и постоялые дворы предместий на предмет выявления тайных домов свиданий. Палач мог оказывать и услуги костоправа: в Средние века вполне разумно считалось, что тот, кто умеет вытягивать сухожилия и выворачивать члены, лучше всех сумеет и возвратить их на прежнее место. Раз в год — незадолго до Рождества, в День святого Фомы — ревельский палач мог позабыть о своем незавидном положении: его появления в распахнутом окне ратуши ждал едва ли не весь город. Церемониально переламывая над головой оструганную доску палач давал согражданам знать: ежегодные выборы состава городского совета официально признаны состоявшимися. Значит, год успешно завершен: ничто не должно мешать горожанам начинать активно готовиться к череде зимних праздников.* * *
Ревельский палач, находившийся на периферии городской жизни в прямом и переносном смысле, свой маргинальный статус, похоже, сохранил и после того, как стал объектом изучения историков. За последние полвека не опубликовано ни одной академической статьи, посвященной представителям этой профессии персонально. Что там статья — даже полный список имен палачей ни одним из исследователей таллинской старины пока не составлен. Правда, помимо упомянутого уже бедолаги Флигенрика по крайней мере еще один исполнитель судебных приговоров магистрата известен нам по имени. Звали его Илья Ребров, и основным местом службы была для него канцелярия эстляндского губернатора. К «услугам» гренадера богатырского роста и ладного телесного сложения отцы города были вынуждены прибегнуть в сороковых годах XVIII века: ответственный пост по неизвестной причине оставался вакантным, а карать преступников было необходимо. Насколько хорошо справлялся Ребров со своей «дополнительной служебной нагрузкой», сведений не сохранилось. Но на страницы истории он попал исключительно в силу того, что, поддавшись чарам молодой прелестницы, чуть было сам не оказался на эшафоте. В 1744 году он по наущению молодой офицерской жены Прасковьи Дьячковой, куда как больше озабоченной приобретением украшений и драгоценностей, чем верностью своему супругу, оказался вовлечен в убийство владельца модного магазина Фридриха Энгера. Можно только догадываться о смятении в душе гренадера, когда уже во время следствия он узнал: коварная Прасковья решила воспользоваться его физической силой, а бежать из города планировала вовсе не с ним, а с неким прапорщиком Гильдебрандтом… Только восшествие на престол Елизаветы Петровны, первым своим указом отменившей в России смертную казнь, спасло ревельского палача от мучительной и позорной гибели: суд приговорил его к колесованию. Вместе со своей сообщницей гренадер был сослан в Сибирь на вечное поселение и каторжные работы. А ратманы, как говорят, еще более убедились в прозорливости законодательства былых времен. Во всяком случае, сведений о том, чтобы экзекуции в Ревеле проводили представители иных национальностей, отсутствуют — ремесло палача оставалось немецким до самого своего упразднения. Упразднено оно было в ходе административной реформы семидесятых годов девятнадцатого столетия, когда магистрат сменила городская дума, а тома средневекового Любекского права отправились в архив. Но уже за полвека до того аптекарь Йоханн Бурхарт — создатель первого в городе музея — приобрел в свою коллекцию средневековый меч ревельского палача: фактически по цене металлолома. Пыточным орудиям палача «повезло» еще меньше: их за бесценок продали какому-то старьевщику. Так что при создании Городского музея пришлось заказывать копии в Любеке.* * *
Февраль 1699 года для ревельских палачей стал, вероятно, самым радостным месяцем за весь предшествующий период существования этой должности. Рескриптом короля Карла XII «бесчестие» с них было официально снято: отныне каждый член семьи палача мог выбирать для себя любую профессию, а сам он в случае смерти прежней супруги брать в жены любую горожанку. Мириться со столь прозаической утратой таллинскими палачами их мрачновато-мистического ореола фольклор не намерен. И вот уже рождаются предания, согласно которым монаршая милость была отнюдь не случайной, но по праву заслуженной. Одно из них рассказывает, как в самую темную ночь года в дверь дома палача постучали. Впустив запоздалого гостя, хозяин не поверил своим глазам: раскачиваясь на декабрьском ветру, перед ним стоял скелет в истлевшем белом саване, сжимающий в руках волынку. Палач точно видывал его раньше. Собравшись с мыслями, он сообразил: перед ним — главное действующее лицо полотна «Пляска Смерти», известного всякому, кто бывал на богослужении в церкви Нигулисте, явившееся в город собственной персоной. Смерть подтвердила его догадки: в свое время члены магистрата не заплатили создателю картины сполна — сказали, мол, дела идут неважно и лишних денег в казне нет. Тогда художник сказал: когда дела и впрямь пойдут плохо, придет вам в город помощник. Настало время исполняться проклятию мастера: минувшим днем смертность в Ревеле впервые за его историю превысила рождаемость. Значит, с управлением городом люди справиться не в силах — и теперь Смерть по праву пришла перенять у них полноту власти. От ошалевшего палача она требовала только одного — ключи от ратуши. А когда тот промолвил, что передать их кому-либо может лишь член магистрата, велела немедленно отправляться на пир в Большую гильдию: отцы города праздновали свое переизбрание. С крайней неохотой захмелевшие ратманы вышли из-за стола. Наконец самые храбрые вызвались идти с палачом в камеру пыток, где тот осмотрительно запер свою гостью. Войдя же под ее низкий свод, в ужасе схватились за головы. Призвали ратушного писаря. Тот подтвердил: действительно, минувшим днем демографический баланс был нарушен — и Смерть имеет основание требовать себе бразды правления. Стали думать-гадать: кто отважится вызвать из-за праздничного стола самого бургомистра, постарается доходчиво сообщить ему о случившемся и упросит явиться в ратушу? Никто на себя деликатную миссию брать не спешил. Согласился было вновь палач идти — да Смерть его не отпустила. Сказала, что он единственный из присутствующих ей доверие внушает. На радость ратманов заприметил один из них нищего, через Ратушную площадь спешащего. Окрикнули его — да ни на грозные приказы, ни на щедрые обещания бедняк не отреагировал. «Некогда мне, знаете ли! — кинул он через плечо, даже не оглянувшись на отчаявшихся отцов города. — Сын у меня, говорят, только что родился. Очень я на чердак к жене своей спешу». Услышав эти слова. Смерть пронзительно вскрикнула, извлекла из болтающейся на плече волынки нечеловеческий звук, метнулась к двери — да и сгинула без следа, словно дурное сновидение. Потрясенные отцы города немедленно постановили: пышные пиры по поводу выборов в магистрат раз и навсегда отменить, сэкономленные же деньги — раздать малоимущим родителям. Не позабыли ратманы и отважного палача, в критической ситуации не потерявшего голову и не пустившего зловещую гостью в святая святых таллинской муниципальной власти. На целый год его освободили от налогов. А главное — решительно вычеркнули из списка городских париев, о чем уже наутро объявили через герольдов всему городу.* * *
Вот уже скоро полтора столетия, как палач в Таллине — достояние истории, кажущейся порой даже еще более древней, чем есть на самом деле. Но фигура палача — самого презираемого среди городских служащих и самого уважаемого из числа представителей «бесчестных» профессий, похоже, по-прежнему не безразлична для горожан. Паренек в красном колпаке обязательно сопровождает костюмированную процессию во время церемонии открытия Дней Старого города — ежегодного фестиваля таллинской старины, проводящегося в начале лета. Индрек Харгл, автор книги «Аптекарь Мельхиор и дочь палача», ставшей одним из бестселлеров 2011 года, превращает судьбу детей исполнителя судебных приговоров в одну из сюжетных линий детективного романа в антураже ганзейского Ревеля. И пускай реальные представители палаческой профессии спасти приговоренных к смерти были не в силах — даже столь романтическим способом, как предоставление преступнице собственной руки и сердца. Что бы ни говорили историки, подобное право за палачами таллинский фольклор с навязчивой упорностью оставляет. А это, признаться, чего-нибудь да и стоит.Осязаемый след
Отыскать на улочках таллинского Старого города дом палача не составит большого труда даже у тех, кто воспользуется для этой цели интернет-поисковиком. Стоит забить словосочетание в окошко поиска, и всемирная паутина незамедлительно подскажет ответ, в справедливости которого сомнений, на первый взгляд, никаких нет. Конечно же, Рюйтли, 18, — словно нарочно, с расчетом на тех, кто сомневается, высокий готический фронтон дома венчает флюгер, приветливо машущий горожанину и туристу стальным полотном… палаческого топора. Вот уже третье десятилетие кряду флюгер вводит в заблуждение. Причем в двойное. Во-первых, ревельский палач орудовал исключительно мечом. Во-вторых, в столь роскошном и обширном домовладении он никогда не проживал. Где жил он с семьей в Средние века, неизвестно. Не исключено — в помещениях ютящейся за ратушей городской тюрьмы. А с XVII века квартировал в крохотном плитняковом домике практически у подножья башни Кик-ин-де-Кёк. Каменная коробка его стен и по сей день стоит во дворе дома по адресу Рюйтли, 18. Крыша же и межэтажные перекрытия выгорели во Вторую мировую войну — и с тех пор восстановлены по неизвестной причине так и не были. Заодно строение лишилось и отдельного, собственного номерного знака. Никаких следов пребывания здесь палача, его семейства и слуг в наши дни отыскать не удастся. Но еще каких-нибудь сто двадцать лет тому назад «след» этот был очевиден, а главное… осязаем. Дело в том, что и после упразднения поста ревельского палача ассенизационный обоз, которым со Средних веков управляли его подручные, оставался во дворе на улице Рюйтли. Передислоцирован оттуда он был в девяностых годах XIX века: утрата этого «реликта Средневековья» не вызвала сожаления даже у самых преданных ревнителей старины.
Марципан: сладкие воспоминания
Родившиеся в семидесятых помнят: средневековый парусник, целующаяся парочка на корме и два алых сердца на палубе — такие огромные, что в трюм они, надо понимать, не поместились. У таллинцев, появившихся на свет десятилетием позже, воспоминания несколько иные: массив серых башен под рыжими черепичными крышами, все те же парень с девушкой — вот только сердце осталось одно и сжалось до размера пригоршни. В начале нынешнего тысячелетия иллюстраторы, похоже, перемудрили окончательно: влюбленные затерялись на фоне двух статных мужских фигур и пробегающего лопоухого пса, а сердца — те и вовсе как-то затерялись среди «пряничных» букв заголовка. Они по-прежнему складываются в название, знакомое каждому жителю Эстонии в возрасте от десяти лет и старше. Да и огромному числу их сверстников, читающих на русском, немецком или английском языках: «Мартов хлеб», повесть-сказка Яана Кросса.* * *
Дату рождения легенды, ставшей достоянием фольклора, назвать в большинстве случаев крайне затруднительно. Но нет правил без исключения: история об изобретении в средневековом Таллине марципана — подтверждение тому. Из всех европейских преданий, посвященных этому незамысловатому по своему составу, но чрезвычайно популярному на протяжении последних веков семи лакомству, таллинское — самое молодое. Родилось оно в 1973 году. Согласно ему, марципан — «побочный продукт производства» таллинской аптеки магистрата, появившийся на свет благодаря находчивости аптекарского подмастерья. Имя его якобы увековечено в названии кондитерского изделия: марципан — хлеб Марта. По словам самого автора, «Мартов хлеб» изначально был для него чем-то вроде такого же «побочного продукта» во время работы над самым масштабным его произведением — оказавшимся в итоге тетралогией историческим романом «Между тремя поветриями». Реконструируя хитросплетения биографии ревельского хрониста Бальтазара Руссова, жившего в конце шестнадцатого столетия, писатель настолько «пропитался» духом таллинской старины, что решил поделиться им с читателями среднего школьного возраста. Повесть классика современной эстонской литературы буквально дышит Средневековьем. Оно ощутимо во всем: от даты, стилизованной под аутентичную, — «год Господень 1441, 21 сентября» — до колоритного ассортимента фармацевтического склада ганзейской поры. Именно все эти сушеные лягушачьи лапки, толченые ласточкины гнезда, прах мумий и прочие неаппетитные ингредиенты заставили аптекарского подмастерья Марта слегка «подкорректировать» рецепт лекарства, которое готовилось для занемогшего ратмана. Ведь по обычаю той поры, прежде чем дать пациенту прописанное снадобье, врач должен был отведать его сам. Или — в крайнем случае — перепоручить это своему ученику, дабы отвести любые сомнения в безопасности медикамента и побороть отвращение к нему. Март, понимая, что изобразить безмятежную мину во время показательной дегустации у постели больного ему не удастся, решил заменить неудобоваримые продукты сластями, которые также продавались в аптеке. Благо точно проследить за его действиями сам аптекарь не мог: непрестанно чихающий, он нахлобучил себе на голову глиняный горшок — чтобы драгоценные препараты не улетали с фармацевтических весов. Лекарство, приготовленное по видоизмененному Мартом рецепту, не только вылечило страждущего ратмана, но и помогло аптекарскому ученику покорить сердце его дочери Матильды. Епископ Домского собора, благословивший молодых на брак, повелел дать чудо-лакомству подобающее ему латинское название. Martipanis, то бишь марципан, — Мартов хлеб и есть!* * *
Легенда обвораживает. Звучит она настолько правдоподобно, что никак не желаешь верить: название лакомства — как, собственно, и оно само — ближневосточного происхождения. Изначальная этимология его не менее туманна, как и путь проникновения сласти в средневековую Европу. По одной версии, марципан — «трофей» крестоносцев, по другой — наследие мавров, на заре Средневековья захвативших Испанию. Одни исследователи считают, что иноземное яство нарекли в честь святого Марка — покровителя Венеции, выступавшей «спонсором» Крестовых походов. Правда, где, когда и каким образом «Марков хлеб» стал хлебом Мартовым, ответить они затрудняются. Другие говорят, что изначально это вовсе не «Мартов хлеб», а «мартовский». То есть дозволенный к употреблению даже самым благочестивым сладкоежкам в марте месяце, на который приходятся наиболее строгие для католиков недели церковного поста. Третьи полагают, что название, ставшее на средневековом Западе повсеместным, не более чем искаженное слово, в одном из восточных языков означающее нечто вроде «наисладчайший», — только вот договориться, в каком именно, никак не могут. В любом случае, с пятнадцатого столетия марципан был европейцам известен. Примечательно, что в миндальное тесто в ту пору добавляли не только сахар: были и горькие марципаны, и даже соленые — именно их-то и прописывали пациентам средневековые эскулапы. Старейший перечень лекарств, разрешенных городскими властями к продаже в таллинской ратушной аптеке, датируется 1695 годом. Марципан в нем присутствует, но это вовсе не говорит, что до того о нем в Таллине не знали. Скорее наоборот, в самом начале того же семнадцатого столетия магистрат обратился к камнерезу, скульптору и архитектору Арендту Пассеру с просьбой изготовить две формы для литья марципанов, украшенные большим и малым городским гербом. Чего в средневековом Ревеле не знали стопроцентно — так это того, что через много веков марципан превратится в один из кулинарных символов города, несмотря на то что рецепт этого лакомства, вне всяческих сомнений, попал в здешние края из германских земель. Город, претендующий на титул «родины немецкого марципана» — Любек. К Таллину ганзейской поры он относился примерно так, как имперский Санкт-Петербург двухсотлетней давности — к Гельсингфорсу: был полным образцом для подражания. О любекском происхождении лакомства, ставшего «таллинским брендом», косвенно свидетельствует и форма для марципанового покрытия рождественских тортов, использовавшаяся в Таллине лет девяносто тому назад, — сохранилась она и поныне. Крылатый ангел с елкой в руках парит над средневековыми шпилями, не имеющими в Таллине аналогов. Зато любой житель Любека определит их без труда: слева — Петровская церковь, справа — кафедральный собор. Досадно, но из всех городов севернее Любека собственным, оригинальным рецептом приготовления универсальной сласти мог похвастаться только Кенигсберг: здесь сладкую массу слегка запекали в печи. Таллин, однако, взял не содержанием, а формой: изготовленные здесь марципановые фигурки уже на рубеже девятнадцатого — двадцатого столетий вовсю экспортировались за пределы нынешней Эстонии. Среди ценителей лакомства были не только сладкоежки соседних Риги и Хельсинки, но и венценосные члены царского дома Романовых.* * *
Возможно, первый посетивший Таллин российский монарх — Петр I — еще лакомился марципаном «аптечного изготовления». Но его наследникам на императорском троне нужды в том определенно не было — за «Мартовым хлебом» горожане и гости города направлялись уже не в аптеку, а в кондитерскую. С какого именно периода — сказать сложно. Так, например, некий господин Альберт, владевший в 1789 году домом на месте будущего кафе «Майасмокк», предлагал посетителям «разнообразные торты, шоколад, мандарины», но не марципан. Молчит относительно марципанов и объявление, помещенное в местной газете летом 1824 года вдовой его преемника — кондитера Лоренца Кавицеля: оно рекламирует «всевозможные конфеты множества сортов, пирожные, освежающие напитки и ликеры». Один из последующих владельцев недвижимости по адресу Пикк, 16. — швейцарский кондитер Конрад Рёэпер — на протяжении доброй четверти века устраивал накануне Рождества «выставки сластей». Но были ли среди них марципаны, по-прежнему неясно. О марципанах молчат и мемуаристы, описывающие быт Ревеля середины позапрошлого века. Невольно закрадывается подозрение: а не считалось ли простое в изготовлении и достаточно тяжелое для желудка лакомство неким анахронизмом, вышедшим из моды?! Во всяком случае, в Любеке, где производство марципана известно с шестнадцатого столетия, «фирменным лакомством» он становится лишь в 1806 году: после основания Йоханном Георгом Нидерегерром кондитерской фирмы, носящей фамилию создателя и по сей день. Таллину повезло несколько меньше: предприятию, которое основал местный тезка любекского кондитера — Георг Штуде, сохранить изначальное наименование, к сожалению, не удалось. Но след в городской биографии он безусловно оставил: и в истории предпринимательства, и в архитектурном облике центральной улицы Таллина, и даже — кто бы мог подумать — в поэзии.* * *
«…Которой покупаются у Штуде разнообразных марципанов груды», — писал об очередной «таинственной незнакомке» Игорь Северянин. Новоявленный «король поэтов» имел в виду Георга Фердинанда Штуде, или Штуде-младшего, сына основателя старейшего таллинского кафе, которое последние пятьдесят с лишним лет носит название «Майасмокк» — «Сладкоежка». Его отец, тоже Георг, прибыл в Таллин из Нарвы: выходец из семьи старейшины тамошнего цеха пекарей, он по средневековому еще обычаю должен был постранствовать в годы ученичества по окрестным городам и отшлифовывать изучаемое ремесло. На новом месте он освоился быстро и смог зарекомендовать себя с лучшей стороны. Настолько, что в 1864 году — после трех лет обучения — кондитер Рёэпер продал своему подмастерью Штуде как здание кондитерской на улице Пикк, так и само предприятие. Прошло еще двенадцать лет — и дела у Штуде пошли настолько хорошо, что он задумался о расширении заведения. Соседнее домовладение было выкуплено; проект перестройки двух зданий в одно новое был заказан у архитектора Николая Тамма-старшего. Минуло три месяца — Таллин потерял два средневековых строения. Вместо них на участке между улицами Пикк и Пюхавайму возникло представительное трехэтажное здание в духе историцизма: перепев архитектурных мотивов ренессанса. «Многие помнят еще те тесные и темные комнатушки, где предшественник господина Штуде основал свое предприятие, — писала газета „Revalsche Zeitung“. — Ныне оно находится в здании, безусловно служащем городу украшением…» Хотя своих учеников Георг Штуде то и дело наставлял словами: «Помни всегда: аккуратность и экономия!», сам он в данном случае на затраты не поскупился. Интерьер его кафе — лучший образец венского бидермейера в Таллине — радует глаз и сегодня. В середине тридцатых годов, когда заведения общественного питания радикальным образом модернизировали внутреннее убранство помещений, на все предложения о перестройке сын и продолжатель дела Штуде-старшего отвечал категоричным «нет». Вероятно, он прекрасно понимал: совершенство, достигнутое во время последнего ремонта, произведенного в 1913 году, само по себе служит памятником эпохе и не нуждается в каких-либо дополнениях. Единственным дополнительным штрихом к историческому интерьеру стал фотопортрет Штуде-младшего, появившийся на стене зала для розничной продажи после его кончины осенью 1933 года. Снятый по понятным причинам после присоединения Эстонии к СССР, он вновь вернулся на свое законное место на рубеже восьмидесятых — девяностых годов прошлого уже, XX века.* * *
«Кондитерская Штуде славится своими марципанами, но соорудить из них художественное произведение, сохранить стиль и колорит, и притом так удачно — это уже явление исключительное», — восхищались в 1913 году «Ревельские известия». Восторг репортера понять несложно: к трехсотлетнему юбилею царствующей династии в витрине на улице Пикк появилась целая «патриотическая композиция»: два марципановых богатыря с древнерусским щитом в руках и марципановый Кремль. Выставлялась тут и менее «идеологизированная» продукция. Так, накануне Рождества 1922 года Штуде представил целую марципановую диораму. Созвучность ее тематики зимнему празднику выглядит сомнительной, но исполнение было выше всяческих похвал. «Перед нами — индийское бунгало: через окна и дверь виднеется празднично убранный стол с освещенной елкой, — делились впечатлениями „Последние известия“. — На пороге, в тропическом шлеме, стоит европеец и встречает приближающийся караван слонов. На первом торжественно восседает марципановый магараджа, а последующие — нагружены подарками, очевидно для сахарного европейца. Там и сям разбросаны тропические пальмы, шалаши, перед которыми ведут мирную беседу туземцы». Для того чтобы манящая витрина была лучше видна самым юным покупателям, Штуде распорядился закрепить прямиком под ней на фасаде отрезок металлической трубы — вставать на цыпочки городской детворе отныне было не надо. Воспользоваться нехитрым «маркетинговым приемом» прославленного кондитера можно и сегодня. Только не вполне понятно — с какой целью: традиция украшения витрины кафе «Майасмокк» марципановыми композициям последние годы что-то подзаглохла…* * *
Что еще сохранилось от кондитерского заведения «марципанового мастера» былого Ревеля? Как ни странно, такая хрупкая вещь, как марципановые формы: их коллекция, принадлежащая небольшому музею, расположившемуся в одном здании с кафе «Майасмокк», насчитывает без малого двести штук. Некоторые из них до сих пор используются по назначению. Приглядевшись к плиткам марципана с оттиснутыми видами Таллина, легко заметить: и Толстая Маргарита, и замок Тоомпеа выглядят на них точь-в-точь, как на старых фото — по состоянию конца XIX века. Сохраняется и рецепт столетней давности: согласно ему, содержание муки из толченого миндаля к общей массе марципанового теста должно составлять не менее семидесяти процентов. О добавлении арахиса лучше и не заикаться — дух обоих Штуде не поймет! После последней реставрации, проведенной в 1999 году в ратушной аптеке, марципан, как и много веков тому назад, вновь включен в ассортимент предлагаемой покупателям продукции. И это не просто дань традиции. Ведь марципан — прежде всего лекарство от дурного расположения духа: пациенту из «Мартова хлеба» он помог справиться именно с этим недугом. Даже современная медицина согласна: содержащийся в миндале магний и витамин В способствуют выработке серотонина, необходимого в борьбе с депрессией, проще говоря — с хандрой. Заела однообразная серость будней, и, словно в детстве, очень хочется сказки? Значит, пора вновь отправляться в Таллин — в аптеку, за чудо-лекарством.Хрупкая реликвия
Старейшие формы, хранящиеся в музейной коллекции кафе «Майасмокк», насчитывают век с четвертью: иные из них были изготовлены в конце девятнадцатого столетия. Самый же почтенный по возрасту — по крайней мере, среди известных нам — сохранившийся до наших дней таллинский марципан столь почтенным возрастом похвастаться не может: ему чуть-чуть не хватает до… восьмидесятилетия. В 1935 году некий горожанин решил сделать своей будущей невесте подарок: зашел в кондитерскую к Штуде и купил марципановую фигурку девушки. Возлюбленная подарок оценила: поставила его в сервант, пообещав съесть только после свадьбы. Как и почему съедобная «статуэтка», годная к употреблению в течение четырех месяцев со дня изготовления, дожила до наших дней — загадка. Но в середине двухтысячных годов она вернулась в стены дома по адресу Пикк, 16. Музейной коллекции ее решила передать дама почтенного возраста — если не знать, что прибыла она из Южной Эстонии, можно было опознать в ней одну из самых преданных посетительниц кафе «Майасмокк». Дарительница оказалась дочерью того самого молодого человека, который некогда купил в кондитерской у Штуде подарок своей возлюбленной, переживший все перипетии бурного XX века. Хранителю музея пожилая госпожа рассказала: в любви, согласии и взаимоуважении ее родители прожили всю свою долгую, полную испытаний и отнюдь не сладкую жизнь. Тем, наверное, марципан и схож с настоящими чувствами — с годами они не черствеют, а лишь становятся крепче.
История без конца
* * *
Заботливые руки реставраторов ежегодно возвращают Старому Таллину и его историческим предместьям очередную страницу прошлого. Страницы складываются в главы, главы — в книгу городской истории. Конца этому увесистому фолианту без малого в восемь столетий толщиной пока что, по счастью, не видать. Сюжеты, записанные на его невидимых страницах, влюбленные в свой город таллинцы могут прочесть без труда. И с удовольствием поделиться прочитанным с гостями Таллина. Вариации при пересказе неизбежны: любой специалист по фольклору подтвердит это. Но главное — любовь к месту, где выпало родиться и жить, легенды и предания хранят ревностно. Ревность эта — особого свойства: сделать кого-либо несчастным она не может по определению. Совсем наоборот — всякого, кто готов разделить ее, она способна осчастливить. Своей любовью Таллин охотно делится. Надеясь, что полюбившие его однажды останутся верными городу навсегда.Куда идти: приложение для неисправимых прагматиков
Плоха та городская легенда, которая не имеет конкретной географической привязки, и несчастлив тот турист, который не может эту привязку отыскать. Ведь даже в эпоху интернет-поисковиков и GPS-навигаторов фигура гостя города, растерянно стоящего на перекрестке с туристической картой в руках, не спешит превращаться в реликт прошлого. Оказаться в подобной роли — значит потерять драгоценное в любой туристической поездке время. А потому маршрут прогулки по следам героев таллинских легенд и преданий лучше все же попробовать набросать заранее. Практическая информация, собранная в «самом последнем послесловии» к книге, поможет в этом начинании. Достопримечательности, упомянутые в тексте, распределены в нем в соответствии с главами. Все данные приведены по состоянию на начало 2014 года.* * *
Горка Линды — на планах города обозначена как Lindamägi. Из Нижнего города на нее можно подняться от площади Вабадузе (по лестнице Майера, оставляя по правую руку башню Кик-ин-де-Кёк), но наиболее эффектный подъем — по улице Фальги теэ, от перекрестка Пальдиского шоссе с бульваром Тоомпуйстеэ. Воспользовавшись Фальги теэ, можно оценить объем предпринятых Линдой работ: по левую руку откроется панорама западного обрыва холма Тоомпеа, скрытая со стороны Старого города жилой застройкой. Горка Линды будет в таком случае находиться с правой стороны. Если желание посетить Линдамяги возникнет во время прогулки по Верхнему городу, следует выйти на площадь Лосси (безошибочный ориентир — православный собор Александра Невского) и, оставив церковь по левую руку, спуститься шагов на сто вниз по улице Тоомпеа. Горка Линды опять-таки будет справа. Значительно сложнее добраться до «Ируской матушки» (она же — «Ируская теща»; по-эстонски — «Iru ämm»). Прежде всего, в подземном терминале торгового центра «Viru Keskus» надо сесть в автобус номер 51 и доехать до остановки «Mustakivi»: по счету она будет одиннадцатой. Там следует пересесть на автобус номер 49, идущий в сторону района Меривялья. Остановка «Iru», на которой нужно выходить, — пятая.* * *
Самый эффектный вид на башню Длинный Герман (Pikk Hermann) — с упомянутой выше улицы Фальги теэ, на Толстую Маргариту (Paks Margareeta) — со стороны трамвайной остановки «Linnahall», но официальный ее адрес — улица Пикк, 70. Эстонский морской музей, расположенный в башне Толстая Маргарита, открыт с мая по октябрь все дни в неделю, с октября по май — все дни, за исключением понедельника, с 10:00 до 18:00. В государственные праздники музей закрывается на час раньше. Помимо экспозиции, безусловным «бонусом» станет посещение смотровой площадки, расположенной на верхнем, открытом ярусе башни. Вид отсюда на порт, церковь Олевисте и окрестные крыши заслуживает фотографии как минимум. Панорама, открывающаяся с обзорной платформы Длинного Германа, не менее захватывающая, однако посетить ее не так-то просто: башня является частью здания Рийгикогу (парламента Эстонской Республики). Однако если вы окажетесь в Таллине во второй половине апреля, стоит попытать счастья: в рамках устраиваемых Государственной канцелярией Дней открытых дверей на главную башню Тоомпеаского замка организуются бесплатные экскурсии. А вот на замковые башни Ландскроне и Пильштикер посмотреть удастся только снаружи: удобнее всего это сделать от здания канадского посольства (улица Тоом-Кооли, 13, в Верхнем городе).* * *
Подняться на Поцелуеву горку (Musumägi) можно как от Вируских ворот (Viru Väravad), расположенных, как несложно догадаться, на улице Виру, так и от улицы Валли или же от начала Пярнуского шоссе. Лучше всего посетить горку 21 марта — в дату наступления астрономической весны: городские власти, совместно с молодежными и студенческими организациями проводят здесь веселую церемонию встречи самого романтического времени года. На таллинскую Love Street (отрезок улицы Лаборатоориуми, тянущийся вдоль северо-западного отрезка городской стены) проще всего попасть с улицы Лай — начинается она прямо за углом дома, носящего по ней номер 45.* * *
Место проведения самых пышных свадебных пиров средневекового Ревеля — Большая гильдия — с 1410 года неизменно находится на улице Пикк: ныне здание это носит номер 17. В бывшем гильдейском доме расположен Эстонский исторический музей: экспозиция вписана в интерьер с максимальным пиететом, позволяющим представить средневековые помещения за несколько часов до вноса предназначенных для свадебного пира столов. В мае — сентябре Исторический музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00; в октябре — апреле во все дни, за исключением вторника в то же самое время. В последний четверг каждого месяца посещение музейной экспозиции бесплатно. Музей закрыт в государственные праздники. На первом этаже примыкающей к зданию гильдии в переулке Бёрзи кяйк бывшей «невестиной каморы» располагается симпатичная музейная лавка с оригинальными сувенирами и книгами по истории Таллина (в том числе — и на русском). В каком именно доме отмечалась свадьба, послужившая источником вдохновения для поэмы «Снежная графиня Ливонии», — сказать сложно. Зато известно, где жил ее автор: Пауль Флеминг снимал жилье по адресу Люхике-Ялг, 9. Замурованное окно в «доме чертовой свадьбы» на улице Ратаскаеву, 16, — крайнее слева, на третьем этаже, под самой крышей.* * *
Большинство летних усадеб, нареченных в честь жен таллинских обывателей двухвековой давности, сгинули без следа: из тех, что сохранили главное здание, стоит отметить разве что поместье Анненхоф — улица Козе, 66. Значительно больше повезло ансамблю Мариенберга: в помещениях «дачи» графа Орлова-Давыдова разместился филиал Эстонского исторического музея, знакомящий с недавним прошлым. Открыт он со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Замок Маарьямяги (Maarjamäe loss) расположен по адресу Пирита теэ, 56. Проезд — десять минут автобусами номер 1А, 8, 34А, 38 от подземного терминала в торговом центре «Viru Keskus» до остановки «Maarjamägi». Поездка по улице Мустамяэ теэ на троллейбусе номер 1 от площади Вабадусе или на троллейбусе номер 5 от Балтийского вокзала будет пролегать вдоль территории бывших усадеб Наталиенхоф и Мариенталь. Предпринять ее стоит по большомусчету только раз в год — летом: в первой половине июля в отреставрированном парке усадьбы Лёвенру проводится ставший уже традиционным «Венецианский карнавал». Летнее поместье, ставшее, по легенде, местом проведения роковой дуэли, подорвавшей якобы всю дачную славу района Кристийне, располагается как раз напротив одноименной троллейбусной остановки.* * *
Единственный уцелевший отрезок городского рва, никак не дающий соединиться влюбленным детям, расположен у северо-западного склона холма Тоомпеа — неподалеку от железнодорожного вокзала. Официальное его имя — пруд Шнелли (Snelli tiik). Музей детских игр «Миа-Милла-Манда» расположен на территории парка Кадриорг, по адресу: улица Л. Койдула, 21. Добраться сюда удобнее всего на трамваях номер 1 или 3 от остановки «Hobujaama» до конечной остановки «Kadriorg». Музей и прилегающая к нему детская площадка открыты со вторника по воскресенье с 12:00 до 18:00; закрыты в рождественский Сочельник и Рождество по григорианскому календарю и в первый день Нового года (24–26 декабря, 1 января соответственно). Детская площадка оборудована и на территории Башенной площади (Tornide väljak), прилегающей к северо-западному отрезку средневековой городской стены: Снежная королева увозила Кая в санях именно здесь.* * *
Попасть в переулок Катарийни, вытянувшийся вдоль стены монастырской церкви с закрепленной на ней надгробной плитой Кунигунды Шотельмунд, можно под аркой дома номер 12 по улице Вене либо под аналогичной аркой на улице Мюйривахе, 33. Лаборатория ратушной аптеки, украшенная мемориальной плитой с инициалами супругов и изображением сердца из пальмовых ветвей, расположена по адресу: переулок Сайаканг, 2, — летом здесь располагается открытая терраса ресторана «Balthasar». Полюбоваться одними из старейших живописных портретов таллинских горожанок можно в сенях дома по улице Лай, 29, по рабочим дням: здесь располагается Реставрационное управление и представительства Совета министров стран Северной Европы.* * *
Примерно на половине подъема по улице Пикк-Ялг с правой стороны видна низкая дверца в стене: народная молва век тому назад считала ее началом легендарного подземного хода в монастырь ордена Святой Биргитты. Сам монастырь — точнее, готический щипец руин монастырской церкви — отчетливо виден через гладь Таллинской бухты со смотровой площадки Паткуля (Patkuli vaateplats), расположенной во дворе дома номер 15 по вышгородской улочке Рахукохту. Добраться до ансамбля разрушенных монастырских построек можно автобусами номер 1А, 8, 34А, 38 от подземного терминала в торговом центре «Viru Keskus» до остановки «Pirita». Территория парка руин открыта для посещения в январе, феврале, марте, ноябре, декабре с 12:00 до 16:00; в апреле, мае, сентябре, октябре — с 10:00 до 18:00; в июне, июле, августе — с 09:00 до 19:00.* * *
Наиболее аутентично Девичья башня смотрится с улицы Команданди теэ, начинающейся от лестницы Майера на площади Вабадузе. Вход в нее, впрочем, возможен только из Сада датского короля (Taani kuninga aed), попасть в который можно двумя способами. Либо через арку, расположенную в конце улицы Люхике-Ялг, либо через проход в крепостной стене со стороны Верхнего города. В башне работает кафе: вид из его окон не восхитит разве только окончательного зануду. С мая по сентябрь открыто оно с понедельника по воскресенье с 11:30 до 22:00, с октября по апрель — с 11:30 до 21:00, по пятницам и субботам — с 11:30 до 22:00 круглогодично. Так как одновременно Девичья башня является и филиалом Таллинского городского музея, для входа в кафе до 18:30 необходимо приобрести музейный билет.* * *
Бывшее здание киностудии «Таллин-фильм», которой обязан своим визитом в Таллин «тот самый» Дон Жуан, сохранилось по адресу: улица Харью, 8. Расположенная на холме Тоомпеа церковь Девы Марии, или Домский собор (улица Тоом-Кооли, 8), служит усыпальницей не только «таллинского Дон Жуана» Отто Йохана Туве, но и достойных представителей дворянских родов Эстляндии. Многочисленные произведения искусства, сосредоточенные под церковными сводами, а точнее, обилие желающих ознакомиться с ними привели к тому, что приход недавно решил брать за посещение церкви символическую плату — полтора евро. В «музейном режиме» собор открыт с ноября по апрель со вторника по воскресенье с 09:00 до 15:00; в мае и сентябре ежедневно с 09:00 до 17:00; в июне, июле и августе с 09:00 до 18:00; в октябре со вторника по воскресенье с 09:00 до 17:00. Посетить собор бесплатно можно во время богослужения: воскресная месса начинается в 11:00, вечерняя служба по средам — в 17:00. В среду после службы проходит бесплатный концерт органной музыки.* * *
Средневековый жилой дом по адресу Рюйтли, 18, увенчанный стилизованным под топор флюгером, занимает ныне ресторан грузинской кухни. Подлинный дом ревельского палача — точнее, то, что от него осталось, — расположен в его дворе. Подлинник палаческого меча хранится в Эстонском историческом музее (см. выше), а точная его копия и реплики средневековых орудий пыток — в филиале Таллинского городского музея, башне Кик-ин-де-Кёк (улица Команданди теэ, 2). С марта по октябрь его экспозиция открыта со вторника по воскресенье с 10:30 до 18:00; с ноября по февраль — в те же дни, но с 10:00 до 17:30. Музей закрыт по понедельникам и в дни государственных праздников. Картина «Пляска смерти», главное действующее лицо которой претендовало на власть в Таллине, но было остановлено палачом, выставляется в бывшей церкви Нигулисте — нынешнем Музее средневекового искусства. Ознакомиться с его собранием можно со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00. Музей закрыт в понедельник, вторник и государственные праздники.* * *
Ратушная аптека (Raeapteek), считающаяся в Таллине легендарной родиной марципана, с 1422 года работает в здании по адресу: площадь Раэкоя, 11. Открыта она со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Старейшее в Таллине кафе «Майасмокк», основанное в Георгом Штуде в 1864 году, работает по адресу: улица Пикк, 16, с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00, в субботу — с 09:00 до 21:00 и в воскресенье — с 09:00 до 20:00. Музейная комната при кафе, где можно приобрести настоящий таллинский марципан, отлитый в формах столетней давности, расположена в том же здании — только вход у нее с торца, глядящего на крохотную Гильдейскую площадь (Gildi plats). Если творческое начало для вас важнее исторической достоверности, смело направляйтесь в Галерею марципана (Martsipanigalerii) по адресу Пикк, 40. Здесь можно не только приобрести марципановые фигурки, но и попробовать вылепить их самому.Фотографии
























Последние комментарии
10 часов 26 минут назад
19 часов 17 минут назад
19 часов 20 минут назад
3 дней 1 час назад
3 дней 6 часов назад
3 дней 7 часов назад