Советская поэзия. Том второй [Антология] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста][Cбросить фильтры]
Цвет фона черный светло-черный бежевый бежевый 2 персиковый зеленый серо-зеленый желтый синий серый красный белый Цвет шрифта белый зеленый желтый синий темно-синий серый светло-серый тёмно-серый красный Размер шрифта 14px 16px 18px 20px 22px 24px Шрифт Arial, Helvetica, sans-serif "Arial Black", Gadget, sans-serif "Bookman Old Style", serif "Comic Sans MS", cursive Courier, monospace "Courier New", Courier, monospace Garamond, serif Georgia, serif Impact, Charcoal, sans-serif "Lucida Console", Monaco, monospace "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", sans-serif "MS Sans Serif", Geneva, sans-serif "MS Serif", "New York", sans-serif "Palatino Linotype", "Book Antiqua", Palatino, serif Symbol, sans-serif Tahoma, Geneva, sans-serif "Times New Roman", Times, serif "Trebuchet MS", Helvetica, sans-serif Verdana, Geneva, sans-serif
Насыщенность шрифта жирный Обычный стиль курсив Ширина текста 400px 500px 600px 700px 800px 900px 1000px 1100px 1200px Показывать меню Убрать меню Абзац 0px 4px 12px 16px 20px 24px 28px 32px 36px 40px
Межстрочный интервал 18px 20px 22px 24px 26px 28px 30px 32px
[Оглавление] МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ (Род. в 1911 г.)
Висячий сад Перевод В. Державина Поэту Перевод С. Липкина Чего еще ты хочешь? Перевод С. Липкина Мать Перевод Я. Козловского «Другим стал мир, моя река…» Перевод Я. Козловского Крошки хлеба Перевод С. Липкина Мой век Перевод С. Липкина Вспоминаются юные годы Перевод С. Липкина Хранительница огня Перевод С. Липкина ЯКОВ УХСАЙ (Род. в 1911 г.)
Лес Иванова Перевод П. Градова Песня про Волгу Перевод С. Обрадовича СИБГАТ ХАКИМ (Род. в 1911 г.)
Берега, берега… Перевод Р. Морана «Я знаю, что видел Муса…» Перевод Р. Кутуя Хасану Туфану Перевод Н. Беляева За песнями своими я летел Перевод Р. Морана В лесу подо Ржевом Перевод Р. Морана «Вся синь весны вошла в глаза мои…» Перевод Р. Морана «Сумерки, Волга…» Перевод Р. Морана Первый холм Перевод Р. Морана ТАТУЛ ГУРЯН (1912–1942) Переводы В. Баласана
Клятва «Хохочет ли ветер, вздымая песок…» МИРВАРИД ДИЛЬБАЗИ (Род. в 1912 г.)
О чем говорят камни Перевод А. Кронгауза Красные маки Перевод А. Кронгауза Человек Перевод Г. Регистана О Русь! Перевод Г. Регистана ОЛЫК ИПАЙ (1912–1943)
Горят лампочки Ильича Перевод А. Ойслендера АНДРЕЙ ЛУПАН (Род. в 1912 г.)
Магистрали Перевод М. Светлова Ноша своя Перевод Ю. Левитанского Из воспоминаний Перевод Д. Самойлова Добро носящий Перевод К. Ковальджи АНДРЕЙ МАЛЫШКО (1912–1970)
«Где ливень бьет крутые волны…» Перевод В. Шацкова Дума про астурийца Перевод Б. Турганова Июльский день на перекрестке…» Перевод Б. Турганова Побратимы Перевод Б. Турганова «Бронзовый памятник, сад мой новый…» Перевод Д. Кедрина Комсомольский билет Перевод Я. Смелякова Гром Перевод Б. Турганова «Рано утром расставанье…» Перевод Б. Турганова Катюша Перевод А. Прокофьева «Нет зависти моей к душе убогой…» Перевод А. Прокофьева «Солнцем согретый, дождями сеченный…» Перевод Б. Турганова Ты приходишь ко мне… Перевод Б. Турганова Поэзия Перевод А. Прокофьева МИРСАИД МИРШАКАР (Род. в 1912 г.)
Он гражданином был Перевод А. Межирова Баллада о сути вещей Перевод С. Липкина Четверостишия Переводы Н. Гребнева Мелодия грядущего Село «Нежна ты, тонкостанна и светла…» Устарело Пусть остается Весна настала Цветок Наш с тобой мир ИГОРЬ МУРАТОВ (1912–1973) Переводы В. Шацкова
«Как сладко пахнет щедрая земля!..» «В арку радуги влетела птица серая…» «И сжалилось, и разразилось…» ЛЕВ ОШАНИН (Род. в 1912 г.)
«Кем я был на войне?..» Дороги Песня о тревожной молодости Баллада о безрассудстве СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ (Род. в 1912 г.)
Круговорот «Есть в памяти мгновения войны…» Триптих Сыну «Я возвратился к самому себе…» Из стихов о Пушкине МАКСИМ ТАНК (Род. в 1912 г.)
На косогоре Перевод Я. Хелемского «Придем мы, деревня, твои дудари…» Перевод И. Сельвинского «Вы спрашиваете…» Перевод Я. Хелемского Новая весна Перевод Д. Самойлова Я хотел бы… Перевод Я. Брауна Поэзия Перевод А. Прокофьева Черноморские чайки Перевод Я. Хелемского «Я из породы тех, которым любо…» Перевод Я. Хелемского «О вас я забочусь, родные края…» Перевод Я. Хелемского «Реки печали и радости…» Перевод А. Прокофьева Памятник Перевод А. Прокофьева Переписка с землей Перевод Я. Хелемского «Звезды — раскиданная пахарем пшеница…» Перевод А. Прокофьева «Прежде чем вымолвить твое имя, Родина…» Перевод Я. Хелемского ПЛАТОН ВОРОНЬКО (Род. в 1913 г.)
Я тот, кто рвал плотины Перевод М. Комиссаровой Карпатская песня Перевод С. Наровчатова «Когда ты пал на поле боя…» Перевод А. Прокофьева Песня ветерана Перевод М, Исаковского Нежные имена Перевод Н. Ушакова «Ворон ручной благодарно берет…» Перевод Я. Хелемского «Степь, в полудреме вздыхая…» Перевод В. Корчагина «К могилам — к обелискам и крестам…» Перевод В. Корчагина «Да, Дон-Кихот ошибся…» Перевод В. Корчагина «Мне в тягость затишье…» Перевод В. Корчагина «Костер погас…» Перевод В. Корчагина МАРК ЛИСЯНСКИЙ (Род. в 1913 г.) Моя Москва Слава Настроение Птицы меня разбудили «Друг нам дороже брата иногда…» «Разве я когда-нибудь уйду…» Что б ни случилось СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ (Род. в 1913 г.)
Лист бумаги А что у вас? Заяц во хмелю Лев и ярлык Слон-живописец Непьющий воробей Лиса и Бобер НУРДИН МУЗАЕВ (Род. в 1913 г.)
Колышутся маки Перевод А. Кронгауза НИГЯР РАФИБЕЙЛИ (Род. в 1913 г.)
Цветок, раскрывшийся среди руин Перевод М. Светлова Афродита Перевод П. Антокольского Алагёз Перевод М. Светлова БОРИС РУЧЬЕВ (1913–1973)
Песня о брезентовой палатке «Всю неоглядную Россию…» «Когда бы мы, старея год от году…» «Так сбываются сказки в России…» ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ (1913–1972)
Кремлевские ели Памятник «Если я заболею…» Милые красавицы России Хорошая девочка Лида Мое поколение Русский язык Даешь! Рязанские Мараты СЕРГЕЙ СМИРНОВ (Род. в 1913 г.)
Жаворонок Обратный путь «Где они, военные дороги?..» Граница Поэт и слово «Стараюсь в Революцию вглядеться…» Таинства «Тенелюбивые растенья…» Ключевая «Рядовой гражданин…» «Он стоит уверенно и крепко…» АЛЕКСАНДР ЯШИН (1913–1968)
Вологодское новогоднее Поле Утром не умирают Спешите делать добрые дела Босиком по земле Перед исповедью Думалось да казалось… Последняя глава ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ (Род. в 1914 г.)
«Мгновенный мир мы, по нему скользя…» Перевод Е. Винокурова Повторится Перевод Е. Винокурова «Обнять весь мир…» Перевод П. Антокольского Осень Перевод Е. Винокурова У матери Перевод Н. Тихонова Молодой виноградник Перевод Н. Заболоцкого «Лишь ветер подует в дубраве…» Перевод Н. Заболоцкого «Пускай безумцем буду я для мира…» Перевод А. Тарковского Град Перевод А. Тарковского АНВАР АДЖИЕВ (Род. в 1914 г.)
«Когда Ильич в весенний день…» Перевод О. Шестинского ВИКТОР БОКОВ (Род. в 1914 г.)
«Отыми соловья от зарослей…» Я видел Русь у берегов Камчатки…» «Прекрасный подмосковный мудрый лес!..» Дороховы Тепло ль тебе? Микула БОГДАН ИСТРУ (Род. в 1914 г.)
«Вскормлен я землей отеческой…» Перевод В. Соколова Подсолнух Перевод В. Соколова Дали зовут Перевод Г. Юнакова АЛИМ КЕШОКОВ (Род. в 1914 г.) Переводы Я. Козловского
Поэт со своею посадкой в седле Со временем в ладу Подобна ты маю… Кинжал «Может сердце поневоле…» АРКАДИЙ КУЛЕШОВ (Род. в 1914 г.)
Моя Беседь Перевод М. Исаковского Над братской могилой Перевод А. Софронова Березка Перевод М. Исаковского Крылья Перевод А. Твардовского Коммунисты Перевод Я. Смелякова «Покинув берег, первый шторм я встретил…» Перевод Я. Хелемского «Я трижды побеждал судьбу…» Перевод Я. Хелемского Единственный серп Перевод Я. Хелемского АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ (1914–1948)
Под Выборгом 22 июня 1941 года Предсказание Материнские слезы Долг ЛЕВ ОЗЕРОВ (Род. в 1914 г.)
«Тверские льны стоят до небосклона…» «Вишневый сад белеет в темноте…» «Люблю старинные ремесла…» «Всю жизнь я собираюсь жить…» «На берегу морском лежит весло…» «Сквозь пламень строк душа пропущена…» «О тебе я хочу думать…» «Когда работаю, я плохо верю в смерть…» «Поэзия — горячий цех…» «Немо горит в окне огонек…» «Старухи с письмами поэтов…» «Серости на белом свете нет…» «Многословие — род недуга…» «Ветер бесцветен?..» AMO САГИЯН (Род. в 1914 г.)
«Куда вы плывете, усталые тучи…» Перевод Б. Пастернака Водопады Перевод В. Звягинцевой «В ногах — ущелий бархатистый мох…» Перевод О. Ивинской Лист Перевод Т. Спендиаровой Ласточки Перевод О. Ивинской «Я жизнь благодарю за все…» Перевод М. Петровых ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ (Род. в 1914 г.)
«Калинов луг, Козлова засека…» Звезда «В дагестанском далеком ауле…» «Захотелось той зимы…» ОВАНЕС ШИРАЗ (Род. в 1914 г.)
«На какой земле в серебре поля…» Перевод В. Звягинцевой «Без устали смотрел бы я…» Перевод Т. Спендиаровой Орёл и человек Перевод Е. Николаевской «Опускается в бездну старости мать…» Перевод В. Тушновой Голос поэта Перевод В. Тушновой Детство моих сверстников Перевод Н. Глазкова Песнь молодости Перевод В. Тушновой Любовь поэта Перевод Л. Гинзбурга Песня Армении Перевод Е. Николаевской Мать Перевод В. Звягинцевой «Мне природа бесценное детство дала…» Перевод В. Тушновой «Вино — я друг веселой жизни…» Перевод И. Снеговой «Мне аромат цветка сказал…» Перевод В. Звягинцевой «Мне лучше бы птицей быть…» Перевод В. Тушновой «О война! Мы навеки…» Перевод Т. Казмичевой «Твори, творец, и помни…» Перевод Е. Николаевской ПАВЕЛ ШУБИН (1914–1951)
В секрете Полмига «Утешителям не поверишь…» МАРГАРИТА АЛИГЕР (Род. в 1915 г.)
Человеку в пути «Я хочу быть твоею милой…» «Люди мне ошибок не прощают…» На восходе солнца Двое «Милые трагедии Шекспира!..» «Я все плачу — я все плачу…» По ком звонит колокол «Несчетный счет минувших дней…» «Прошу тебя, хоть снись почаще мне…» «Я вижу в окно человека…» ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ (Род. в 1915 г.)
Украине моей Регулировщица Родина слышит «Загадочная русская душа…» Колючие Кавалерия мчится ТЛЕУБЕРГЕН ЖУМАМУРАТОВ (Род. в 1915 г.)
Ладонь Перевод Г. Юнакова Сонеты Перевод Г. Ярославцева ЗУЛЬФИЯ (Род. в 1915 г.)
Здесь родилась я Перевод В. Державина Капля Перевод С. Липкина Раздумия Перевод С. Липкина Не отнимайте у меня пера! Перевод С. Липкина Напрасно прожитые мгновенья давят… Перевод Ю. Нейман Годы, годы… Перевод И. Лиснянской ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ (1915–1977)
«Все обо всем. О мировой судьбе…» «Песок остылый, бледный…» Вечереет С небес Прости А думал я… Учимся АРОН КОПШТЕЙН (1915–1940)
Поэты МАРО МАРКАРЯН (Род. в 1915 г.)
Богатство Перевод А. Ахматовой Снег идет Перевод М. Петровых Персиковое деревцо Перевод А. Ахматовой В родном краю Перевод А. Ахматовой «Ты мир наполнил до краев…» Перевод В. Потаповой «Любви несказанное слово…» Перевод Б. Слуцкого Чужая весна Перевод М. Петровых «Луч на камень лег, пылая…» Перевод В. Звягинцевой «Жернов старой, заброшенной мельницы…» Перевод Б. Слуцкого «Говорят, что с тобою должна я играть…» Перевод А. Ахматовой «От своих тревог и тайной боли…» Перевод А. Ахматовой «Написал строчку честную…» Перевод А. Яшина «Дуб от ветвей до корневищ…» Перевод Л. Мартынова «И в этом мире…» Перевод Д. Самойлова «На легком воздухе блестя…» Перевод Д. Самойлова «Темнеет полоса багряного заката…» Перевод М. Петровых «…Все, как есть, остаться должно…» Перевод С. Кузнецовой «Началось с огня…» Перевод М. Петровых «Каких-то дней иных…» Перевод Д. Самойлова МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ (Род. в 1915 г.)
Мальчикам Подмосковные вечера На безымянной высоте «Есть сила в немощи самой…» На Северо-Западном фронте АЛЫКУЛ ОСМОНОВ (1915–1950)
Твоя поэма Перевод И. Селъвинского Я — корабль Перевод М. Синельникова Памятник Перевод М. Синельникова КАРА СЕЙТЛИЕВ (1915–1971) Переводы А. Кронгауза
Фраги Человек и время Человек и тайны Человек и совесть КОНСТАНТИН СИМОНОВ (Род. в 1915 г.)
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» «Жди меня, и я вернусь…» «Словно смотришь в бинокль…» «Если бог нас своим могуществом…» Хозяйка дома «Умер друг у меня…» «Напоминает море — море…» ЛЮДМИЛА ТАТЬЯНИЧЕВА (Род. в 1915 г.)
Малахит Меченые атомы Сыновья Гордые Ей приснилось, что она — Россия Кони Не надо одиночества бояться Молчанье «Я без Урала не могу…» ВЕРОНИКА ТУШНОВА (1915–1965)
Кукла «Вот говорят: Россия…» «Сто часов счастья…» «Осчастливь меня однажды…» «Человек живет совсем немного… ВАДИМ ШЕФНЕР (Род. в 1915 г.)
Детство Зеркало Слова Вещи Глоток Переулок памяти Миг Ночная ласточка Ожидание ТОУШАН ЭСЕНОВА (Род. в 1915 г.)
Кемине Перевод А. Кочеткова Куст винограда Перевод А. Тарковского ДЕБОРА ВААРАНДИ (Род. в 1916 г.)
На пороге Таллина Перевод В. Рождественского Весной Перевод А. Ахматовой Старый снимок Перевод Л. Тоома Тысячелистник Перевод Д. Самойлова Утро — отдать садоводу Перевод А. Ахматовой «Я знаю — внизу, в голубом тумане…» Перевод Д. Самойлова В осенней листве Перевод Б. Слуцкого Грусть Перевод А. Ахматовой Лимонное дерево Перевод А. Ахматовой Грустная песенка Перевод Л. Миля Остров Перевод Л. Миля МИХАИЛ ДУДИН (Род. в 1916 г.)
Соловьи «В моей беспокойной и трудной судьбе…» Наши песни спеты на войне Вдогонку уплывающей по Неве льдине Встречая рассвет Небольшой девочке Еленке И нет безымянных солдат Твоей свободы выстраданный путь ХАМИД ЕРГАЛИЕВ (Род. в 1916 г.)
Песня на заре (Из поэмы) Перевод В. Савельева МИХАИЛ ЛЬВОВ (Род. в 1916 г.)
Дорога на юге «Я нынче страшным расстояньем…» «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться…» «Есть мужество, доступное немногим…» Сон Высота У входа в скалат «Я был убит приснившимся осколком…» «Как будто я за веком следом ездил…» «Я ввергнут в жизнь, в волненья, в страсти…» Россия «Я начал бурно жизнь…» РЕВАЗ МАРГИАНИ (Род. в 1916 г.)
Куда я ни пойду Перевод М. Луконина Соль Перевод М. Луконина «Светает! И встал над горами туман…» Перевод Н. Тихонова Пробуждение Перевод А. Межирова «В Сванетии — в торжественном безмолвии…» Перевод Е. Евтушенко Почему-то припомнилось Перевод Б. Слуцкого ЭДИ ОГНЕЦВЕТ (Род. в 1916 г.)
Мой дом Перевод Ф. Ефимова Беларуси Перевод Н. Кислика «Полюбил сосну горячий ветер…» Перевод Ф. Ефимова ЮСУП ХАППАЛАЕВ (Род. в 1916 г.) Переводы Я. Козловского
«Кто лучший воин — даст ответ война…» О руках и душах «Прекрасен мир…» АДАМ ШОГЕНЦУКОВ (Род. в 1916 г.)
«Зерно не пропадает без следа…» Перевод Н. Гребнева Как пахарь и воин Перевод С. Липкина Сквозь цепкие кусты… Перевод М. Петровых ХАБИБ ЮСУФИ (1916–1945)
Настало время! Перевод В. Левика «…Когда нежданной передышки…» Перевод М. Фофановой ДЖЕМАЛДИН ЯНДИЕВ (Род. в 1916 г.)
Речь горных аулов Перевод С. Липкина ХАЛИМАТ БАЙРАМУКОВА (Род. в 1917 г.) Переводы Н. Матвеевой
«Думаешь, с криком «ура!» «Во мне городского…» МИРЗА ГЕЛОВАНИ (1917–1944) Переводы Ю. Полухина
Жди меня От Мтацминды до Смоленска Не пиши СЕМЕН ДАНИЛОВ (Род. в 1917 г.)
Моя родословная Перевод А. Николаева Клятва Перевод М. Львова ПЕТРЯ КРУЧЕНЮК (Род. в 1917 г.)
Ода России Перевод В. Фирсова КАЙСЫН КУЛИЕВ (Род. в 1917 г.)
«Ты ночью родилась, холодною зимой…» Перевод Д. Голубкова Девушка с севера Перевод В. Звягинцевой Первой весной после войны Перевод Д. Голубкова Ночью в ущелье Перевод Н. Тихонова «Если цените вы и январь и апрель…» Перевод Я. Козловского «Кремень-кремень, и только…» Перевод Н. Гребнева «Где-то стонет женщина вдали…» Перевод Н. Гребнева «Я знаю вкус меда и соли твоей…» Перевод Н. Гребнева «Не я ль ревел подранком-туром…» Перевод Н. Гребнева Старинная заповедь Перевод Н. Гребнева «Право же, трудно и мне»…» Перевод С. Липкина «В мой легкий день я буду вспоминать…» Перевод С. Липкина «Ветер кажется мне белым…» Перевод С. Липкина «Растет ребенок, плача»…» Перевод С. Липкина «Будь я живописцем, там, на скалах…» Перевод С. Липкина «Нет, не зря в огне костра пылало…» Перевод Н. Гребнева Женщина купается в реке Перевод Н. Гребнева «Спасибо вам, мои учителя…» Перевод Н. Гребнева «Среди миров огромных и светил…» Перевод Н. Гребнева «Я спал в траве однажды…» Перевод Н. Гребнева Волы под дождем Перевод Б. Ахмадулиной Говорю с чинарой и колосьями Перевод Б. Ахмадулиной Сон зимней ночью Перевод Б. Ахмадулиной «Что б ни делалось на свете…» Перевод Б. Ахмадулиной «Деревья, вы — братья мои…» Перевод Б. Ахмадулиной ГРИГОРИЙ ЛАЗАРЕВ (Род. в 1917 г.)
Девушка из тайги Перевод И. Фонякова ПИМЕН ПАНЧЕНКО (Род. в 1917 г.)
Партизанская весна Перевод Н. Асеева Герой Перевод А. Прокофьева На родной земле Перевод М. Светлова Вечные слова Перевод Б. Слуцкого Край поэтов Перевод Я. Хелемского «Небо журавлиное, холодное…» Перевод Я. Хелемского Даты Перевод Я. Хелемского БАГРАТ ШИНКУБА (Род. в 1917 г.) Переводы Я. Козловского
«Когда прервется дыханье…» Мой орех Капли ЛЮБОВЬ ЗАБАШТА (Род. в 1918 г.)
Освободители Перевод Б. Кежуна Казацкая Перевод А. Прокофьева МИКЛАЙ КАЗАКОВ (Род. в 1918 г.)
Я иду по столице… Перевод М. Матусовского КАСТУСЬ КИРЕЕНКО (Род. в 1918 г.)
Живу Перевод Н. Сидоренко Жажда Перевод Я. Хелемского «Лес в ярко-пламенной цвете…» Перевод А. Корчагина На стежках былых Перевод Н. Сидоренко Ты иль не ты? Перевод Я. Хелемского Милый край, моя отчизна Перевод Н. Сидоренко Я не в силах остаться один… Перевод Н. Сидоренко ПАВЕЛ КОГАН (1918–1942)
Гроза Бригантина (Песня) «Нам лечь, где лечь…» МИХАИЛ ЛУКОНИН (1918–1976)
Приду к тебе Пришедшим с войны Товарищам «Нет памяти у счастья…» «Из глины он тебя лепил…» ДЖОРДЖЕ МЕНЮК (Род. в 1918 г.)
Очарование Перевод К. Ковальджи По тропинкам степным Перевод В. Кочеткова НАЗАР НАДЖМИ (Род. в 1918 г.)
Родной деревне Перевод Е. Николаевской Капельки Перевод Е. Аксельрод ИОСИФ НОНЕШВИЛИ (Род. в 1918 г.)
Город мечты и поэтов Перевод В. Соколова «Ночь поднялась…» Перевод Н. Тихонова «Когда мы руки обовьем…» Перевод А. Вознесенского «Вот я смотрю на косы твои грузные…» Перевод Б. Ахмадулиной Светляки Перевод Е. Евтушенко Снова мне в душу весна ворвалась Перевод Б. Окуджавы НИКОЛАЙ ОТРАДА (1918–1940)
Футбол Мир НИКОЛАЙ ТРЯПКИН (Род. в 1918 г.)
«Я уйду за красные туманы…» Скрип моей колыбели «Суматошные скрипы ракит…» ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ (Род. в 1918 г.)
«Имел бы я…» Рабская кровь Совесть «Наше время такое…» «О Русь моя!..» «Знакомо, как старинный сказ…» СИЛЬВА КАПУТИКЯН (Род. в 1919 г.)
«Нет! Я видеть тебя не хочу!..» Перевод Л. Мартынова «В дыму горючем горького прощанья…» Перевод М. Алигер «В хрустальной вазе на столе твоем…» Перевод М. Алигер «Не подарила жизнь мне стройности…» Перевод Е. Евтушенко Любовь к родине Перевод Б. Окуджавы «Наверное, меня поймет лишь мать…» Перевод В. Звягинцевой Прошлое моего народа Перевод В. Звягинцевой «Смеюсь несдержанно и бойко…» Перевод Б. Окуджавы Земля Перевод М. Петровых «Да, я сказала: «Уходи»…» Перевод М. Петровых «Ты писем от меня не жди…» Перевод М. Петровых «От своей же силы я устала…» Перевод И. Лиснянской «Что ж, торжествуй! Ты одержал победу…» Перевод И. Лиснянской Ассирийка Перевод Б. Ахмадулиной «Я слабой была, но я сильной была…» Перевод Б. Ахмадулиной Остановись, человек! Перевод Б. Ахмадулиной МУСТАЙ КАРИМ (Род. в 1919 г.)
Берега остаются Перевод И. Снеговой «Душа бунтует, видя черноту…» Перевод Е. Николаевской «Я белый лист кладу перед собой…» Перевод Е. Николаевской «Давай, дорогая, уложим скарб и одежду…» Перевод И. Снеговой «Под ногами земли ты не чуешь…» Перевод Е. Николаевской «Я умному тайну открыл…» Перевод Е. Николаевской «Я знал успех, с удачею водился…» Перевод Е. Николаевской Птиц выпускаю… Перевод Е. Николаевской «Была моя жизнь непрерывной игрой…» Перевод И. Снеговой «Ты в этот раз вдоль моря шла ко мне…» Перевод Е. Николаевской «Не блещу я…» Перевод Е. Николаевской Минувшему — благословенье Перевод Е. Николаевской «Я немало тайн природы знаю…» Перевод Е. Николаевской МИХАИЛ КИЛЬЧИЧАКОВ (Род. в 1919 г.)
Баллада о бревнах Перевод М. Светлова МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ (1919–1943)
«Самое страшное в мире…» «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!..» НИКОЛАЙ МАЙОРОВ (1919–1942)
Август Творчество Мы «Нам не дано спокойно сгнить в могиле…» ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС (Род. в 1919 г.)
Человек Перевод Б. Слуцкого Мысли Перевод М. Светлова Распутье Перевод Р. Казаковой Лира Перевод С. Куняева Камни Перевод А. Передреева На темы М. К. Чюрлёниса Его инициалы Перевод Ю. Левитанского Сонет Перевод Л. Мартынова Зимняя ночь. Полнолуние Перевод П. Карпа Тициан Перевод Г. Ефремова Нарцисс Перевод Л. Миля СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ (Род. в 1919 г.)
Облака кричат В те годы Костер Пес, девчонка и поэт Зеленые дворы О главном РАЧИЯ ОВАНЕСЯН (Род. в 1919 г.) Переводы Е. Николаевской
«И силой, и волей, и честью…» «О, если трудом ли, уменьем своим…» «Засушенный красный цветок…» «В цветении белой метели…» «О друзья, когда меня не будет…» «Горы, горы, тоска моя…» «Солнце к небу льнет майским жуком…» РАЛЬФ ПАРВЕ (Род. в 1919 г.)
На перекрестке Перевод Л. Тоома Памяти героев Перевод Вс, Азарова ЛЕОНИД ПОПОВ (Род. в 1919 г.) Переводы А. Преловского
Преданья Прощание БОРИС СЛУЦКИЙ (Род. в 1919 г.)
Госпиталь Лошади в океане Голос друга Памяти товарища Сон Старухи без стариков Физики и лирики Сбрасывая силу страха Последнее поколение ГЕОРГИЙ СУВОРОВ (1919–1944)
Первый снег Косач «Еще утрами черный дым клубится…» АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ (1919–1959)
Соловьи Где же вы теперь, друзья-однополчане? ГЕВОРГ ЭМИН (Род. в 1919 г.)
«Я в детстве шел и палкою в пыли…» Перевод Н. Гребнева Первая книга Перевод Л. Мартынова «Я сам не знаю, что это такое…» Перевод Б. Слуцкого Погибшему другу Перевод Ю. Левитанского «Ты бы в гости ко мне пришла…» Перевод В. Звягинцевой «Тот, кого ты так любишь…» Перевод Ю. Левитанского «Я не могу. С меня довольно!..» Перевод Е. Евтушенко Грядущему Перевод Б. Слуцкого «Будь начеку вблизи высот!..» Перевод Д. Самойлова «Я написать хочу слова…» Перевод М. Петровых «Я предчувствую…» Перевод Б. Окуджавы ВИКТОР ГОНЧАРОВ (Род. в 1920 г.)
«Мне ворон черный смерти не пророчил…» «Я скажу, мы не напрасно жили…» «Дыши огнем, живи огнем…» «Опять пришла пора дождей…» «— Эй ты, — мне кричат, — Подорожник!..» «Вот Перховское озеро…» ЯАН КРОСС (Род. в 1920 г.)
«Я — дом пустой…» Перевод Л. Тоома «Тот, кто перевидел тыщи…» Перевод Д. Самойлова Старый блиндаж Перевод Л. Тоома «Паутинок в воздухе паренье…» Перевод Д. Самойлова Все-таки она вертится Перевод Б. Слуцкого Дождь творит чудеса Перевод Б. Слуцкого ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ (Род. в 1920 г.) Переводы В. Савельева
«С казахского нелегок перевод…» Голос во мне Стих «Колдунья ты моя…» «Все юные сердца в одном порыве слиты…» «Верность клятве и руки, сплетенные туго…» АЛЕКСЕЙ ПЫСИН (Род. в 1920 г.) Авторизованный перевод Глеба Пагирева
В наступлении Иван-чай Позывные «Гул вокзалов. Облака в зените…» «В сизой мгле над поймою днепровской…» Зимнее «Вечерний сад. Под небом сонным…» «Ветра мои, друзья мои!..» ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ (Род. в 1920 г.)
Ночная атака В конце войны «Когда под гром фанфарных маршей…» О маме Главная книга ДАВИД САМОЙЛОВ (Род. в 1920 г.)
«Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал…» Слова Сороковые Старик Державин «Давай поедем в город…» Перед снегом Память Пестель, поэт и Анна Выезд РАМЗ БАБАДЖАН (Род. в 1921 г.)
«Каждой осенью тянет в дорогу…» Перевод А. Наумова «Тихо-тихо дышишь ты во сне…» Перевод С. Северцева Новые рубаи Перевод Н. Грибачева «Я проснулся на белом рассвете…» Перевод А. Наумова «Хочешь — добуду луну с высоты…» Перевод С. Кузнецовой «Жизнь мечтами, как чаша, полна…» Перевод С. Кузнецовой Индийские напевы Перевод С. Северцева ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ (Род. в 1921 г.)
«Душа, чело и вечность…» Сударка Не оплавленный снег Купальщица Усыновленные слова ВАСИЛИЙ КУЛЕМИН (1921–1962)
Творчество «На наш бульвар лосенок выскочил…» МИРМУХСИН (Род. в 1921 г.)
Горсть земли Перевод Ю. Хазанова «Ни дня без войн на лучшей из планет…» Перевод А. Наумова Руки, побеждающие смерть Перевод С. Северцева «Люби начальный свет отчизны…» Перевод А. Наумова Земной простор Перевод С. Северцева СЕРГЕЙ ОРЛОВ (Род. в 1921 г.)
На привале «Кто же первый сказал…» «Уходит в небо с песней полк…» Второй «Это было все-таки со мной…» «Его зарыли в шар земной…» «А мы такую книгу прочитали…» «Руками, огрубевшими от стали…» БОСЯ САНГАДЖИЕВА (Род. в 1921 г.)
Тюльпаны Перевод Н. Матвеевой ВАСИЛИЙ СУББОТИН (Род. в 1921 г.)
Стихи 30 апреля 1945 года Бранденбургские ворота «На сером фоне разрушений…» Старатель Снег «За горизонт уходит борозда…» ИВАН ТАРБА (Род. в 1921 г.)
Молитва Перевод Я. Козловского Песня мужа о собственной жене Перевод Я. Козловского Земля Перевод Я. Смелякова «Как в незаконченной поэме…» Перевод Я. Смелякова СУЮНБАЙ ЭРАЛИЕВ (Род. в 1921 г.)
Я иду Перевод С. Куняева «Моим горам, по-моему, подобен…» Перевод М. Ватагина АТА АТАДЖАНОВ (Род. в 1922 г.)
«Не спеши, моя нежная, погоди…» Перевод А. Тарковского Письмо Перевод В. Гончарова Уединяюсь я… Перевод Ю, Гордиенко Песня жаворонка Перевод А. Кафанова СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ (Род. в 1922 г.)
Постоянство «Авось!» Новогодний тост в кругу ветеранов Великой Отечественной войны Прозрение Поэт СЕМЕН ГУДЗЕНКО (1922–1953)
«Прожили двадцать лет…» Перед атакой «Я был пехотой в поле чистом…» «Мы не от старости умрем…» «Как без вести пропавших ждут…» ВААГН ДАВТЯН (Род. в 1922 г.) Переводы Е. Николаевской
Армения «Я сегодня во сне тебя видел, далекую…» «Седые камни, древние руины…» Доброе утро ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ (Род. в 1922 г.)
«Жизни мира, длящейся века…» Перевод Ю. Нейман «Когда средь степи — одинок…» Перевод Ю. Нейман «Как ты прекрасна, степь моя, в апреле!..» Перевод Ю. Нейман «Когда весна — медлительно, не сразу…» Перевод Ю. Нейман «Осенний лист на длинном черенке…» Перевод Ю. Нейман «Проходят мимо — парами, толпой…» Перевод Ю. Нейман Женщина Перевод Ю. Нейман «Никто не помнит своего рожденья…» Перевод Ю. Нейман Мысль и время Перевод Ю. Нейман «Случалось мне старцев калмыков…» Перевод Ю. Нейман Скончался мой друг Перевод Н. Матвеевой «Я помню прошлое. Я помню…» Перевод Н. Матвеевой «Сколько свежести в народном слове…» Перевод Ю. Нейман «Я знаю: вечного на свете нет…» Перевод Ю. Нейман Боль Перевод Ю. Нейман «Перешагнув жестокости предел…» Перевод Ю. Нейман «Дайте, дайте первую удачу!..» Перевод Ю. Нейман «О жизнь! Когда ты на моем пути…» Перевод Ю. Нейман «Приснились джунгли нынче мне во сне…» Перевод Ю. Нейман «Бейте, люди, пестрых волков!..» Перевод Ю. Нейман «Когда я замечаю с чувством боли…» Перевод Ю. Нейман «Когда, о степь! — и впрямь морской стихией…» Перевод Ю. Нейман ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ (Род. в 1922 г.)
Белая баллада «Что делать, мой ангел…» «Всего и надо, что вглядеться…» «Я люблю эти дни…» Вступление в книгу «Кинематограф» Иронический человек СЫРБАЙ МАУЛЕНОВ (Род. в 1922 г.)
Открытие книги Перевод А. Корнеева «Я, помню, был тогда беспечным малым…» Перевод М. Луконина Возле зимовки Перевод Б. Ахмадулиной «В свои мысли уходит дорога…» Перевод В. Лукьянова Служба мира Перевод А. Корнеева Дума Перевод А. Корнеева ВЛАДАС МОЗУРЮНАС (Род. в 1922 г.)
Стебелек Перевод В. Тушновой Завещание Перевод Н. Тихонова Тракайский замок Перевод Н. Мальцевой «Не видел я, как тонут корабли…» Перевод Н. Мальцевой «Море волнуется. Волны, как звенья кольчуги…» Перевод Н. Мальцевой «Ты говоришь: все погибает в буре…» Перевод Н. Мальцевой ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН (Род. в 1922 г.)
Травы Два главных цвета «Не тем, что полстолетья будут сцены…» «Как я мечтал о письменном столе…» АРВИД СКАЛБЕ (Род. в 1922 г.)
Родник Перевод М. Касаткина Верба цветет Перевод М. Касаткина Осенняя песня Перевод Л. Азаровой Малыш и море Перевод В. Невского ЮХАН СМУУЛ (1922–1971)
Майский вечер Перевод П. Антокольского ПАСАРБИ ЦЕКОВ (Род. в 1922 г.)
Как многие реки в одну… Перевод Л. Епанешникова ИСААК БОРИСОВ (1923–1972)
«А миру — что, на самом деле…» Перевод Ю. Нейман «Не по приметным звездам небосклона…» Перевод О. Дмитриева «И вновь друзья…» Перевод О. Дмитриева «Что в то утро знали мы, что знали…» Перевод В. Соколова «Помедли, день, — постой, не торопись…» Перевод А. Кафанова «С тобою, Время, шел я наравне…» Перевод Ю. Нейман «Благословен зеленый замок ваш…» Перевод Н. Горской «Твой суд неправедный приемлю…» Перевод Н. Горской «В мальчишеском имени — Иче…» Перевод Н. Горской «О, если б не было ни в чем обмана…» Перевод Н. Горской «Над белым полем крыши…» Перевод А. Кафанова АНАТОЛИЙ ВЕЛЮГИН (Род. в 1923 г.)
Березовый сок Перевод Я. Хелемского Поэт Перевод Н. Кислика Летняя дорога Перевод Г. Юнакова Черемуховые холода Перевод Я. Хелемского «А жизнь как будто вся сначала…» Перевод Я. Хелемского «Как в полудреме, листопад над сквером…» Перевод Я. Хелемского МУСА ГАЛИ (Род. в 1923 г.) Переводы Е. Николаевской
«Круглые вещи люблю я — не скрою…» «Когда в дальний пускаюсь я путь…» РАСУЛ ГАМЗАТОВ (Род. в 1923 г.)
«Изрек пророк…» Перевод Я. Козловского «— Скажи, каким огнем был рад…» Перевод Я. Козловского Если в мире тысяча мужчин… Перевод Я. Козловского Песня про сокола с бубенцами Перевод Я. Козловского Голова Хаджи-Мурата{173} Перевод Я. Козловского «…И на дыбы скакун не поднимался…» Перевод Я. Козловского «С годами изменяемся немало…» Перевод Я. Козловского Журавли Перевод Н. Гребнева Берегите друзей Перевод Н. Гребнева Восьмистишия Перевод Я. Гребнева НИКОЛАЙ ДОРИЗО (Род. в 1923 г.)
Где родился Руставели «Моя любовь — загадка века…» Накануне Бабушка Строки о времени «О, как ты поздно…» АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ (Род. в 1923 г.)
Коммунисты, вперед! Десантники «Мы под Колпином скопом стоим…» Музыка Прощание со снегом Баллада о цирке ГИЛЕМДАР РАМАЗАНОВ (Род. в 1923 г.)
Одно слово Перевод М. Дудина Поэзия Перевод Д. Седых ХУТА БЕРУЛАВА (Род. в 1924 г.)
Ленину Перевод А. Межирова В детстве Перевод Б. Окуджавы Поэзия Перевод Б. Окуджавы Картина на слоновой кости Перевод Б. Окуджавы Старый мотив Перевод С. Куняева Портрет друга Перевод Е. Винокурова НАФИ ДЖУСОЙТЫ (Род. в 1924 г.) Переводы Я. Козловского
«Человеческое сердце…» Тайная молитва ЮЛИЯ ДРУНИНА (Род. в 1924 г.)
«Я только раз видала рукопашный…» Любовь Наше-нам! Прощание Перед закатом САЛЕХЖАН ЗАЛЕНДИН (Род. в 1924 г.)
Сады Перевод Н. Капиевой АННА КАЛАНДАДЗЕ (Род. в 1924 г.)
«Тень яблони…» Перевод Б. Ахмадулиной «Двух миров я граница…» Перевод Е. Николаевской Мравалжамиер{185} Перевод Б. Ахмадулиной «Вы в сердце скал…» Перевод Е. Николаевской «Кто б это вынес…» Перевод Е. Николаевской Окрестности храма Кинцвиси поздней осенью Перевод Е. Николаевской ПАРУЙР СЕВАК (1924–1971)
«Твоя незрелая любовь…» Перевод Д. Самойлова В жизни встречаемся мы случайно Перевод О. Чухонцева Анализ тоски Перевод Юнны Мориц Секретарь бога Перевод В. Микушевича Жизнь поэта Перевод О. Чухонцева Корни Перевод Д. Самойлова На языке телеграфа Перевод В. Микушевича Как високосный год Перевод Юнны Мориц «Я слышу розы красной крик…» Перевод Д. Самойлова Язык воды Перевод Д. Самойлова Изнанка Перевод В. Микушевича ВЛАДИМИР СОЛОУХИН (Род. в 1924 г.)
Дождь в степи Солнце Ястреб НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ (Род. в 1924 г.)
«Ракет зеленые огни…» «Солдаты мы…» «Зловещим заревом объятый…» «И вот в свои семнадцать лет…» Я был когда-то ротным запевалой… Пою любовь ВЛАДИМИР ТУРКИН (Род. в 1924 г.)
В окопе Ввысь! «Есть стихи — как строение…» «Надо сразу старым бы родиться…» «Мне все больней с тобой встречаться…» «Мне чувствовать не часто выпадало…» НАБИ ХАЗРИ (Род. в 1924 г.)
Радуга Перевод В. Луговского Горы Перевод Е. Евтушенко «Легли меж нами длинные дороги…» Перевод Е. Винокурова и В. Соколова Облака Перевод Е. Евтушенко В ожидании стиха Перевод Н. Гребнева Вселенная моя Перевод Н. Гребнева Ты и я Перевод А. Передреева Если бы я забыл… Перевод А. Передреева Таинственный поезд Перевод А. Передреева ОТАР ЧЕЛИДЗЕ (Род. в 1924 г.)
Однодневный памятник Перевод Е. Винокурова Баллада о Бештау Перевод Е. Евтушенко За окном Перевод Б. Окуджавы Уличные часы Перевод В. Лугового БАХТИЯР ВАГАБЗАДЕ (Род. в 1925 г.) Переводы В. Лугового
«Радуга жизни моей…» Славословие ночи Горный поток КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН (Род. в 1925 г.)
Ранний час Я люблю тебя, жизнь «Я был суров, я все сгущал…» «Под взглядом многих скорбных глаз…» «Трус притворился храбрым на войне…» «Гудок трикратно ухает вдали…» «Я спал на свежем клевере, в телеге…» «В поэзии — пора эстрады…» «А утвержденья эти лживы…» К портрету «Мы помним факты и событья…» «Эти крыши на закате…» «Не ожидала никак…» «На том же месте много раз…» Спичка ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ (Род. в 1925 г.)
«Мы из столбов и толстых перекладин…» «В полях за Вислой сонной…» Синева Моя любимая стирала «Кто только мне советов не давал!..» «Художник, воспитай ученика…» Поэма о движении «Крестились готы…» «Боюсь гостиниц. Ужасом объят…» Когда не раскрывается парашют Она Не плачь Пророк Отчий дом СООРОНБАЙ ДЖУСУЕВ (Род. в 1925 г.)
Я — комуз Перевод Ю. Гордиенко Стригунок Перевод А. Кафанова ДАМБА ЖАЛСАРАЕВ (Род. в 1925 г.)
«Все не так, на твой взгляд…» Перевод В. Виноградова «Планеты все, знакомиться нам время…» Перевод М. Львова МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ (Род. в 1925 г.)
Родине Перевод В. Соколова Научи меня, век… Перевод Б. Окуджавы «Мысль странная преследует меня…» Перевод Б. Ахмадулиной Монолог Бараташвили{200} Перевод Д. Самойлова Море Перевод А. Тарковского «Друг на друга гневно наползали…» Перевод А. Межирова Поэзия Перевод Д. Самойлова «Человек — это след…» Перевод Д. Самойлова «Я жаден до людей!..» Перевод Е. Винокурова АНДРЕЙ ПАССАР (Род. в 1925 г.)
Две бабушки Перевод Н. Старшинова ФРИДОН ХАЛВАШИ (Род. в 1925 г.)
«Ничего я больше не любил…» Перевод Cm. Куняева Зрелость стиха Перевод К. Симонова Лето Перевод Ю. Левитанского «Опять дрожат стручки фасоли на ветру…» Перевод В. Соколова Форели Перевод Cm. Куняева «На рассвете, едва лишь связал я…» Перевод Ю. Левитанского ЕГОР ИСАЕВ (Род. в 1926 г.)
Про тягловую реку ПЕТРУ ЗАДНИПРУ (1927–1976)
Русская зима Перевод Я. Смелякова РАИСА АХМАТОВА (Род. в 1928 г.) Переводы И. Озеровой
«Ну, нет! мне хватит суток черных!..» «Разлуки нет…» «В сентябре желтеют травы…» «Я не гадаю: любит — не любит…» «Мне муторно, мне так сегодня муторно…» ИННА ЛИСНЯНСКАЯ (Род. в 1928 г.)
В Эрмитаже «В этом доме, где дух кофейный…» «Пусть не на что мне опереться…» РАШИД РАШИДОВ (Род. в 1928 г.) Переводы Я. Козловского
«Высекавшего огонь…» Суровая песня ВЛАДИМИР СОКОЛОВ (Род. в 1928 г.)
Венок «Нет сил никаких улыбаться…» Чужая книга Вагон «И самый юный в мире дождь…» «Черные ветки России…» Памяти Афанасия Фета «Упаси меня от серебра…» ГУЛЧЕХРА СУЛЕЙМАНОВА (Род. в 1928 г.) Переводы Т. Стрешневой
Воздушный змей В поле ВЛАДИМИР БЭЭКМАН (Род. в 1929 г.)
Девушки моих школьных вечеров Перевод А. Ревича Белые снега Перевод Юнны Мориц Мироздания Перевод Юнны Мориц Часовщик Перевод В. Куприянова КЕРИМ КУРБАННЕПЕСОВ (Род. в 1929 г.) Переводы О. Дмитриева
Старик В горах ШОТА НИШНИАНИДЗЕ (Род. в 1929 г.)
«Вон человек повис на костылях…» Перевод М. Синельникова Амазонки Перевод Cm. Куняева Камень Перевод М. Синельникова «Гибли вы — на войне, на дуэли…» Перевод В. Леоновича Судьба Перевод М. Синельникова ДМИТРО ПАВЛЫЧКО (Род. в 1929 г.)
Воспоминание Перевод П. Жура «Зачем ты мной пренебрегаешь…» Перевод Н. Брауна «Я от земли неотделим…» Перевод П. Жура «Поэзия, назначено тебе…» Перевод С. Ботвинника «Люблю я жизни быстрину…» Перевод П. Жура Разговор с Каменяром{214} Перевод П. Жура «Сквозь униженья дым она прошла…» Перевод Л. Хаустова «Летят по полю белы кони…» Перевод Вс. Рождественского «Снег летит, как день, как век…» Перевод А. Корчагина «Зима, словно античный храм…» Перевод Н. Брауна «Заходит солнце в золотых лесах…» Перевод Л. Смирнова АГНЕССА РОШКА (Род. в 1929 г.) Переводы Т. Стрешневой
Горный камень «Я пред тобой замру без слов…» ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ (Род. в 1929 г.)
«Пахнет темная чаща…» Друзьям, павшим на Ладоге «Матери бессонны…» «Без березы не мыслю России…» «Куда соловей исчезает…» На могиле А. П. Керн{217} Матери «Задумайтесь: это ведь счастье…» «Время от времени нужно…» ИБРАГИМ ЮСУПОВ (Род. в 1929 г.)
Мухаллес{219} Перевод Г. Ярославцева Арба славы Перевод Р. Казаковой АЛЬГИМАНТАС БАЛТАКИС (Род. в 1930 г.)
«Я ухожу, как корабли уходят…» Перевод Б. Окуджавы Быки моста Перевод Б. Слуцкого Окна Перевод Д. Самойлова Волшебная трава Перевод Н. Мальцевой Память Перевод В. Шацкова ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ (Род. в 1930 г.)
Наше время АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН (Род. в 1930 г.)
Береза Утиные Дворики «О Родина! В неярком блеске…» «Вот и снова мне осень нужна…» Ирине «Осень, опять начинается осень…» «Ржавые елки на старом кургане стоят…» «Ты о чем звенишь, овес…» «Мелкий кустарник, — сырая осина…» АЛЬФОНСАС МАЛДОНИС (Род. в 1930 г.)
Неринга Перевод Д. Самойлова Начало рек Перевод Cm. Куняева Самое дорогое Перевод Cm. Куняева Перевод Н. Мальцевой Середина зимы Перевод Ю. Левитанского ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧУС (Род. в 1930 г.) Переводы А. Межирова
Стена Поэма города (Отрывок) Кровь и пепел Героическая поэма (Отрывок) МОРИС ПОЦХИШВИЛИ (Род. в 1930 г.)
Исповедь сердца Перевод В. Сергеева «Сколько я должен страдать…» Перевод Ю. Ряшенцева Жизнь Перевод Ю. Ряшенцева Стремление Перевод В. Луговского «Последнее стихотворенье…» Перевод А. Цыбулевского ЮРИЙ АНКО (1931–1960)
Партия Ленина Перевод В. Португалова ВИЗМА БЕЛШЕВИЦ (Род. в 1931 г.)
Черный вечер Перевод В. Тушновой Алые паруса Перевод В. Тушновой Облако Перевод Д. Самойлова «Море, спаси меня, я тону!..» Перевод Н. Мальцевой «Я горе выкричать могу корявой сливе…» Перевод Л. Осиповой «Отлив житейский отступает в пене…» Перевод Д. Самойлова «Знакомый, прости меня…» Перевод Л. Осиповой Созвездие Гончих Псов Перевод Л. Осиповой ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ (Род. в 1931 г.)
«Не плачь ты, осень, безутешно…» Старая пластинка Рубежи ИСХАК МАШБАШ (Род. в 1931 г.)
Самшитовая трубка Перевод Л. Бахаревой ТАЙСТО СУММАНЕН (Род. в 1931 г.)
Сон Перевод Т. Стрешневой ФАЗУ АЛИЕВА (Род. в 1932 г.)
«Ты мне сказал…» Перевод И. Лиснянской НИКОЛАЙ ДАМДИНОВ (Род. в 1932 г.)
Сосна Перевод Б. Окуджавы РИММА КАЗАКОВА (Род. в 1932 г.)
«Из первых книг, из первых книг…» «Россию делает береза…» «Мой рыжий, красивый сын…» «Быть женщиной — что это значит?..» «Писатели, спасатели…» МУМИН КАНОАТ (Род. в 1932 г.)
Наша правда Перевод С. Липкина Огонь любви Перевод С. Липкина Трибуна мира Перевод С. Липкина Мое наследство Перевод С. Липкина Таджикский язык Перевод С. Липкина Утренний родник Перевод О. Дмитриева СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ (Род. в 1932 г.)
«Непонятно, как можно покинуть…» «Сквозь слезы на глазах…» «От Великой ГЭС до Усть-Илима…» «Облака плывут в Афганистан…» «Цокот копыт на дороге…» «Увидеть родину весной…» «Живем мы не долго…» «Добро должно быть с кулаками…» ЛЕОНИД ЛАПЦУЙ (Род. в 1932 г.)
Время Перевод Л. Чикина РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (Род. в 1932 г.)
Таежные цветы Подкупленный «На Земле безжалостно маленькой…» «— Отдать тебе любовь?..» Баллада о красках ВЛАДИМИР ЦЫБИН (Род. в 1932 г.)
Сказочное Последняя солдатка Дожди Люби МАМЕД АРАЗ (Род. в 1933 г.) Переводы В. Проталина
Гордость поэта «Не миновать и мне…» ПАВЕЛ БОЦУ (Род. в 1933 г.)
Пороги Перевод В, Солоухина Берез белоствольные арфы… Перевод К. Ковальджи К Молдавии Перевод К. Ковальджи ОЯР ВАЦИЕТИС (Род. в 1933 г.)
«В этом доме…» Перевод Д. Самойлова Баллада о синем ките Перевод А. Ревича Старая гейша Перевод Л. Осиповой Песня Перевод А. Ревича «Я полюбил тебя…» Перевод Л. Азаровой АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Род. в 1933 г.)
Гойя Осень в Сигулде Тишины! Плач по двум нерожденным поэмам Тоска Ностальгия по настоящему ЛЮДВИГ ДУРЯН (Род. в 1933 г.)
Наши песни Перевод Л. Халифа Костер поэта Перевод М. Синельникова «Лирою я ответил на голос…» Перевод М. Синельникова ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО (Род. в 1933 г.)
Свадьбы «Со мною вот что происходит…» Подранок Граждане, послушайте меня… Любимая, спи… ИМАНТ ЗИЕДОНИС (Род. в 1933 г.)
Мед течет в море Перевод Юнны Мориц «Я не нуждаюсь в пожеланьях благ…» Перевод В. Шацкова ДМИТРИЙ КАРАЧОБАН (Род. в 1933 г.)
Из прошлого Перевод Ю. Левитанского НАНСЕН МИКАЭЛЯН (Род. в 1933 г.)
Жизнь Перевод А. Кафанова Абрикосы расцвели Перевод Б. Слуцкого ВИКТОР ТЕЛЕУКЭ (Род. в 1933 г.)
Пролог к биографии Перевод П, Пархомовского «Вот колодец, жаворонок…» Перевод К. Ковальджи ОТАР ЧИЛАДЗЕ (Род. в 1933 г.)
«Растаял год бесследной тенью…» Перевод М. Синельникова До разлуки Перевод Б. Ахмадулиной «Светоносные сумерки…» Перевод В. Леоновича «Кура плеснет воды и рыбы…» Перевод Юнны Мориц ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА (Род. в 1933 г.)
«Цветенье сладкого левкоя…» ТАНЗИЛЯ ЗУМАКУЛОВА (Род. в 1934 г.)
Горские поэтессы Перевод Н. Гребнева НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА (Род. в 1934 г.)
Дома без крыш Следы Старинные корабли К музе комедии РАМИС РЫСКУЛОВ (Род. в 1934 г.)
Россия Перевод В. Сикорского РЫГОР БОРОДУЛИН (Род. в 1935 г.)
Камни Брестской крепости Перевод И. Бурсова Я — сын земли Перевод Ф. Ефимова О моем языке Перевод Ф. Ефимова ГРИГОРЕ ВИЕРУ (Род. в 1935 г.)
«Когда родился я, на лбу моем…» Перевод Я. Акима Пересадка сердца Перевод Ю. Кожевникова Наш дом Перевод Ю. Кожевникова Ты Перевод Я. Акима Я взял у матери… Перевод Ю. Кожевникова Слово «мама» Перевод Ю. Кожевникова ФИКРЕТ ГОДЖА (Род. в 1935 г.) Переводы В. Проталина
Родная моя деревня Моя свобода ЛИВИУ ДАМИАН (Род. в 1935 г.) Переводы Ю. Кожевникова
Чтоб писать Утро белоснежно БОРИС ОЛЕЙНИК (Род. в 1935 г.)
Похороны учителя Перевод Н. Ушакова «Ты — звездою… А я — кленом…» Перевод Л. Смирнова Белая мелодия Перевод В. Шацкова ВЛАДИМИР САНГИ (Род. в 1935 г.)
«Я северянин. Нивх…» Перевод автора МАЙРАМКАН АБЫЛКАСЫМОВА (Род. в 1936 г.)
«Аил мой милый… Дикая природа…» Перевод Р. Казаковой ЭРКИН ВАХИДОВ (Род. в 1936 г.) Переводы А. Наумова
Башня Родник ЭНН ВЕТЕМАА (Род. в 1936 г.)
Вопрос о лошадке-качалке Перевод В. Шацкова ИВАН ДРАЧ (Род. в 1936 г.) Переводы В. Шацкова
Баллада о золотой луковице Лебединый этюд Калина Девичьи пальцы Баллада любви Сонет (Подражание Петрарке) ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ (Род. в 1936 г.)
«Тем спасибо…» Перевод Н. Ушакова Песня Перевод Юнны Мориц «Поведай-ка, трава…» Перевод Юнны Мориц Осень Перевод Юнны Мориц Ты Перевод Е. Винокурова Освобождение Перевод Е. Витковского АЛЕКСАНДР КУШНЕР (Род. в 1936 г.)
«Когда тот польский педагог…» «Четко вижу двенадцатый век…» «Сентябрь выметает широкой метлой…» «О слава, ты так же прошла за дождями…» «Кто-то плачет всю ночь…» Кружево НИКОЛАЙ РУБЦОВ (1936–1971)
Добрый Филя Тихая моя родина Прощальная песня Звезда полей АРАМАИС СААКЯН (Род. в 1936 г.) Переводы Е. Николаевской
Люди Ереван Красота «Хотел бы я от кочек и колдобин…» ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ (Род. в 1936 г.)
Жара Айналайн «Эдуард Багрицкий птиц любил…» Разлив Круглая звезда «Я видел, как лебедь подался на юг…» ДОНДОК УЛЗЫТУЕВ (Род. в 1936 г.) Переводы Е. Евтушенко
Из цикла «Пятнадцать песен» «Я слышал однажды в бурятской степи…» «Камушек в речку кидаю…» ИМАНТ АУЗИНЬ (Род. в 1937 г.) Переводы В. Андреева
«Безлиственные, серые аллеи…» Конфеты, печенье, серебряные бумажки Непреходящее БЕЛЛА АХМАДУЛИНА (Род. в 1937 г.)
Газированная вода Мотороллер «Влечет меня старинный слог…» Слово Уроки музыки Молоко Мазурка Шопена ОЛЕГ ДМИТРИЕВ (Род. в 1937 г.)
«Старикам остаются закаты…» Постижение Воспоминание о Полине ВЛАДИМИР КОЯНТО (Род. в 1937 г.)
Родник Перевод автора ЮННА МОРИЦ (Род. в 1937 г.)
Рождение крыла Южный рынок Античная картина «В серебряном столбе…» О жизни, о жизни и только о ней! ВЛАДИМИР ФИРСОВ (Род. в 1937 г.)
«В моей крови гудит набат веков…» Памяти Сергея Есенина Первый учитель ОЛЬГА ФОКИНА (Род. в 1937 г.)
Родина Утренняя песенка Розовое мыло Родник ЮВАН ШЕСТАЛОВ (Род. в 1937 г.)
«В морозной свежести земля…» Перевод М. Дудина Лирическое отступление (Из «Языческой поэмы») Перевод В. Фалея УЛУРО АДО (Род. в 1938 г.)
«Посмотрите, люди Земли…» Перевод Г. Плисецкого АНТОНИНА КЫМЫТВАЛЬ (Род. в 1938 г.)
Звезда Перевод В. Португалова ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ (Род. в 1938 г.)
Пророк «Два облака белых плывут по лазури…» АЛИТЕТ НЕМТУШКИН (Род. в 1939 г.)
Песня девушки на рассвете Перевод А. Сорокина ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ (Род. в 1939 г.)
«Душа чему-то противостоит…» «…и дверь впотьмах привычную толкнул…» МАРИС ЧАКЛАЙС (Род. в 1940 г.)
День укропа Перевод В. Микушевича Песенка про Дон-Кихота Перевод Н. Мальцевой «Будешь плакать, коли с юных лет…» Перевод В. Микушевича АБДУЛЛА АРИПОВ (Род. в 1941 г.)
«— Проснись скорей…» Перевод Н. Гребнева Поэт Перевод Н. Гребнева «Благословенно прожитое мною…» Перевод Н. Гребнева Золотая рыбка Перевод А. Наумова ЯАН КАПЛИНСКИ (Род. в 1941 г.)
Песня о жизни и смерти Перевод В. Шацкова ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ (Род. в 1941 г.)
Отцу Гимнастерка ЛОИК ШЕРАЛИ (Род. в 1941 г.)
Песня труду Перевод И. Лиснянской Относительно споров вокруг Авиценны Перевод Cm. Куняева «Если с неба падает звезда…» Перевод Cm. Куняева ПАУЛЬ-ЭРИК РУММО (Род. в 1942 г.)
Встретились путник и куст Перевод В. Шацкова РАВИЛЬ ФАЙЗУЛЛИН (Род. в 1943 г.) Переводы Р. Кутуя
«Когда звезда моей жизни…» Мой язык Булгары Указатель имен
*** Примечания ***
Советская поэзия. Том второй
МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ
(Род. в 1911 г.)
С таджикского
{1}
Висячий сад
Перевод В. Державина
Сад я видел в Бомбее,
висящий над зеркалом вод,
Описать невозможно
его несказанных красот.
В изумрудной воде
день и ночь отражается он,
То сиянием солнца,
то светом луны напоен.
Из ветвей, как живые,
изваяны львы и слоны,
Птицы сказок старинных
из листьев изображены.
Чьи искусные руки
соткали волшебный ковер?
Весь в росе, словно в жемчуге,
дремлет древесный узор.
То два сада. Зеленый один,
а другой голубой.
Сад один в высоте,
а в зеркальном заливе другой.
Вдруг железный корабль чужеземный
с заката приплыл
И тяжелой броней
отражение сада разбил.
Этих чуждых людей
разве в гости ты звал, Хиндустан?
Иль тебя охранять
переплыли они океан?
Придавили, измутили
лазурь твоей чистой волны.
Черной тенью покрыли
лицо твоей ясной луны.
1947
Поэту
Перевод СЛипкина
Гори, поэт, — из теплоты горенья
Бери, поэт, свои стихотворенья.
Ты видишь сталь? Она прошла сквозь пламя.
Ты видишь даль? Она горит, как знамя.
Есть ремесло у солнца и поэта:
Творить тепло, творить источник света.
Дом без тепла — разрушенный могильник,
И без тепла не нужен мне светильник.
И сердце без тепла подобно камню,
И песня без тепла не дорога мне.
Нет без тепла цветения живого,
И без тепла мертво любое слово.
Смех без тепла, хотя б звенел он звонко,
Подобен колыбели без ребенка…
Гори, поэт, и, пламенем зажженный,
Твори, поэт, грядущего законы!
«Любовь, и стих, и сталь — одной породы:
Им нужен, чтобы жить, огонь свободы.
Пусть сердце у тебя пылает печью, —
Тогда согреешь душу человечью.
Горящей речью, вольною, как пламень,
Вдохнешь дыханье жизни даже в камень.
Гори, чтоб век твой не был даром прожит:
Жить без огня любовь твоя не может!
1963
Чего еще ты хочешь?
Перевод СЛипкина
Твое господство признаю. Чего еще ты хочешь?
Когда пою — тебя пою. Чего еще ты хочешь?
На имя записал твое — и подпись я заверил —
И жизнь мою и смерть мою… Чего еще ты хочешь?
Тебе известно, что рабы всегда восстать готовы,
Сломать колодки, и сорвать в тюрьме свои оковы,
И вырваться, кипя, шумя, из тесного ущелья,
Как вольнодышащий поток, на путь широкий, новый.
А я — тот раб, который рад своей нелегкой доле.
Чем жить на воле без тебя, мне лучше жить в неволе.
Захочешь — превращусь в ничто, захочешь — я прославлюсь.
К чему здоровье без тебя? Хочу страдать от боли!
Я верностью тебе храним… Чего еще ты хочешь?
Я от тебя неотделим. Чего еще ты хочешь?
У всех по-разному любовь берет свое начало.
Я начал с именем твоим… Чего еще ты хочешь?
1965
Мать
Перевод Козловского
Не помню я, осиротевший рано,
Обличия земного твоего,
Ни цвета глаз, ни очертаний стана,
Ни грусти, ни улыбки — ничего.
Твой след ищу, как в мареве тумана,
А где найти — не ведаю того.
Черты твои какими в жизни были?
Об этом я расспрашивал старух
И камень на кладбищенской могиле,
Листву и травы, обратив к ним слух.
Мне старица рекла, что ты имела
С лепешкой смуглой схожее лицо,
Что родинка у края губ темнела
И гибок стан был, словно деревцо.
Поведала другая из крестьянок:
— Мы дважды в день коров доили с ней.
— Ко мне она являлась спозаранок
Умыть лицо, — пролепетал ручей.
Гора сказала: — С облаком бок о бок
Мой склон не раз мотыжила она.
— Носила платье, — похвалился хлопок, —
Из моего простого волокна.
Вздохнул репей: — Жестоких ран немало
Ее ногам я наносил в траве. —
Пропел родник: — Шла по воду, бывало,
Она, держа кувшин на голове.
Призналась туча: — Солоней, я помню,
Всех слез моих была ее слеза. —
И молвил гром: — Она пугалась молний,
В грозу боялась поднимать глаза.
Перед двумя властителями духа,
Чьи имена адат и шариат
{2} ,
Была ты, мать, как пригорошня пуха,
Беспомощна всю жизнь свою подряд.
И прятала лицо в платок узорный,
И пред муллою твой немел язык.
Увенчанный стихом, нерукотворный
Тебе я в сердце памятник воздвиг.
Поток реки, подобный сабле голой,
И отчего гнезда любую пядь,
И флаг тюльпаноогненный над школой
Люблю, как ты мне завещала, мать.
Пусть голос твой, преодолев забвенье,
В моей строке звучит, пока живу,
Вновь пожилую женщину селенья
Я матерью при встрече назову.
1966
«Другим стал мир, моя река…»
Перевод Я. Козловского
Другим стал мир, моя река,
А ты все та же, та же,
И не узнаешь кишлака,
А ты все та же, та же.
И дожил я до седины,
А ты все та же, та же,
И начал век облет Луны,
А ты все та же, та же.
Ладью ночей качать слегка ты не устала,
И снова в звездах ты, пока заря не встала.
И, облачаясь в облака, ты, как бывало,
В горах о скалы рвать бока не перестала.
Хмельной верблюдице под стать, свернешь куда-то,
Каскады брызг швырнув опять на камень ската.
Не привыкать тебе бывать в крови заката,
И ты готова саблей стать для азиата.
Как хорошо рассвет встречать с тобою рядом,
В объятьях женщину держать, лаская взглядом,
В траве с друзьями возлежать над водопадом
И все досады забывать, назло досадам.
Беря со снежной высоты свое начало,
Слезы младенца чище ты, острей кинжала.
И схожи с седлами мосты, чтоб ты являла
Тех кобылиц лихих черты, каких немало.
Не ты ли логову песка, волной играя,
Придать отважилась, река, обличье рая?
Моей строке судьба близка родного края,
Желаю, дочка ледника, тебе добра я.
Склонил колени пред тобой,
Все та же ты, все та же.
И схож прибой твой с ворожбой,
Все та же ты, все та же.
В поток твой сердце оброня,
Смотрю и вижу в свете дня:
Все та же ты, все та же.
Течешь, не слушая меня,
Все та же ты, все та же.
1966
Крошки хлеба
Перевод С. Липкина
Подбираю крошки хлеба. Низкий им поклон!
С детских лет горячим хлебом я заворожен.
И меня вела когда-то сельская тропа,
И была и мне знакома острота серпа.
Собирал и я колосья и снопы вязал, —
Но в стихах еще об этом я не рассказал.
С молотильщиками песни пел я на гумне,
Хворостиною по бычьей ударял спине.
С переметною сумою, потупляя взор,
Я бродил в полях осенних по ущельям гор.
Днем и ночью я скитался, пасынок судьбы, —
Иль соломинкой остался после молотьбы?
А теперь, едва проснувшись в доме городском,
— Есть горячие лепешки! — слышу за углом.
Продавец с корзинкой круглой ходит по дворам,
И подносит хлеб душистый он к моим дверям.
О, как нужен запах хлеба улице моей!
От него светлее небо и земля милей.
И когда колосья зреют, в золоте поля, —
Кажется, что не стареют люди и земля.
Это бедных лет привычка иль святой закон?
Подбираю крошки хлеба. Низкий им поклон!
1967
Мой век
Перевод С. Липкина
Я на тебя не жалуюсь, мой век,
Ты — мой наставник и моя основа.
Ты — плодоносный сад, я — твой побег,
Ты — песнь земли, я в этой песне — слово.
Ты чудотворец истинный, мой век, —
Ты сделал чудным каждое мгновенье.
Ты в прах былые немощи поверг,
Дал мне для роста силу и терпенье.
Ты всю вселенную потряс, мой век,
Ты — вольного цветения начало.
Услышав твой волшебный сказ, мой век,
Страдающее время просияло.
Ты и учитель и дитя, мой век,
Все, что в душе твоей запечатлелось,
Грядущему оставишь ты навек,
Ты сам растешь и нам даруешь зрелость.
Ты утвердил на небесах, мой век,
Моей отчизны торжество и славу,
Ты косность тяготения отверг
И стал владыкой космоса по праву.
Склонился ты пред женщиной, мой век,
Мы ей хвалу слагаем громогласно.
Лишь там красив и волен человек,
Где женщина свободна и прекрасна.
С тобой вдвоем я все смогу, мой век,
Хоть в сердце слышу голос укоризны:
О да, я у тебя в долгу, мой век,
Но в этом долге — смысл и счастье жизни!
1972
Вспоминаются юные годы
Перевод С. Липкина
Смотрю на тебя — вспоминаются юные годы,
Те годы, кипевшие, как родниковые воды,
Те годы, горевшие жаром любви и свободы.
Я слышу весенних цветов первозданный рассказ,
И в мире, нам кажется, нет никого, кроме нас.
Заря ли сама загоралась рассветной порою,
Иль ты выбегала навстречу мне вместе с зарею?
Соперников я не боялся — не скрою, не скрою:
Вот сердце мое — и не сыщешь ты сердца верней…
О, взлеты, о, тайны дотоле невиданных дней!
Средь ярких тюльпанов сама ты казалась тюльпаном,
Пленяла ты юношей косами — черным арканом,
Ты ранила многих, но счет не вела этим ранам…
Известно: в плену у красавицы пленник таков,
Что с гордостью носит и терпит железо оков.
Каких задушевных подруг ты нашла в комсомоле,
Как жадно в себя ты вбирала дыхание воли!
Лишь юность я вспомню — забудутся все мои боли.
Пылал я: придет на свидание иль не придет?
Иных в мирозданье тогда я не ведал забот!
Те дни вспоминаю, когда ты безмолвно страдала,
От мира, от жизни таило тебя покрывало,
Былое на прежнее рабство тебя обрекало:
Мол, в доме пускай твои косы заменят метлу,
Пусть руки твои, как совок, выгребают золу…
Немало ты вынесла горя в ту бурную пору,
Но к новому миру упорно вздымалась ты в гору,
И солнце открылось пытливому, ясному взору.
Сокровищем люди Востока тебя нарекли,
И женщина славою стала таджикской земли.
Ты — жизни моей долгота, полнота и основа,
И то, что в ней было, и то, что неслыханно ново,
Ты — свет моих дней, и не надо мне света иного,
Поныне ты зорька весенняя жизни моей,
Вне жизни твоей нет движения жизни моей!
1972
Хранительница огня
Перевод С. Липкина
Ходила женщина когда-то к соседям за огнем,
Она одалживала пламя, заботилась о нем,
Как жемчуга, ценились спички, и женщина в те годы
Огонь для дома добывала кресалом и кремнем.
Хозяйка тлеющие угли под пеплом берегла,
Чтоб ни в печи не остывала, ни в очаге зола,
И щеки у нее пылали, как будто хлеб румяный,
От яркого печного блеска, от жаркого тепла.
Поскольку женщина издревле в моем краю родном
Огня хранительницей стала и в сумерках, и днем,
То вспыхиваем не случайно при каждой встрече с нею,
Ее живым, неугасимым объятые огнем.
1975
ЯКОВ УХСАЙ
(Род. в 1911 г.)
С чувашского
{3}
Лес Иванова
Перевод П. Градова
Наш отец — вековой дуб.
Из народной песни
Подобно дубу вековому,
Поэт под ветрами стоял.
В жестокий век он добрым словом
Сердца людские согревал.
Народ его, как сына, любит.
Сраженный, он в сердцах живет.
Вовеки о великом дубе
Не позабудет наш народ.
Из желудей его поднялся
Огромный лес. Как он подрос!
И сам он в том лесу остался,
Вершиною касаясь звезд.
Живет, живет поэта слово,
Великий образ не исчез.
Шуми же, лес, —
могучий, новый,
Лес Константина Иванова
{4} ,
Поэзии чувашской лес!
1940
Песня про Волгу
Перевод С. Обрадовича
Лейся, песня, долго-долго
По-над Волгою-рекой!..
Хороша ты, наша Волга,
Славен берег твой крутой!
В былях, в памяти народной
Ты осталась на века
Непокорной и свободной,
Волга — матушка-река!
Ты купала нас при свете
Разгоравшейся зари.
Не с того ли твои дети,
Погляди, богатыри!
И в глазах и в душах наших
Чистый свет твоей воды.
Всех ты рек, родная, краше,
Мы родством с тобой горды.
Враг завистливый, жестокий
На тебя пошел войной,
Замутить хотел истоки
Нашей радости большой.
Но назад поворотили
Мы непрошеных гостей
И на Одере поили
Наших волжских лошадей.
Лейся, песня, долго-долго
По-над Волгою-рекой!..
Хороша ты, наша Волга,
Не найти второй такой!
1963
СИБГАТ ХАКИМ
(Род. в 1911 г.)
С татарского
{5}
Берега, берега…
Перевод Р. Морана
Гам, и щебет, и шелест полета,
Птичий пух и соломинки с глиною…
Берега, берега, вы как соты,
Так изрыли вас гнезда стрижиные!
Вы, как судьбы народные, круты.
Здесь, у вас, мои песни безвестные
Не найдут ли гнездо для приюта,
Хоть одно, хоть бы самое тесное?
«Я знаю, что видел Муса…»
Перевод Р. Кутуя
Я знаю, что видел Муса
перед смертью во сне…
Родная деревня.
Мать печь затопила.
Лепешки из белой муки,
словно снег, на столе.
А солнце окно ослепило.
Прозрачное масло
горит, как янтарь,
и перья гусиные подле.
Мать мажет лепешки,
а после — их в печь,
точно в ларь.
Рука на цветастом подоле.
Так пахнет гречишное поле.
Потом потихонечку
будит его.
Скатилось с груди одеяло.
«Сыночек, вставай,
попей молоко.
Лепешки из печи достала.
И в школу пора.
Опоздаем, сынок…»
Шипит сковородка.
И сон берестой отлетает.
Деревья шумят,
шумят за стеной.
Так тихо —
проснуться и сил не хватает.
И запах полыни.
Тот веник вчера лишь связал.
Зеленая, легкая степь Оренбуржья…
Счастливая летняя степь Оренбуржья…
На солнце глядеть не устанут глаза,
там облако светлое кружится.
И плачет Муса, как ребенок, во сне.
Рукою до матери не дотянуться.
Лепешки из белой муки
тают, как снег, на столе.
Проснуться.
Проснуться.
Проснуться.
Хасану Туфану
Перевод Н. Беляева
Два пополуночи. Бумага на столе.
Пиши, я говорю себе, работай неустанно.
Что отложил перо?
Стыдись: вон, в том окне,
Еще горит, горит огонь Туфана.
Уж если состязаться, то всерьез.
Пусть пламя песни, как в печи, запляшет.
Лишь два окна среди сугробов и берез
Горят в ночи на тихом озере Лебяжьем.
Окно в окно — струится разговор,
Как музыка — печальный, бессловесный…
Что не дает уснуть Туфану до сих пор?
Какая боль течет на снег сквозь занавески?
Приладил он на яблоньку для птиц
Кормушку с зернами. Душа его вместила
И состраданье к зимним хлопотам синиц,
И все снега, все ветры яростного мира.
Пусть друг за другом наши окна догорят,
Зарю мы встретили и радостной и юной!
Я счастлив — в мире пушкинском, подлунном
Живет Тукай. Туфаны — музыку творят!
За песнями своими я летел
Перевод Р. Морана
У декабристов занял путь полгода,
У Чехова три месяца почти.
У нас…
Была бы летная погода —
И меньше суток до Читы лети!
Не на коне былинном — в ту сторонку
Помчался я на стреловидном «Ту».
Казалось, я был послан в высоту
За песнями — своими же — вдогонку.
За песнями летел я напрямик,
Где облака, как мысли, пробегали.
Я над тайгой зеленой их настиг,
Я их догнал на голубом Байкале.
В лесу подо Ржевом
Перевод Р. Морана
Лес подо Ржевом. Снег подо Ржевом.
Сорок второй с его болью и гневом.
Жизни и смерти яростный спор.
Сорок сапог износил я с тех пор.
Лес подо Ржевом в завьюженной бурке.
Тусклого неба пустынная ширь.
Греется мир у железной печурки,
В землю зарылся бессолнечный мир.
Черного-черного снега незрячесть:
Смерть перерыла сугробы…
Во мгле,
За вековыми стволами не прячась,
Не припадая к промерзлой земле,
В шлемах беленых, в овчине шершавой,
С передовой, из огня, издали —
Поступью твердой, весомой, державной,
Сомкнутым строем солдаты прошли.
И еще пели вдобавок…
Глубоко
Снег приминая, до самой земли,
Как боевые апостолы Блока,
Сомкнутым строем солдаты прошли.
И еще пели…
За облачной свалкой
Пламя погасло. Надвинулась ночь.
Даже и смерть показалась мне жалкой:
Видит и слышит, а взять их — невмочь!
Лес подо Ржевом. Снег подо Ржевом.
Сорок второй с его славой и гневом.
Жизни и смерти яростный спор.
Сорок сапог износил я с тех пор…
«Вся синь весны вошла в глаза мои…»
Перевод Р. Морана
Вся синь весны вошла в глаза мои,
Но что в них вспыхнет вечером прозрачным?
Ты ждешь, я знаю, спутника Земли
Под номером каким-нибудь двузначным.
К расчисленному чуду я привык,
И мне теперь мерещится другое:
А вдруг красавец конь проскачет вмиг
И прозвенит бубенчик под дугою?!
«Сумерки, Волга…»
Перевод Р. Морана
Сумерки, Волга…
И чудится мне:
Кто-то раскачивается на волне.
Нет, это пни тополей, осокорей,
Спиленных нами когда-то на дне
Будущего рукотворного моря.
Будто форсирует вплавь эскадрон
Темную реку порою тревожной…
И стороною опасной район
Наш теплоход обошел осторожно.
Это ведь я их рубил и губил,
И погребла их зеленая толща.
Сумерки, Волга.
А к нам из глубин
Богатыри поднимаются молча…
Первый холм
Перевод Р. Морана
Первый холм…
Он весной осенен
Над повитыми мглою низами.
Знаешь, где возвышается он?
В нашей старой и славной Казани.
Первый холм…
Он превыше всего.
Когда мир был во власти туманов,
Неоглядным Заволжьем
с него
Молодой любовался Ульянов.
Первый холм…
Не высок и не крут.
Будут круче уступы и склоны.
Но досель еще юношу ждут
Одряхлевшие липы и клены.
Первый холм…
Он весной осенен
Над повитыми мглою низами.
Знаешь, где возвышается он?
В нашей старой и славной Казани.
ТАТУЛ ГУРЯН
(1912–1942)
Переводы В. Баласана
С армянского
{6}
Клятва
Над морем навстречу заре
колышется голубизна —
Венец голубых морей…
Незримые узы, страна,
навек породнили и нас,
И песни мои о тебе
написаны кровью моей.
И если когда-нибудь я
дышать перестану тобой,
Сойду на кривую тропу
иль сделаюсь в тягость тебе, —
То ты меня в землю втопчи
своею железной стопой,
И пусть раздается всегда
твой твердый и праведный бег.
«Хохочет ли ветер, вздымая песок…»
Хохочет ли ветер, вздымая песок,
Луна ли струит померанцевый сок, —
Здесь смерть и бессмертье — приветствую их!
И славлю, покамест мой голос не стих,
Того, кто и смертью бессмертья достиг.
1942
МИРВАРИД ДИЛЬБАЗИ
(Род. в 1912 г.)
С азербайджанского
{7}
О чем говорят камни
Перевод А. Кронгауза
Старых скал узнала лики,
Чуть приехала домой.
Если камни безъязыки,
Как же говорят со мной?
Бередят,
Тревожат душу
И забыться не дают,
Говорит один:
— Послушай… —
Говорит другой:
— Послушай,
Хоть бы несколько минут…
— «Колыбельную» послушай, —
Помнишь, мама пела тут?
Мне,
Как родственнице старой,
Возвратившейся в семью,
Детства давнего чинара
Подарила тень свою.
Красные маки
Перевод А. Кронгауза
Ежегодно,
Где потоки с гор быстры,
Алых маков
Разгораются костры.
И восход бурлит в багряных лепестках,
Словно красные озера на лугах.
И по склону,
Что почти отвесно крут,
Ручейками
Маки красные текут.
Почему-то с детских лет
Что далеки,
Полюбила я вас,
Чудо-лепестки!
Два конца
Моего красного платка
Не поделят
Два весенних ветерка.
И конец платка,
Подхвачен ветерком,
Мака яркого трепещет лепестком.
Сами маки
На лугах дрожат, легки,
Как воздушные весенние платки.
Здешних девушек платки
Как маков цвет —
Веселей для ветерков забавы нет.
Кто вас вздумал
В первый зной нарисовать,
Чтоб украсилась весной Нахичевань?
Если больше видеть их не суждено,
Снова памятью
Приду к ним
Все равно.
Человек
Перевод Г. Регистана
Без человека ты нема, природа.
И не нужны все прелести твои.
Ты без него в тоске влачила б годы.
Как женщина без друга и любви.
К чему журчанье вод
И пенье птичье,
Дыхание цветов
И речек бег,
К чему весны нарядное обличье,
Когда бы их не видел человек!
Последний снег, что под лучами тает,
И хмурый дождь,
И солнечные дни
Лишь с человеком смысл приобретают.
А без него — кому нужны они!
Текли бы реки, пользы не давая,
Была бы скудной щедрая земля.
И, золото колосьев осыпая,
Тоскливо ждали осени поля.
И трелью не счастливой, а гнетущей
Звенел бы соловей в ночной тиши.
Заря, весна и в росах сад цветущий
К чему без человеческой души?
Кто станет любоваться алым маком?
Кого прохладой осенит листва?…
Природа, совершенна ты,
Однако
Без сердца человека
Ты мертва!
О Русь!
Перевод Г. Регистана
Шли дожди без конца…
От утра до утра…
Вьюги выли,
Холодные дули ветра…
Лютовала зима…
Но в объятьях земли
Капли крохотных зерен спокойно росли.
Не пугал их мороз и сверкающий снег —
Стебли рвались навстречу цветущей весне.
Ты — такой же,
О русский великий народ!
Сколько выдержал ты за века непогод!
Но, широкою грудью встречая ветра,
Отстоял семена ты любви и добра.
И они расцвели.
И, как жемчуг, светла
Радость та,
Что в объятьях твоих я нашла!
Дочь Отчизны огне,
Где густые леса,
Где сливаются птиц и ручьев голоса,
Где грохочет на каждом шагу водопад,
Где ущелья в глубоком молчании спят,
От страны, ставшей садом, где дружба цветет,
Где фонтаны, как птицы, летят в небосвод,
Красоте твоей доброй и ласковой, Русь,
Поднести я подарок свой скромный берусь.
Эту песню мою
С теми песнями слей,
Что вовеки в груди не смолкают твоей!
ОЛЫК ИПАЙ
(1912–1943)
С марийского
{8}
Горят лампочки Ильича
Перевод А. Ойслендера
Наш край марийский окружая,
Стоял дремучий лес стеной.
Томила душу ночь глухая.
Наш край марийский окружая,
Рабочий люд терзала стая
Вельмож, что правили страной.
Наш край марийский окружая,
Стоял дремучий лес стеной.
Мариец умирал. Бедою
Грозила пустота в ларе.
Одна мякина с лебедою.
Мариец умирал. Бедою
Гонимый, загнанный нуждою,
Он сох, как жерди на дворе.
Мариец умирал. Бедою
Грозила пустота в ларе.
Бедняк, поднявшись на рассвете,
Шел в лес — работать на других.
Просили хлеба, плача, дети.
Бедняк, поднявшись на рассвете,
Шел в лес — и, в спину дуя, ветер
Марийца гнал в полях нагих.
Бедняк, поднявшись на рассвете,
Шел в лес — работать на других.
Октябрьский свет взошел над нами,
Рассеял сумрак деревень, —
И светят окна вечерами.
Октябрьский свет взошел над нами,
Как новой, лучшей жизни знамя,
Пылает ярко каждый день.
Октябрьский свет взошел над нами,
Рассеял сумрак деревень.
По проводам бежит сиянье,
Невиданное на веку, —
И все сбываются желанья.
По проводам бежит сиянье,
Одолевая расстоянье,
Снопы молотит на току.
По проводам бежит сиянье,
Невиданное на веку.
Как гусли, провода запели
О новой жизни на земле.
Шагай, колхоз, быстрее к цели!
Как гусли, провода запели.
Что ж, пойте, гусли! Неужели
Когда-то жили мы во мгле?
Как гусли, провода запели
О новой жизни на земле!
1935
АНДРЕЙ ЛУПАН
(Род. в 1912 г.)
С молдавского
{9}
Магистрали
Перевод М. Светлова
Я знаю — это будет завтра:
через столетья пролетев,
вернутся наши астронавты
в наш край земной, не постарев.
Космические магистрали
их к дальним звездам приведут,
скафандры из уральской стали
астральной пылью заметут.
В пути их встретят метеоры,
но никого не устрашат,
сквозь раскаленные просторы
земли посланцы полетят.
И за пределы света, века,
сквозь тьму космических высот
свободный гений человека
отважный разум поведет.
Но все же будет жить желанье
вернуться в милые края,
где веет ветер созиданья,
где дышит Родина твоя.
Где человеческие судьбы
мы можем все предугадать…
Через столетия взглянуть бы —
вернется ль молодость опять?
Так будет! Молодость, встречай!
Как ни трудны твои усилья,
астральной пылью покрывай
свои натруженные крылья!
1961
Ноша своя
Перевод Ю. Левитанского
Пусть моя седина тебя не обманывает,
и мою искушенность в расчет не бери —
втихомолку память моя перемалывает
деревенские давние сухари.
В этом и суть моя, и основа,
она с рожденья в моей крови,
меня швыряет снова и снова
в гущу драки и в объятья любви.
Это помесь зерен ржи и пшеницы,
которую издавна сеяли мужики.
И я засеваю ею мои страницы
где наугад, где по метке строки.
А рассудительность, хоть она и чинна,
все же не без смеха и не без грехов:
за нею скрывается разная чертовщина —
причина всех моих шишек и синяков.
И те, кто меня за отсталость жалеют,
очень тонкие, иронические умы,
думаю, и они бы не прочь пощедрее
поживиться из небогатой этой сумы.
Так желаю тебе, товарищ, трудной удачи!
Вместе со всеми полную ношу бери
у этой земли, из которой, так или иначе,
каждый из нас добывает свои сухари.
1964
Из воспоминаний
Перевод Д. Самойлова
Из памяти являйся мне всечасно
тревогой, тенью из глубинных лон,
с глазами, созданными мраком ясным,
с кудрями, что летят поверх времен.
Как верный страж, немое ожиданье,
волнуй любою новостью живой,
кричи мне каждый день на зорьке ранней,
что где-то сердце ждет, как часовой.
И что его не исказились свойства,
на примиренье не растрачен пыл,
и что кустом колючим беспокойство
растет на тех путях, где я ходил.
Пусть из воспоминаний, ожиданий
восстанут вновь призывы давних вех,
чтоб измерялся смысл существованья
тем долгом, не оплаченным вовек.
1964
Добро носящий
Перевод К. Ковальджи
Носитель вдохновенного порыва!..
Он среди нас. Свеченья не тая,
возникнет из глубин, внесет счастливо
нетленный час в мельканье бытия.
Я встрепенусь, рванусь из безучастья.
На том пути, что вытоптан и стар,
знакомый тот чудак, мой гость нечастый,
приносит «с добрым утром», словно дар.
К добру такая встреча и к удаче!
Вновь разум бодр, двужилен и силен,
и день твой новый начат не иначе,
как радостью рассвета окрылен.
Свой груз спешат увечные на плечи
ему взвалить.
Но в сердце торжество,
и радугой свершений человечьих
увенчаны все замыслы его.
Сумей постичь среди круговорота
смиряющей привычки бытовой
носителя нечаянного взлета
и необыкновенности земной.
Прибавится к живой странице книжной
легенды ежедневная строка:
он — долга расточительный подвижник
и вольный нашей совести слуга.
Не сбей его с пути затеей зряшной!
Ключа незамутненная струя
меня зовет. И с ним я пью бесстрашно
привычную суровость бытия.
1968
АНДРЕЙ МАЛЫШКО
(1912–1970)
С украинского
{10}
«Где ливень бьет крутые волны…»
Перевод В. Шацкова
Где ливень бьет крутые волны
Всю ночь глухую напролет,
Седые тучи ветер гонит,
Кусты боярышника гнет.
В разливе пажити гречишной
Дорог теряются мосты,
Промокший клен теряет листья,
Чтоб вновь весною расцвести.
И только сосны в небе машут,
Как прежде, крыльями ветвей.
Я вам клянусь, холмы и пашни,
И лес, и горы, и ручей,
И вам, плоды садов багряных,
И вам, девичьи сны берез, —
Мою любовь дожди забрали,
Чтобы вернуть с приходом гроз.
1938
Дума про астурийца
Перевод Б. Турганова
Грохочут взрывы из-за гор,
Клубится мгла долин.
Идет в Астурию
{11} шахтер,
Старик шахтер один.
Он в сердце свой завет хранит,
А в пояс динамит зашит
На тысячу смертей.
И песня, правды не тая,
Несется в тишине:
— Трансваль, Трансваль, земля моя,
Ты вся горишь в огне!
Тропа, и луг, и дол — кругом
Все выжжено твое,
Пылает небосвод огнем,
В огне твое жилье.
Поникла рощица, мертва,
Где мертвым лег патруль,
И плачут камни и трава
Под градом вражьих пуль.
Нависли тучи, скорбь тая,
Но слышно в тишине:
— Трансваль, Трансваль, земля моя,
Ты вся горишь в огне!
Конец скитаний и дорог.
Но дом родной затих,
И ветхий горбится порог:
— Нет сыновей твоих.
Вдали опять рокочет бой
И небосвод горит,
И вот, беседуя с тобой,
Расскажет инвалид:
Когда, куда они ушли,
Куда пошли полки,
Куда знамена понесли
Сыны твои, сынки.
Твой средний сын — одна ж семья! —
Полег в чужой стране.
— Трансваль, Трансваль, земля моя,
Ты вся горишь в огне!
А самый младший мальчик твой
Уплыл в советский край,
Где хлеб, и счастье, и покой.
— Испания, прощай!
А пятеро других, как ты,
Выносят динамит,
А пятеро на все фронты
Идут, где бой гремит;
Они во имя дней иных
Проложат новый путь.
И не смирить железом их
И смертью не согнуть!
Они в ущельях наших гор,
Над смертной мглой долин,
За ними в бой идет шахтер,
Старик шахтер один.
И песня у него своя,
Слыхали, может быть?
Испания, Испания,
Должна ты победить!
1938
Июльский день на перекрестке…»
Перевод Б. Турганова
Июльский день на перекрестке
Присел и загляделся в дали.
А босоногие березки
О синем вечере мечтали.
Им вечер обещал обновы,
Какие могут лишь присниться:
На ветки — бархата цветного,
На листья — расписного ситца.
Но вечер в клуб забрел колхозный,
Где пели «Горлицу» шоферы,
И всех девчат порою поздней
Повел в заречные просторы.
И там, над речкой, у откоса,
Красавицам дарил подарки:
Сиреневые ленты в косы
И голубые полушалки.
Все видел день на перекрестке
(Свидетель важный в самом деле).
Да босоногие березки,
Да все шоферы из артели.
1940
Побратимы
Перевод Б. Турганова
Степной рыжехвостой лисицей огни замаячили в поле.
Орда отступала на полдень, кольцом замыкала тугим.
Сирко Никодим, закручинясь, почуял суровую долю, —
Грицка Сагайдака единый и верный навек побратим!
Ремнем сыромятным скрутили, в колодки забили — готово!
Рубаха линялая — в клочья, беда за плечами и смерть!..
Запел бы казак на прощанье — нашлось подходящее слово, —
Да трубы ревут за горою, литавров рассыпалась медь.
Родная его Украина за полем багровым лежала,
В низовье орлы откликались, в дыму исчезал окоем.
Так что ж, что приставили к горлу копья востроносое жало, —
Сирко, умирая, услышит, как черти завоют по нем!
Поминки богатые будут, сберутся товарищи в гости,
Закурят казацкие трубки — похода далекого знак,
И, может, в степи, при дороге, найдут Никодимовы кости
И горестно на пепелище заплачет седой Сагайдак!
1940
«Бронзовый памятник, сад мой новый…»
Перевод Д. Кедрина
Бронзовый памятник, сад мой новый,
Яблоня в тихом саду цветет…
Все отпылало в дали багровой:
Битвы, побоища, кровь и пот.
Но сберегает нам память наша
Воспоминание о прожитом.
Лето цветет. Поднялась ромашка.
Белой гречихи море кругом.
Дети щебечут. Седеет мята,
И серебрится полынь-трава.
Сколько замучено и распято,
Знает земля, как старуха вдова,
Знают поля под закатом багровым,
Камень истертых ногами плит,
Бронзовый памятник в сквере новом,
Где безымянный боец зарыт.
1943
Комсомольский билет
Перевод Я. Смелякова
Комсомольский билет мой лежит на столе,
Двадцать лет я хожу с ним по этой земле.
В нем, как в маленьком зеркале, отражены
Зори мирных работ и зарницы войны:
Крутит ночь фронтовая метелью своей,
Светит ночь Днепрогэса сквозь зелень ветвей.
Ленин дал нам тебя — он для новых побед
Закалил твою славу, согрел твой расцвет.
Я работал и рос, и в жестоком бою
Я сберег свой билет, словно совесть свою,
Для великого братства отчизны моей,
Для идущих на смену нам наших детей,
Для грядущих времен и грядущих работ,
А придется в поход — снова выйдем в поход,
Чтоб с тобою, как с правдой, всегда быть в пути,
Чтоб тебя, словно жизнь, в коммунизм привести,
Комсомольский билет мой!
1946
Гром
Перевод Б. Турганова
Первый гром ударил над Подолом
Залпами из тучи грозовой,
Прокатился рокотом тяжелым,
Стрелами пронесся над травой,
Синим светом озарил криницы,
Молодыми смолками запах,
И полет железной колесницы
Видели в синеющих степях.
Как пылали алые косынки
Над раздольем освеженных нив,
Как летели кони в поединке,
Молниями гривы озарив!
Перелески, и луга, и хаты,
И пшеницы буйной торжество, —
Все за громом мчалось, как солдаты.
Под багряным знаменем его!
1946
«Рано утром расставанье…»
Перевод Б. Турганова
Рано утром расставанье.
Что же, — сердца не печаль!
Свежий ветер на прощанье
Полетит с тобою вдаль.
Будут ночи всё теплее,
Фронтовым вестям салют,
Вспыхнут маки, заалеют, —
Лишь тебя не будет тут,
Лишь за облаком косматым,
Там, далёко, на войне,
В блиндаже простым солдатом
Ты опять приснишься мне.
Пушка бьет протяжно, тяжко,
Спят бойцы, — устали днем, —
Ты в шинели нараспашку
Все сидишь над огоньком
И не знаешь, что от муки,
Побеждая смерть и кровь,
Там тебя в часы разлуки
Бережет моя любовь.
1946
Катюша
Перевод А. Прокофьева
Как на вечеринке в отчем доме,
Я ее услышал здесь, вдали…
Негров двое в поле, в Оклахоме,
Нашу песню милую вели.
И она огнем легла на душу,
Цветом, что над речкой нависал,
Негров двое славили Катюшу,
Ту, что Исаковский написал.
Как она пришла за океаны
Сквозь фронты и тяготы боев?
Может, наши парни-капитаны
Завезли в Америку ее?
Или, может, шторма вал кипучий
Кинул в чужедальние поля?
И она стоит теперь на круче,
Бедным неграм душу веселя
Белым платьем, синим-синим взором
И любовью в май наш золотой,
Шепотом березок белокорых,
Выросших в Смоленщине родной.
Мне тогда раскрылись за горою
Юности далекие пути,
И тогда нас в поле стало трое
В дружбе братской песню ту вести.
И она тем неграм пала в душу.
Разбивала рабство и обман.
«Выходила на берег Катюша
За Великий Тихий океан!»
1951
«Нет зависти моей к душе убогой…»
Перевод А. Прокофьева
Нет зависти моей к душе убогой,
К духовно нищим в сонной тишине.
Пускай они завидуют дорогам,
Тревогам тем, что жизнь судила мне.
Ничто в речах ничтожных их не ново,
И не проникнет речь их в грудь мою, —
Нет, моему завидовать им слову,
Что радостью иль горем обовью.
Владеть им научила мать родная,
Вдохнула силу, и я сильным стал,
Чтоб из него я, искры высекая,
На пятаки его не разменял.
1960
«Солнцем согретый, дождями сеченный…»
Перевод Б. Турганова
Солнцем согретый, дождями сеченный,
Вскормленный хлебом
Черство-суровым,
Ты меж людьми проходишь, помеченный
Счастьем и горем —
Старым и новым.
Много сбылось, что было загадано,
Многое осуществилось воочью,
Только в лице отпечатался рядом
Отсвет двоякий —
Солнца и ночи,
Отсвет тревоги
Вместе с любовью,
Отзвук исканий
И отсвет боя,
Грусть затаенная кроется в слове,
Смехом ребячьим ходит с тобою.
Шепчут: не жизнь у него — картиночка!
Шепчут: в сорочке родился малый!
Только не знают, что та холстиночка
В дальней дороге
Истлела, пожалуй.
1964
Ты приходишь ко мне…
Перевод Б. Турганова
Ты приходишь ко мне
не однажды, не дважды
Рассказать о страданье,
подспудном и скованном,
Как вставал ты в ряды
запорожцев отважных,
Как росло твое сердце
с Шекспиром, с Бетховеном.
Ты приходишь с кипучими
черными тучами,
С кандалами неволи,
С крепостными, с мадоннами,
и с шипами колючими,
И с жуками над вишнями в поле.
И кричит Железняк
огневыми устами
С голытьбою своею,
И бредут неофиты, склонясь под крестами,
По тропе Прометея.
Все твое — все с тобою,
от травки до нации,
От рыданий до взрыва,
И двадцатого века манифестации —
Молодости призывы.
Все твое — все с тобою,
как солнце с водою,
Как вовек и не снилось:
Грозы Африки, громы Азии
В мудром взоре твоем отразились!
Все твое —
с переплесками, снами туманами,
С дымкой росной апреля:
За страны твоей меридианами —
Твои дали зардели!
Дали медные и лиловые,
Будто сизые маки,
Где за Африку бьются новые
Юные гайдамаки,
Где в руках твоих, меж невзгодами,
Зеленеет планета,
Не подкуплена и не продана,
Вся — как совесть поэта!
17 февраля 1964 г.
Поэзия
Перевод А. Прокофьева
Ее не купишь цветом провесен,
Ни горлом не возьмешь, ни чином.
Поэзия ведь — дело совести,
с ней не играют беспричинно.
Не знает старости такая
И на челе не ставит даты,
Побегом новым прорастая,
Стоит извечно возле хаты.
Не песенными переливами —
Тяжелой кровью сердце крушит,
Сверкнет крылом своим малиновым
И то ль обнимет, то ль задушит…
1968
МИРСАИД МИРШАКАР
(Род. в 1912 г.)
С таджикского
{13}
Он гражданином был
Перевод А. Межирова
Хранитель древних сказок и легенд,
Седой певец настроил инструмент,
И полетела к людям кишлака
Издалека пришедшая строка,
И разговор повел накоротке
Сам Пушкин на таджикском языке,
И к тучам, как орлиное крыло,
Его стихотворение взошло.
С младенчества знакомый звонкий стих
Запел таджик среди долин родных.
Неповторимых песен жемчуга
Рассыпал на речные берега.
И слушатели, песню подхватив,
Над горным кряжем подняли мотив.
И, преодолевая перевал,
Весенний ветер людям подпевал.
Над крышей мира, над ребром скалы,
Куда не залетают и орлы,
Где солнце отражают ледники,
Мелькали крылья пушкинской строки.
Он сам любил такую высоту,
Где птицы замирают на лету.
В жестоком веке, в каторжной ночи
Он пел свободы светлые лучи.
Могущество народа и земли
Его стихам окрепнуть помогли.
Он гражданином был. И потому
В сердцах воздвигнут памятник ему.
И потому на разных языках
Едина правда в пушкинских стихах.
Певец Таджикистана моего,
Воспой его и пой стихи его!
Пусть над хребтами кряжистых громад
Стихотворенья Пушкина гремят!
1955
Баллада о сути вещей
Перевод С. Липкина
1
Покинув близких, дом, семью и сад,
Увидеть мир по-новому готовясь,
Ушел поэт куда глаза глядят,
Ушел, куда приказывала совесть.
Скитаясь, повстречал он старика,
Спросил его мудрец, душой высокий:
— Откуда у тебя в глазах тоска?
Куда идешь ты, странник одинокий?
Сказал поэт: — От близких и родных
Уединясь в каморке бедной, тесной,
Творил я в одиночестве свой стих,
Надеясь, что он станет вольной песней.
А песня, и перната и ярка,
Всех одарит крылатой, звонкой силой…
Но оказалось, что моя строка
Бесцветна, безголоса и бескрыла.
И я в неведомый пустился путь,
Расстался с домом, с близкими своими,
Чтобы найти ту истину, ту суть,
Что сделали б мои стихи живыми.
Я должен отыскать то естество,
Объемлющее воздух, море, сушу,
Чтоб птица вдохновенья моего
И крылья обрела, и мысль, и душу.
2
— Поэт! — сказал с улыбкою старик. —
О вымысла властитель и невольник!
То естество, той истины родник,
Поверь мне, знает ныне каждый школьник.
Ступай же к ним, услышь их голоса!
В твоих стихах зажгутся умным светом
Учеников пытливые глаза —
И настоящим станешь ты поэтом!
3
Но, мудреца отринувши совет,
Ушел он, и уста его молчали,
Нежданно встретил девушку поэт
И ей поведал о своей печали.
А та: — Зачем не хочешь ты взглянуть
На то селенье, что цветет в долине?
Ты ищешь жизни истину и суть?
Обрадуйся: ты их нашел отныне!
Суть и основа жизни есть любовь,
Ты с нею встретишься в моем селенье,
И сердце у тебя воспрянет вновь,
И в нем тогда настанет просветленье.
Любовь дает живому рост и цвет,
А песню наделяет чудной силой… —
Но, ничего не возразив в ответ,
Ушел поэт от девушки красивой.
4
Седую мать он встретил на пути
И ей сказал, что, по земле блуждая,
Для песни хочет суть вещей найти,
И женщина ответила седая:
— Зачем тебе из края в край блуждать?
Пойми, одна есть истина на свете:
Основа, суть всего живого — Мать,
И лучше всех об этом знают дети.
И женщина, что жизнь тебе дала,
И родина, которой отдаешь ты
Все помыслы, и чувства, и дела,
И песни, что признательно поешь ты, —
Слились в один жизнедарящий лик —
Лик Матери, извечный лик вселенной.
И если эту сущность ты постиг,
То песнь твоя пребудет вдохновенной.
1968
Четверостишия
Переводы Н. Гребнева
Мелодия грядущего
Пусть будет новый день суровей и трудней —
Он мне желаннее моих ушедших дней.
Я говорил и повторяю страстно:
— Мелодия грядущего прекрасна!
Село
На чистый горизонт, беспечно и светло,
На горы и сады глядит мое село.
Большим не назовешь, ни сказочно богатым,
Село мало… Как мал, да людям дорог атом!
«Нежна ты, тонкостанна и светла…»
Нежна ты, тонкостанна и светла,
К тебе скупой природа не была.
Но и меня судьба не обделила:
Мне из богатств она тебя дала.
Устарело
Твердили нам: «Во власти неба люди!»
В сердца людей оно вселяло страх.
Теперь мы сами боги, сами судьи.
Судьба небес теперь у нас в руках.
Пусть остается
— На голове твоей седая прядь,
Давай я уберу ее иль скрою!
— Пусть остается, чтоб напоминать
О том, что был в разлуке я с тобою.
Весна настала
Весна настала, завладела садом,
Но как ценить мне мир, коль ты не рядом!
Любой цветок мне кажется шипом,
Когда не озарен твоим он взглядом!
Цветок
Вон тот цветок, что стебель наклонил,
Мне больше всех цветов на свете мил
Не потому, что он краснее прочих,
А потому, что сам его я посадил.
Наш с тобой мир
Наш с тобой мир лучше всех миров.
Наш с тобой кров — самый прочный кров.
То, что для страны или для народа, —
Это хорошо! И не надо слов…
1967
ИГОРЬ МУРАТОВ
(1912–1973)
Переводы В. Шацкова
С украинского
{14}
«Как сладко пахнет щедрая земля!..»
Как сладко пахнет щедрая земля!
Как властно манит влажный пряный запах!
Могучий зов душистых трав и злаков
Моей душе понятней вещих знаков —
Его я слышу, где бы ни был я…
Как пряно пахнет щедрая земля!
Ни храмам, ни дворцам не поклоняюсь,
А ей — поклон, а ей — поклон земной.
Молитвенно в печалях припадаю
Горячим лбом к груди ее святой
И, вечным поклонением возвышен,
Сквозь шум ветров земли признанье слышу,
Что я от плоти сын ее родной,
Что я с ней связан общею судьбой,
И доли этой нет на свете выше!
1971
«В арку радуги влетела птица серая…»
В арку радуги влетела птица серая —
На мгновенье стали радужными перья;
Молния по небу пробежала —
Синей птица серенькая стала;
Полыхнула пламенем зарница —
Алой стала серенькая птица;
Утомилась и в тени присела —
И увидели все люди: птица серая.
1972
«И сжалилось, и разразилось…»
И сжалилось, и разразилось,
Дождем упало на сады,
И ожило, и увлажнилось
Все, что страдало без воды.
А в небе, тая дымкой серой,
Светло и радостно плыла
Та, что без счета и без меры
Себя до капли отдала.
1972
ЛЕВ ОШАНИН
(Род. в 1912 г.)
{15}
«Кем я был на войне?..»
Кем я был на войне?
Полузрячим посланцем из тыла,
Забракованный напрочно всеми врачами земли.
Только песня моя с батальоном в атаку ходила, —
Ясноглазые люди ее сквозь огонь пронесли.
Я подслушал в народной душе эту песню когда-то
И, ничем не прикрасив, тихонько сказал ей: — Лети! —
И за песню солдаты
встречали меня, как солдата,
А враги нас обоих старались убить на пути.
Что я делал в тылу?
Резал сталь огневыми резцами.
Взявшись за руки,
в тундре шагали мы в белую мглу.
Город строили мы, воевали с водой и снегами.
С комсомольских времен
никогда не бывал я в тылу.
Дай же силу мне, время,
сверкающим словом и чистым
Так пропеть, чтоб цвели
небывалым цветеньем поля,
Где танкисты и конники
шляхом прошли каменистым,
Где за тем батальоном дымилась дорога-земля.
1945
Дороги
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьется пыль под сапогами
степями,
полями,
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
А дорога дальше мчится,
пылится,
клубится,
А кругом земля дымится —
Чужая земля!
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Край сосновый,
Солнце встает,
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.
И бескрайными путями —
степями,
полями —
Всё глядят вослед за нами
Родные глаза.
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Снег ли, ветер
Вспомним, друзья.
…Нам дороги эти
Позабыть нельзя.
1945
Песня о тревожной молодости
Забота у нас простая,
Забота наша такая —
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет…
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.
Пускай нам с тобой обоим
Беда грозит за бедою,
Но дружба моя с тобою
Лишь вместе со мной умрет.
Пока я ходить умею,
Пока глядеть я умею,
Пока я дышать умею,
Я буду идти вперед!
И так же, как в жизни каждый,
Любовь ты встретишь однажды, —
С тобою, как ты, отважна,
Сквозь бури она пойдет…
Не думай, что все пропели.
Что бури все отгремели.
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдет!
И снег, и ветер,
И звезд ночной полет…
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет.
1958
Баллада о безрассудстве
Высоки были стены, и ров был глубок.
С ходу взять эту крепость никак он не мог.
Вот засыпали ров — он с землей наравне.
Вот приставили лестницы к гордой стене.
Лезут воины кверху, но сверху долой
Их сшибают камнями, кипящей смолой.
Лезут новые — новый срывается крик.
И вершины стены ни один не достиг.
— Трусы! Серые крысы вас стоят вполне! —
Загремел Александр. — Дайте лестницу мне! —
Первым на стену бешено кинулся он,
Словно был обезьяною в джунглях рожден.
Следом бросились воины, —
как виноград, —
Гроздья шлемов над каждой ступенью висят.
Александр уже на стену вынес свой щит.
Слышит — лестница снизу надсадно трещит.
Лишь с двумя смельчаками он к небу взлетел,
Как обрушило лестницу тяжестью тел.
Три мишени, три тени — добыча камням.
Сзади тясячный крик:
— Прыгай на руки к нам! —
Но уже он почувствовал, что недалек
Тот щемящий, веселый и злой холодок.
Холодок безрассудства.
Негаданный, тот,
Сумасшедшего сердца слепой не расчет.
А в слепом не расчете — всему вопреки —
Острый поиск ума, безотказность руки.
Просят вниз его прыгать? Ну что ж, он готов, —
Только в крепость, в толпу озверелых врагов.
Он летит уже. Меч вырывает рука.
И с мечами, как с крыльями, два смельчака.
(…Так, с персидским царем начиная свой бой,
С горсткой всадников резал он вражеский строй
Да следил, чтоб коня его злая ноздря
Не теряла тропу к колеснице царя…)
Но ведь прошлые битвы вершили судьбу —
То ль корона в кудрях, то ли ворон на лбу.
Это ж так, крепостца на неглавном пути,
Можно было и просто ее обойти,
Но никто из ведущих о битвах рассказ
Не видал, чтобы он колебался хоть раз.
И теперь, не надеясь на добрый прием,
Заработали складно мечами втроем.
Груды тел вырастали вокруг.
Между тем
Камень сбил с Александра сверкающий шлем.
Лишь на миг опустил он свой щит. И стрела
Панцирь смяла и в грудь Александра вошла.
Он упал на колено. И встать он не смог.
И на землю безмолвно, беспомощно лег.
Но уже крепостные ворота в щепе.
Меч победы и мести гуляет в толпе.
Александра выносят. Пробитая грудь
Свежий воздух целебный не в силах вдохнуть…
Разлетелся быстрее, чем топот копыт,
Слух по войску, что царь их стрелою убит.
Старый воин качает седой головой:
«Был он так безрассуден, наш царь молодой».
Между тем, хоть лицо его словно в мелу,
Из груди Александра добыли стрелу.
Буйно хлынула кровь. А потом запеклась.
Стали тайные травы на грудь ему класть.
Был он молод и крепок. И вот он опять
Из беспамятства выплыл. Но хочется спать…
Возле мачты сидит он в лавровом венке.
Мимо войска галера плывет по реке.
Хоть не ведали воины точно пока,
То ль живого везут, то ль везут мертвяка,
Может, все-таки рано им плакать о нем?
Он у мачты сидит. И молчит о своем.
Безрассудство… А где его грань?
Сложен суд, —
Где отвага и глупость границу несут.
Вспомнил он, как под вечер, устав тяжело,
Войско мерно над черною пропастью шло.
Там персидских послов на окраине дня
Принял он второпях, не слезая с коня.
Взял письмо, а дары завязали в узлы.
— Не спешите на битву, — просили послы. —
Замиритесь с великим персидским царем.
— Нет, — сказал Александр, — мы скорее умрем.
— Вы погибнете, — грустно сказали послы, —
Нас без счета, а ваши фаланги малы. —
Он ответил:
— Неверно ведете вы счет.
Каждый воин мой стоит иных пятисот. —
К утомленным рядам повернул он коня.
— Кто хотел бы из вас умереть за меня? —
Сразу двинулись все.
— Нет, — отвел он свой взгляд, —
Только трое нужны. Остальные — назад. —
Трое юношей, сильных и звонких, как меч,
Появились в размашистой резкости плеч.
Он, любуясь прекрасною статью такой,
Указал им на черную пропасть рукой.
И мальчишки, с улыбкой пройдя перед ним,
Молча прыгнули в пропасть один за другим.
Он спросил:
— Значит, наши фаланги малы? —
Тихо, с ужасом скрылись в закате послы.
Безрассудство, а где его грань?
Сложен суд,
Где бесстрашье с бессмертьем границу несут.
Не безумно ль водить по бумаге пустой,
Если жили на свете Шекспир и Толстой?
А зачем же душа? Чтобы зябко беречь
От снегов и костров, от безжалостных встреч?
Если вера с тобой и свеченье ума,
То за ними удача приходит сама.
…Царь у мачты. А с берега смотрят войска:
— Мертвый? Нет, погляди, шевельнулась рука… —
Старый воин качает седой головой:
— Больно ты безрассуден, наш царь молодой. —
Александр, улыбнувшись, ответил ему:
— Прыгать в крепость, ты прав, было мне ни к чему.
СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ
(Род. в 1912 г.)
{16}
Круговорот
Солнцестояние! Метель бежит.
Песцы поземки — белое виденье.
Капель. Лучи сквозь кровь.
Изюбр трубит от нарастающего возбужденья.
День — в воздухе мощнее излученье,
ночь — песеннее в звездах небосвод.
Гудит земля. Стремительно вращенье.
То свет, то тьма… Идет круговорот.
Весна! Природа потеряла стыд.
И от безвыходного опьяненья цветут цветы,
и женщина родит, и чудо плачет, празднуя рожденье.
О, чувств нагих святое воплощенье!
Трепещут грозы. Зреет каждый плод.
Страда. Жнут люди до самозабвенья.
То гул, то тишь… Идет круговорот.
Над увяданьем восковых ракит
прощальный крик живого сновиденья —
синь, журавлиный перелет звучит.
И плуг блестит. И озимь веет тенью.
Исполненный зазывного томленья,
колышется девичий хоровод.
И свадьбы. И листвы седой паденье.
То дождь, то снег… Идет круговорот.
И вновь зима. И вновь преображенье.
Чередованье смен, за родом род,
мышленья восходящие ступени —
то жизнь, то смерть… Идет круговорот.
1935
«Есть в памяти мгновения войны…»
Есть в памяти мгновения войны,
что молниями светятся до смерти, —
не в час прощальный острый крик жены,
не жесткий блеск внезапной седины,
не детский почерк на цветном конверте.
Они полны священной немоты,
и — смертные — преграды мы не знаем,
когда в кистях тяжелых, золотых
перед глазами — полковое знамя.
И тишина мгновенная страшна врагам,
оцепеневшим в черных травах.
Со всех дистанций боевых видна
сердца нам осветившая волна —
судьба живых и храбро павших слава.
И ты уже не ты. Глаза — в глаза,
удар — в удар и пламя — в пламя…
Цветы, раздавленные сапогами,
обглоданные пулями леса
нам вслед цветут сильней стократ
и крылья веток к солнцу поднимают.
Пусть женщины тот миг благословят,
когда о них солдаты забывают.
1-й Прибалтийский фронт, 1944
Триптих
Зерно зрачка, сверкнув, застыло вдруг, —
цыпленка на гумне хватил испуг.
А медный ястреб — и могуч и яр:
свистели скошенные крылья аса…
Нырнул цыпленок, задыхаясь, под амбар —
и спрятался. И спасся.
Рога как молния. Листва как мгла.
На брюхе волчья стая подползла.
И прянул лось. Метнулась голова.
Под ним кустарник затрещал, затрясся.
И мчался лось, касаясь зыбунов едва, —
и убежал. И спасся.
На человека человек напал,
врасплох застигнутый — солдатом стал.
В беспамятстве стонало все кругом,
рвались снаряды, пуль светились трассы…
Солдат пошел вперед
И встретился с врагом —
и победил. И спасся.
1955
Сыну
Все можно в жизни поменять, все можно:
на кенаря — коня, на посох — дом.
Все можно потерять неосторожно —
рассудок, время и друзей притом.
Все можно позабыть — нужду, и горе,
и клевету, и первую любовь.
Все можно дать взаймы на срок —
и вскоре и хлеб и деньги возвратятся вновь.
Хочу в тебе найти единоверца,
чтоб к внукам шла связующая нить:
Отечество ,
как собственное сердце,
нельзя забыть, дать в долг иль заменить!
1959
«Я возвратился к самому себе…»
А. Н. Макарову
Я возвратился к самому себе —
и чудится: крыльцо с навесом низким,
и дым отечества в печной трубе
блаженно пахнет хлебом материнским;
сыпь ржавчины осела на скобе,
вздох, затаенное движенье двери…
И я стою, своим глазам не верю —
я возвратился к самому себе!
А в бездне памяти — таежный страх,
и теплятся зрачки на трассе хлипкой,
и торжествуют, домогаясь благ,
лжецы с демократической улыбкой.
И вот — благодарение судьбе! —
оболганный, отторгнутый когда-то,
держу и плуг, и автомат солдата —
я возвратился к самому себе.
В лесу деревья узнают меня,
тут земляника на прогретом склонце
выглядывает из травы, маня,
налитая целебной плазмой солнца;
в полях дивлюсь пчелиной ворожбе,
конь дружелюбно ржет на изволоке,
вновь меж людьми и мною биотоки —
я возвратился к самому себе.
Все, все во мне органно, как в борьбе,
раскованно, как в пору ледохода,
и словно плодоносит, как свобода, —
я возвратился к самому себе.
1956–1963
Из стихов о Пушкине
Ни близких, ни друзей, ни слуг.
Ночь ломится. И звезды тьму прогрызли,
И две свечи горят остро, как мысли,
раскрыто зренье, и разомкнут слух.
И вновь строка — тропа бегущих дум —
пресеклась. Образ слеп. Свершенья наги.
И белая депрессия бумаги
в оторопелых фразах… Он угрюм.
И вновь в тиши ознобной пять голов,
все неотступней наважденье мреет:
…веревки рвутся — Муравьев, Рылеев,
Каховский заживо упали в ров.
Как истерично генерал кричит:
«Скорей их снова вешайте! Скорее!»
О, палачом поддержанный Рылеев, —
твой голос окровавленный звучит
сквозь барабан и сквозь кандальный лязг:
«Так дай же палачу для арестантов
твои — взамен веревок — аксельбанты,
чтоб нам не умирать здесь в третий раз».
А было утро, солнца был подъем!
Веревки даже сгнили в этом царстве,
тут казнь — пример, тут каторга — лекарство,
свобода в паре с дышлом под кнутом.
Ни жить, ни петь, ни говорить, ни спать…
К рисункам со строки перебегает
перо — и виселица проступает,
и петли — окна в смерть… Их пять, их пять
повешенных, и рядом, словно вздох,
приписка — шепотом: «И я бы мог…»
1970
МАКСИМ ТАНК
(Род. в 1912 г.)
С белорусского
{17}
На косогоре
Перевод Я. Хелемского
На косогоре избы батраков,
Подпертые заборами,
Голодом,
Ожиданием перемен,
Стоят, надвинув дырявые картузы стрех.
Кто-то швырнул им
Серебристый грош месяца,
Но он не задержался
И зазвенел где-то
На самом дне их нужды.
О, как темна «Восточных кресов» ночь!
Одни пожары в ночь такую видишь.
1930
«Придем мы, деревня, твои дудари…»
Перевод И. Сельвинского
Придем мы, деревня, твои дудари,
Не с нищенской песнею к дому, —
Смычком золотистым на струнах зари
Сыграем совсем по-другому.
Присядем тогда мы на новый порог
С веселым и ясным обличьем,
Хоть многих певцов средь этапных дорог
Уже никогда не отыщем.
Ты свесишь чуприну соломенных стрех
Под шум вековечного бора,
И выплывут звезды на синий ночлег,
На синие с черным озера.
И кинут серебряный невод на дно,
В рыбачьи глубокие тони,
Где трепетный месяц в речушке родной,
Захлестнутый волнами, тонет.
Тогда и дорогу, и старый погост,
И этот синеющий вечер,
И песню родную пригоршнями звезд
Осыплет октябрьский ветер.
Исчезнут туманы с дорог и низин,
Платок свой накинет, играя,
На царственный гребень сосновых вершин
Стыдливо заря молодая.
Придем мы, деревня, твои дудари,
Не с нищенской песнею к дому, —
Смычком золотистым на струнах зари
Сыграем совсем по-другому.
1936
«Вы спрашиваете…»
Перевод Я. Хелемского
Вы спрашиваете — чем я могу быть полезен,
Если не умею стоять на голове,
Забавлять и смешить публику,
Ходить по канату под куполом цирка,
Прикидываться, что не вижу преступлений
и подлости?
Простите, напрасно я вас потревожил,
Я — человек, умеющий делать
Только простейшие вещи —
Из горстки земли выращивать хлеб,
Из сердца — песни.
1939
Новая весна
Перевод Д. Самойлова
Только что схлынут потоки
С горок, со склонов, с бороздок,
Только попотчуют соком
Нас молодые березы —
Труд начинается сразу
С утренних зорь до вечерних.
С машинно-тракторной базы
Едут с горючим цистерны.
Пьют из них мощные кони —
Тракторы, автомобили,
Будто их на перегоне
Пыль и жара утомили.
Снова по пашне просторной
Двинутся тракторы с громом,
Чтобы отборные зерна
Жирным прикрыть черноземом.
Радостно сердцу, что рано
Слышны под небом весенним
Звуки колхозного стана,
Звуки труда и веселья.
Радостно вешней порою,
Пот вытирая соленый,
Поле послушать ночное,
Песни и смех отдаленный.
Веет от угольев жаром,
Гаснут зарницы в полете,
Где-то засветятся фары,
Как светляки на болоте.
А как затихнут долины, —
В лад под полуночным небом
Льется напев соловьиный,
Ласково плещется Неман.
Так бы и слушал! Да только
Вон уже с криками чаек
Ключ свой вечерняя зорька
Утренней зорьке вручает.
1950
Я хотел бы…
Перевод Я. Брауна
Я хотел бы, чтоб песню мою,
Что всегда оставалась в строю
Непреклонных, отважных бойцов,
Славных пахарей и рыбаков,
Никогда бы забыть не могли,
Чтоб пески ее не замели
И не скрыла забвения мгла
На дорогах, где песня прошла.
И еще я хотел бы: когда
Час придет мой уйти навсегда —
Не поверили б вести такой
Ни заря, как взойдет над землей,
Ни пернатая в поле семья,
Ни бурливая Нарочь моя,
Ни деревья в бору у реки
И ни вы, дорогие дружки!
Я, ваш друг, ваш собрат, как и вы,
Не клонил под грозой головы,
Неплохим собеседником был,
В звонкой песне душой не кривил
И не верил в богов никаких,
Только в правду друзей дорогих,
На ладонях мозоли носил,
Чистым сердцем отчизну любил.
1952
Поэзия
Перевод А. Прокофьева
Я знал, что ты — яркая молния,
Рассекшая тучи;
Я знал, что ты — счастье и доля,
Дух воли могучей.
Весенний цветок,
Что пробился сквозь камень могильный.
Разведчика след
На дороге кремнистой и пыльной.
Ты — дружба и радость,
Я знал, как ты жарко целуешь,
Ты — хлеба кусок или корка
И сок винограда.
А ты оказалась сильнее:
Ты — кровь, что пульсирует в жилах.
Ты — солнце, что ярко
Просторы везде озарило;
И без чего — утверждаю,
И это закон непреложный —
Любить, и работать, и жить
На земле невозможно!
1955
Черноморские чайки
Перевод Я. Хелемского
А все ж дышать горазда легче мне
На черноморской неспокойной шири,
Чем где-то, в чужедальней стороне,
Под звездным небом, в незнакомом мире.
Хоть облака тут ниже и темней,
Чем в тропиках, в краю вечнозеленом,
И ветры — вестники осенних дней —
В лицо дохнули севером студеным,
Мне и суровость эта дорога.
Приветствую волну, что, нам на зависть,
Совсем недавно, милых скал касаясь,
Родные обнимала берега.
Еще сегодня их увижу я.
Скорей бы наступил желанный вечер!
Тебе спасибо, родина моя,
За то, что чаек выслала навстречу!
1957
«Я из породы тех, которым любо…»
Перевод Я. Хелемского
Я из породы тех, которым любо
Сближать людей, и горы, и дубравы,
Сливать в оркестре флейты, бубны, трубы.
Звучанье слов и песен величавых.
Чем больше у меня гостей, тем лучше,
Беседою сменяется беседа.
Я с добрыми друзьями неразлучен
И каждого зову меня проведать.
Поем, стихи читаем вечерами,
Бескрылому соседу спать мешая.
Но что поделать, ежели вчера мы
Справляли славный праздник урожая!
А нынче птиц я провожаю стаю,
Что взмыла ввысь, к студеному зениту,
А завтра я, конечно, повстречаю
Ракету, вышедшую на орбиту.
Пока во мне, стоцветен и чудесен,
Весь мир звенит, сиянье излучая,
Я обещаю много новых песен
И только тишины не обещаю.
1959
«О вас я забочусь, родные края…»
Перевод Я. Хелемского
О вас я забочусь, родные края,
Об урожае, о мирном сне,
О том, чтоб хватало людям жилья,
О том, чтоб деревья цвели по весне.
И эта земная забота моя —
Мой хлеб насущный.
Порою он горьким от пыли был,
Порою от слез он соленым был,
Порою горячим от пороха был…
Зато он пахучим и сладким был,
Когда я с друзьями его делил, —
Мой хлеб насущный.
И не кладите мне хлеб иной
В походную сумку, в мешок вещевой,
На стол, за которым с гостями сижу,
На грудь, когда руки на ней я сложу…
1961
«Реки печали и радости…»
Перевод А. Прокофьева
Реки печали и радости
Я много раз перешел.
Волны их бурные взяли
Немало крови моей.
Но почему-то оставили
Нежность, как будто она
Самой была неподатливой,
Самой тяжелой была.
1962
Памятник
Перевод А. Прокофьева
Над могилою братской мать рыдает седая.
«Где вы, дети мои?» — днем и ночью скликает.
Хоть из мрамора вся, даже сердце из камня,
Ни земля, и ни солнце, и ни ветер дубравный,
Ни плакучие вербы над неманской кручей
Ей сказать не осмелятся правды горючей.
1962
Переписка с землей
Перевод Я. Хелемского
Я много писем написал земле
Пером, которым создаются гимны,
Лирические песни,
манифесты.
Писал я скрипок чуткими смычками,
Умеющими плакать и смеяться.
Есть письма, что начертаны в бою
Штыком или саперною лопатой.
Бывали и посланья, что писались
Не ручкой вечной, а звенящим кубком,
Который поднимал я на пиру,
Провозглашая здравицу живым
Или героев павших поминая.
Все, что пишу, земле я адресую.
А получил пока что
Один-единственный ответ на то письмо,
Которое весною начертал
Надежным плугом на страницах пашни.
Вот он — ответ.
Ломтями нарезайте
И угощайтесь.
Ешьте на здоровье.
1964
«Звезды — раскиданная пахарем пшеница…»
Перевод А. Прокофьева
Звезды — раскиданная пахарем пшеница,
Чтоб в перелете дальнем и тревожном
Было чем поживиться перелетным птицам,
Не опускаясь наземь, где, возможно,
Не всюду и воды дадут напиться
Подорожным.
1965
«Прежде чем вымолвить твое имя, Родина…» Перевод Я. Хелемского
Прежде чем вымолвить твое имя, Родина,
Я, как джангарчи
{18} , собравшийся петь,
Прополаскиваю рот родниковой водой,
Как сеятель, вышедший с лукошком,
Кланяюсь полю, тучам и солнцу,
Как воин перед решающим боем,
Надеваю чистую рубаху.
1970
А. А. Дейнека. Оборона Петрограда. 1928
ПЛАТОН ВОРОНЬКО
(Род. в 1913 г.)
С украинского
{19}
Я тот, кто рвал плотины
Перевод М. Комиссаровой
Той, що греблі рве.
Леся Українка
Да, я плотины рвал,
Я не скрывался в скалах,
Когда дубы валились под грозой.
Лесная чаща надо мной склоняла
Густые ветви; желтою листвой
Укрытый, я лежал под партизанским кровом,
И кровь текла по капле сквозь бинты,
А лесовик склонялся седобровый
И спрашивал:
«Ты все взорвал мосты?»
«Да, все».
Я помню, надо мною
Сидела Мавка в сумраке ночном,
Укрытая туманной пеленою,
С походным карабином за плечом.
Она, вздыхая, пела до рассвета:
«А почему не спрашивать об этом»?
Вон роза наклонилась, вопрошая:
«Что, хороша я?»
А ясень шепчет ей, качая ветви:
«Нет краше в свете».
«Да, нет краше в свете!
Спаси меня,
Ведь там, над синим Прутом,
Я не успел еще мосты взорвать.
По ним ползут, прожорливы и люты,
Враги, как змеи».
«Я могу достать
Жив-гай-траву, и смерть она отгонит!»
И принесла, обегав все луга.
И полетели фермы, лонжероны,
Обрушась на крутые берега.
И только эхо грозно хохотало.
Да, я плотины рвал,
Я не скрывался в скалах.
1946
Карпатская песня
Перевод С. Наровчатова
Ты встаешь бессонными ночами
И идешь к знакомой крутизне,
Где не опаленными крылами
Наша песня плещет в вышине.
С ней на кручу всадники взлетели
Из пыли горячей и степной,
И ее припевом прошумели
Ветры над безвестной крутизной.
И сказал один из нас: «До века
Не забыть ни губ твоих, ни кос,
Твоего русалочьего смеха…»
И коня погнал он под откос.
Бой потом гремел над Верховиной…
Ты его нашла среди травы:
Те же руки, взгляд такой же синий,
Только чуб в запекшейся крови.
Потому бессонными ночами
Ты идешь к знакомой крутизне,
Где не опаленными крылами
Наша песня плещет в вышине.
1946
«Когда ты пал на поле боя…»
Перевод А. Прокофьева
Когда ты пал на поле боя
И тяжкий ратный труд свершил,
Тогда бессмертье над тобою
Простерло ширь незримых крыл.
И ты без роты и без взвода,
В грядущем ты, из года в год
Живешь уже как честь народа,
Как сам народ.
1949
Песня ветерана
Перевод М, Исаковского
Зовешь меня дедом, а разве ж я дед
И разве же в сердце решимости нет?
Какой же я дед! Я солдат-ветеран, —
В японской войне штурмовал Ляоян.
В пятнадцатом годе — я вновь на войне,
В семнадцатом годе — в октябрьском огне.
В сраженьях с фашизмом я был партизан.
Какой же я дед! Я солдат-ветеран!
Не зря и теперь я расходую дни, —
В работе попробуй меня догони!
Какой же я дед! Я солдат-ветеран.
На теле ношу я четырнадцать ран.
С пятнадцатой раной в грядущем бою
Готов умереть за Отчизну свою.
Так выпьем, ребята! Налейте стакан!
Какой же я дед! Я солдат-ветеран.
1949
Нежные имена
Перевод Н. Ушакова
Милица, Радонька, Блага —
Есть ли нежней имена!
Их освятила отвага,
В песни ввела старина.
В страшную старую пору
Те имена рождены
Там, где лесистые горы, —
В тайных дорогах войны.
Вражью встречая засаду
Ночью в чащобе лесной,
Звал на совет свою Раду
Воин, вступающий в бой:
«Радость моя, посоветуй,
Рада, скажи мне, прошу —
Может, мне дать пистолету
Слово, а может, ножу?»
Рада в лесу не бывала,
Но помогала всегда.
По лесу эхо гуляло,
В небе сияла звезда.
Хлопец в турецкой неволе
Думал о милой другой:
«Мне помоги в моей доле,
Милица, раны обмой».
Милица лишь в сновиденье
Тихо склонялась над ним, —
Будто дарила терпенье
Ласковым взглядом своим.
Близкую гибель почуя,
Стиснув под сердцем свинец,
Благу просил дорогую
Старый гайдук-удалец:
«Блага, взгляни, погибаю,
Блага, мне больше не встать.
Блага моя всеблагая,
Деткам дари благодать!»
Нежное имя в походе
Знаменем смелых цвело,
Нежное имя к свободе
Юных и старых вело.
Милица, Благонька, Рада —
Есть ли нежней имена!
Все они сердцу отрада,
Всем моя память верна.
1957
«Ворон ручной благодарно берет…»
Перевод Я. Хелемского
Ворон ручной благодарно берет
Пищу из рук и клюет бутерброд,
Ценит заботу и щедрость мою.
…Но, приведись мне погибнуть в бою,
Ворон, забыв о былой тишине,
Выклюет очи мне.
1959
«Степь, в полудреме вздыхая…»
Перевод В. Корчагина
Степь, в полудреме вздыхая,
Житом шумит налитым.
Вдовушка, туча седая,
Ходит с серпом золотым.
Знать, не дает ей покою
Холмик во ржи под кустом.
Серп заслонила рукою —
И разрыдалась дождем.
Вдовьей тоской опоенный,
Колос поник головой…
И лишь к поре полуденной
Влагу повыкосил зной.
Спину хлеба распрямили.
Пышет, искрится коса.
А на солдатской могиле
Так и не сохнет роса.
1960
«К могилам — к обелискам и крестам…»
Перевод В. Корчагина
К могилам — к обелискам и крестам —
Тропою торной скорбь несу живую.
Пусть бой! — святыни эти не отдам,
А коль отдам,
То сам и отвоюю.
Но там, в грядущем, где растает тьма,
Не для гробов строгать мы доски будем,
А для бандур,
На коих жизнь сама
Настроит струны лишь на радость людям —
Тем людям, для кого — всех солнц лучи!
Пусть нет еще таких людей на свете, —
К их песням, к нотам есть уже ключи:
Вон те кресты И обелиски эти.
1967
«Да, Дон-Кихот ошибся…»
Перевод В. Корчагина
Да, Дон-Кихот ошибся,
Сделал промах:
Взяв щит — воображение свое, —
За ближних, с благородством не знакомых,
Он поднял благородное копье.
Тряслись от смеха Лиц холодных блюдца,
А он — горел, сгорал в святом огне.
…О разум мой!
Сумей так промахнуться!
Вот так светло дай ошибиться мне!
1968
«Мне в тягость затишье…»
Перевод В. Корчагина
Мне в тягость затишье и дач и квартир,
Мне в тягость их стены, оконные шторки…
Зовет меня к болям своим
весь мир,
Зовет судьбою Гарсиа Лорки
{20} .
Стихи как созвездья.
Душа как полет.
И молния в грудь.
И могила немая.
Фаланга фашистская дико ревет,
На дыбу песнь поднимая…
Мне должно с друзьями
в ночном патруле
Шагать по земным,
по зловещим дорогам,
Пока не покончим на всей земле
С коричневым едким смогом!
Лишь после
Задерну я в комнате шторки —
И вдоволь наплачусь над участью Лорки.
1970
«Костер погас…»
Перевод В. Корчагина
Костер погас.
Растаял дым кудлатый.
Следы босых ступней в траве примятой,
Как будто первые потоки дождевые,
Вдоль стежки вьются, робкие, кривые,
Еще не ведая, куда пролечь им надо.
А лес вздохнул в преддверье листопада —
И уронил два гаснущих листочка.
И детских тех шажков неровная цепочка
Всего меня внезапно пронизала,
Костер затрепетал — и вспыхнул ало,
Как лепестки в лучах порою ранней,
Как цвет шиповника, — не комнатных гераней.
И душу залило такое вдруг тепло,
Какого смолоду вместить бы не смогло
Ты, мое сердце…
1973
МАРК ЛИСЯНСКИЙ
(Род. в 1913 г.)
{21}
Моя Москва
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
У горячих станков и орудий,
В нескончаемой лютой борьбе
О тебе беспокоятся люди,
Пишут письма друзьям о тебе.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
1941
Слава
Сияло имя Ленина,
Идя в века,
Перешагнув поля,
моря России,
И не было такого уголка,
Где б это имя не произносили.
А он ходил в поношенном пальто,
Жил на пайке,
Трудился дни и ночи,
Детдому слал дрова,
С докладом шел к рабочим
И говорил, что выспится потом.
Он жил у дальних гор,
У безымянных рек
В сердцах людей
Всех стран и поколений.
И кажется, один лишь человек
Не замечал той славы…
Это — Ленин.
1952
Настроение
С чего — не знаю, тем не менее
Светло в глуши моей души.
С утра такое настроение,
Что хоть роман в стихах пиши.
Дождь льет по всем небесным правилам —
Душистый, щедрый, озорной,
Ему земля бока подставила
И не считается со мной.
А я иду, дышу и радуюсь,
И гром и дождь благодарю,
И верю, что жар-птицу — радугу
Поймаю, людям подарю.
В душе такое настроение,
Что нипочем ни гром, ни дождь,
Как будто улицей весеннею
К любимой женщине идешь.
1956
Птицы меня разбудили
Птицы меня разбудили,
Сказали: пора вставать.
Они со мной поступили,
Как поступала мать.
Сначала будить не хотели,
Они пожалели меня
И от окна полетели,
Сквозь сон осторожно звеня.
Они покружились над вишней,
Вернулись опять к окну,
Перекликались неслышно,
На крыльях несли тишину.
Потом тишина раскололась,
И добрые вестники дня
Запели во весь голос…
Матери нет у меня.
1957
«Друг нам дороже брата иногда…»
Друг нам дороже брата иногда.
Да что там иногда!..
Дороже брата.
Об этом хорошо спросить солдата,
Который брал когда-то города.
Наверное, не трудно догадаться,
Что скажет вам в ответ такой солдат.
Брат может другом вдруг не оказаться,
Зато уж друг — он непременно брат.
А нас учили близких всех любить.
Ну как тут быть?
А надо быть солдатом.
Брат настоящим другом должен быть,
Когда он хочет оставаться братом.
В любви и в равнодушии вольны
Мы перед совестью и небесами.
Все дело в том, что братья нам даны,
Друзей себе мы выбираем сами.
1960
«Разве я когда-нибудь уйду…»
Разве я когда-нибудь уйду
От цветущей яблони в саду,
От весны в березовом хмелю,
От людей, которых я люблю,
От стихов, от радуг, от зарниц,
От тебя, от музыки, от птиц,
От моих не выслушанных гроз,
От моих невыплаканных слез…
Разве я когда-нибудь уйду!
1965
Что б ни случилось
Ночь на последнем повороте,
Обозначается рассвет.
Вы на земле еще живете,
Меня уже на свете нет.
Шумят дожди, метут метели,
Преображая лик земной.
Над вами лебеди взлетели,
Точь-в-точь как раньше надо мной.
Я жил, бродяга и невежда,
От добрых дел не в стороне,
В душе моей жила надежда,
Что кто-то вспомнит обо мне.
Вы ждете славы и успеха —
Приходит горе и беда,
А я от всех тревог уехал
И не вернусь к ним никогда.
Нет, я не бегал от работы,
Хлебнул все радости любви.
Ах, мне бы ваши все заботы,
Друзья живущие мои!
Что б ни случилось — жизнь прекрасна.
Согласны?… То-то и оно!
И солнце льется понапрасну
В мое бездонное окно.
1972
СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ
(Род. в 1913 г.)
{22}
Лист бумаги
Простой бумаги свежий лист!
Ты бел как мел. Не смят и чист.
Твоей поверхности пока
Ничья не тронула рука.
Чем станешь ты? Когда, какой
Исписан будешь ты рукой?
Кому и что ты принесешь:
Любовь? Разлуку? Правду? Ложь?
Прощеньем ляжешь ты на стол?
Иль обратишься в протокол?
Или сомнет тебя поэт,
Бесплодно встретивший рассвет?
Нет, ждет тебя удел иной!
Однажды карандаш цветной
Пройдется по всему листу,
Его заполнив пустоту.
И синим будет небосвод,
И красным будет пароход,
И черным будет в небе дым,
И солнце будет золотым!
А что у вас?
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:
— А у меня в кармане гвоздь.
А у вас?
— А у нас сегодня гость.
А у вас?
— А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят.
— А у нас на кухне газ.
А у вас?
— А у нас водопровод.
Вот.
— А из нашего окна
Площадь Красная видна.
А из вашего окошка
Только улица немножко.
— Мы гуляли по Неглинной,
Заходили на бульвар,
Нам купили синий-синий,
Презеленый красный шар.
— А у нас огонь погас —
Это раз.
Грузовик привез дрова —
Это два.
А в-четвертых, наша мама
Отправляется в полет,
Потому что наша мама
Называется пилот.
С лесенки ответил Вова:
— Мама — летчик?
Что ж такого!
Вот у Коли, например,
Мама — милиционер.
А у Толи и у Веры
Обе мамы — инженеры.
А у Левы мама — повар.
Мама — летчик?
Что ж такого!
— Всех важней, — сказала Ната, —
Мама вагоновожатый,
Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
И спросила Нина тихо:
— Разве плохо быть портнихой —
Кто трусы ребятам шьет?
Ну, конечно, не пилот.
Летчик водит самолеты —
Это очень хорошо.
Повар делает компоты —
Это тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.
Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны.
Дело было вечером,
Спорить было нечего.
Заяц во хмелю
В день именин, а может быть, рожденья,
Был Заяц приглашен к Ежу на угощенье.
В кругу друзей, за шумною беседой,
Вино лилось рекой. Сосед поил соседа.
И Заяц наш как сел,
Так, с места не сходя, настолько окосел,
Что, отвалившись от стола с трудом,
Сказал: «Пиши домой!» —
«Да ты найдешь ли дом? —
Спросил радушный Еж. —
Поди как ты хорош!
Уж лег бы лучше спать, пока не протрезвился!
В лесу один ты пропадешь:
Все говорят, что Лев в округе объявился!»
Что Зайца убеждать? Зайчишка захмелел.
«Да что мне Лев! — кричит. — Да мне ль его бояться?
Я как бы сам его не съел!
Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться!
Да я семь шкур с него спущу!
И голым в Африку пущу!..»
Покинув шумный дом, шатаясь меж стволов,
Как меж столов,
Идет Косой, шумит по лесу темной ночью:
«Видали мы в лесах зверей почище львов,
От них и то летели клочья!..»
Проснулся Лев, услышав пьяный крик, —
Наш Заяц в этот миг сквозь чащу продирался.
Лев — цап его за воротник!
«Так вот кто в лапы мне попался!
Так это ты шумел, болван?
Постой, да ты, я вижу, пьян —
Какой-то дряни нализался!»
Весь хмель из головы у Зайца вышел вон!
Стал от беды искать спасенья он:
«Да я… Да вы… Да мы… Позвольте объясниться!
Помилуйте меня! Я был в гостях сейчас.
Там лишнего хватил. Но все за Вас!
За Ваших Львят! За Вашу Львицу! —
Ну, как тут было не напиться?!»
И, когти подобрав, Лев отпустил Косого.
Спасен был хвастунишка наш.
Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного,
Но обожал… подхалимаж.
Лев и ярлык
Проснулся Лев и в гневе стал метаться,
Нарушил тишину свирепый, грозный рык —
Какой-то зверь решил над Львом поиздеваться:
На Львиный хвост он прицепил ярлык.
Написано: «Осел», есть номер с дробью, дата,
И круглая печать, и рядом подпись чья-то…
Лев вышел из себя: как быть? С чего начать?!
Сорвать ярлык с хвоста?! А номер?! А печать?!
Еще придется отвечать!
Решив от ярлыка избавиться законно,
На сборище зверей сердитый Лев пришел.
«Я Лев или не Лев?» — спросил он раздраженно.
«Фактически вы Лев! — Шакал сказал резонно. —
Но юридически, мы видим, вы Осел!»
«Какой же я Осел, когда не ем я сена?!
Я Лев или не Лев? Спросите Кенгуру!»
«Да! — Кенгуру в ответ. — В вас внешне, несомненно,
Есть что-то львиное, а что — не разберу!..»
«Осел! Что ж ты молчишь?! — Лев прорычал в смятенье. —
Похож ли я на тех, кто спать уходит в хлев?!»
Осел задумался и высказал сужденье:
«Еще ты не Осел, но ты уже не Лев!..»
Напрасно Лев просил и унижался,
От Волка требовал, Шакалу объяснял…
Он без сочувствия, конечно, не остался,
Но ярлыка никто с него не снял.
Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу,
То этим, то другим стал уступать дорогу,
И как-то на заре из логовища Льва
Вдруг донеслось ослиное: «И-аа!»
Мораль у басни такова:
Иной ярлык сильнее Льва!
Слон-живописец
Слон-живописец написал пейзаж,
Но раньше, чем послать его на вернисаж,
Он пригласил друзей взглянуть на полотно:
Что, если вдруг не удалось оно?
Вниманием гостей художник наш польщен!
Какую критику сейчас услышит он?
Не будет ли жесток звериный суд?
Низвергнут? Или вознесут?
Ценители пришли. Картину Слон открыл,
Кто дальше встал, кто подошел поближе.
«Ну, что же, — начал Крокодил, —
Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу…»
«Что Нила нет, в том нет большой беды! —
Сказал Тюлень. — Но где снега? Где льды?»
«Позвольте! — удивился Крот. —
Есть кое-что важней, чем лед!
Забыл художник огород».
«Хрю-хрю, — заметила Свинья, —
Картина удалась, друзья!
Но с точки зренья нас, Свиней,
Должны быть желуди на ней».
Все пожеланья принял Слон.
Опять за краски взялся он
И всем друзьям по мере сил
Слоновьей кистью угодил,
Изобразив снега, и лед,
И Нил, и дуб, и огород,
И даже мед!
(На случай, если вдруг Медведь
Придет картину посмотреть…)
Картина у Слона готова,
Друзей созвал художник снова.
Взглянули гости на пейзаж
И прошептали: «Ералаш!»
Мой друг! не будь таким слоном:
Советам следуй, но с умом!
На всех друзей не угодишь,
Себе же только навредишь.
Непьющий воробей
Случилось это
Во время птичьего банкета:
Заметил Дятел-тамада,
Когда бокалы гости поднимали,
Что у Воробушка в бокале —
Вода! Фруктовая вода!!
Подняли гости шум, все возмущаться стали, —
«Штрафной» налили Воробью.
А он твердит свое: «Не пью! Не пью! Не пью!»
«Не поддержать друзей? Уж я на что больная, —
Вопит Сова, — а все же пью до дна я!»
«Где ж это видано, не выпить за леса
И за родные небеса?!»
Со всех сторон стола несутся голоса.
Что делать? Воробей приклювил полбокала.
«Нет! Нет! — ему кричат. — Не выйдет! Мало! Мало!
Раз взялся пить, так пей уже до дна!
А ну, налить ему еще бокал вина!»
Наш скромный трезвенник недолго
продержался —
Все разошлись, он под столом остался…
С тех пор прошло немало лет,
Но Воробью нигде проходу нет,
И где бы он ни появился,
Везде ему глядят и шепчут вслед:
«Ах, как он пьет!», «Ах, как он разложился!»,
«Вы слышали? На днях опять напился!»,
«Вы знаете? Бросает он семью!».
Напрасно Воробей кричит: «Не пью-ю!
Не пью-ю-ю!!»
Иной, бывает, промахнется
(Бедняга сам тому не рад!),
Исправится, за ум возьмется,
Ни разу больше не споткнется,
Живет умней, скромней стократ.
Но если где одним хоть словом
Его коснется разговор,
Есть люди, что ему готовы
Припомнить старое в укор:
Мол, точно вспомнить трудновато,
В каком году, каким числом…
Но где-то, кажется, когда-то
С ним что-то было под столом!..
Лиса и Бобер
Лиса приметила Бобра:
И в шубе у него довольно серебра,
И он один из тех Бобров,
Что из семейства мастеров,
Ну, словом, с некоторых пор
Лисе понравился Бобер!
Лиса ночей не спит:
«Уж я ли не хитра?
Уж я ли не ловка к тому же?
Чем я своих подружек хуже?
Мне тоже при себе пора
Иметь Бобра!»
Вот Лисонька моя, охотясь за Бобром,
Знай вертит перед ним хвостом,
Знай шепчет нежные слова
О том, о сем…
Седая у Бобра вскружилась голова,
И, потеряв покой и сон,
Свою Бобриху бросил он,
Решив, что для него, Бобра,
Глупа Бобриха и стара…
Спускаясь как-то к водопою,
Окликнул друга старый Еж:
«Привет, Бобер! Ну, как живешь
Ты с этой… как ее… с Лисою?»
«Эх, друг! — Бобер ему в ответ. —
Житья-то у меня и нет!
Лишь утки на уме у ней да куры:
То ужин — там, то здесь — обед!
Из рыжей стала черно-бурой!
Ей все гулять бы да рядиться,
Я — в дом, она, плутовка, — в дверь.
Скажу тебе, как зверю зверь:
Поверь,
Сейчас мне впору хоть топиться!..
Уж я подумывал, признаться,
Назад к себе — домой податься!
Жена простит меня, Бобра, —
Я знаю, как она добра…»
«Беги домой, — заметил Еж, —
Не то, дружище, пропадешь!..»
Вот прибежал Бобер домой:
«Бобриха, двери мне открой!»
А та в ответ: «Не отопру!
Иди к своей Лисе в нору!»
Что делать? Он к Лисе во двор!
Пришел. А там — другой Бобер!
Смысл басни сей полезен и здоров
Не так для рыжих Лис, как для седых Бобров!
НУРДИН МУЗАЕВ
(Род. в 1913 г.)
С чеченского
{23}
Колышутся маки
Перевод А. Кронгауза
Колышутся маки алые
На склонах Кавказских гор.
Сползают лавины талые.
Восхода
Зажжен костер.
Скопление туч лиловое.
Прозрачные облака.
Звенит
Струей родниковою
Мелодия пастуха.
Пока ветерок заигрывал
С волнами его отар,
Он пел,
И сверкала искорка
В глазах,
Словно он не стар.
Задумался.
Не поймешь его:
Он здесь
Или где-то там —
Мечтой возвратился в прошлое,
К прошедшим своим годам.
Походы,
Бои немалые,
Задумавшись,
Видит он:
Колышутся маки алые В глазах,
Как кумач знамен.
1960
НИГЯР РАФИБЕЙЛИ
(Род. в 1913 г.)
С азербайджанского
{24}
Цветок, раскрывшийся среди руин
Перевод М. Светлова
Стою в раздумье над цветком, раскрывшимся среди руин.
Зачем, наперекор тоске, в камнях раскрылся он один —
Здесь домик был, веселый люд в нем песни пел, мужал и рос, —
А ныне обитают в нем то дождь, то ветер, то мороз.
Пришел дикарь — и разорил, разрушил этот милый кров.
Прохожий голову пред ним склоняет, скорбен и суров.
Но вот сквозь камень и металл цветок единственный пророс,
Пробился и зажег в душе не угасающий вопрос.
— Скажи, цветок, — я говорю, — как вырос, как раскрылся ты
Там, где заглох бы и сорняк — не то что нежные цветы?
Давно тут нету мотыльков, и соловьи давно вдали…
Тебя не ранняя ль весна вдруг подняла из-под земли?
— Я голос матери-земли, и силой жизни я велик!
Чтоб смерть и гибель победить, — цветок ответил, — я возник.
Афродита
Перевод П. Антокольского
Говорят, что женской красоте
Жить не долгий срок на белом свете…
А ваятель тот, а руки те
Разве не живут тысячелетья?
Афродита, бури обошли тебя,
Камни грубых скал не погребли тебя,
Мировые битвы не сожгли тебя,
Дева, ты жила тысячелетья!
От природы каждый человек
Получает жизни дар мгновенный.
Но бывает, что продлит навек
Эту жизнь художник дерзновенный.
Стой, красавица, вовеки стой
На незыблемой скале искусства!
Мы склонились перед красотой, —
Существует на земле искусство.
Неаполь, 1956
Алагёз
Перевод М. Светлова
Ты позволь мне сказать тебе несколько слов от души!
Я приехала в гости к народу, родному, как брат.
Я гляжу, как фиалки на склонах твоих хороши,
Как туман пред вершиной твоею отходит назад.
Небеса надо мною — невиданной голубизны!
И сады приласкали меня, напоили колодцы,
И услышала я, как в груди этой нежной страны
Материнское сердце с невиданной нежностью бьется.
Все просторы Армении я обошла, Алагёз
{25} ,
Познакомилась с другом твоим — полководцем Севаном…
Вот уж сколько веков подпирающий своды небес,
Охраняя страну, ты стоишь на посту великаном.
Там, где гордые горы, — там люди достойны вершин.
Счастья большего нет, чем добытое с бою!
Великан Алагёз! Ты позволь над простором долин
В этот утренний час ненадолго проститься с тобою.
Поднебесной вершиной твоею гордится народ,
И голубоглазым тебя называют по праву,
И к солнцу и к звездам, пронзив небосвод,
Словно башню, вознес ты несокрушимую славу…
Ты позволь мне сказать тебе несколько слов от души!
Я приехала в гости к народу, родному, как брат.
Я гляжу, как фиалки на склонах твоих хороши,
Как туман пред вершиной твоею отходит назад.
БОРИС РУЧЬЕВ
(1913–1973)
{26}
Песня о брезентовой палатке
Мы жили в палатке
с зеленым оконцем,
промытой дождями,
просушенной солнцем,
да жгли у дверей
золотые костры
на рыжих каменьях
Магнитной горы.
Мы жили в палатке,
как ветер, походной,
постели пустели
на белом восходе,
буры рокотали
до звездной поры
в нетронутых рудах
Магнитной горы.
А мы приходили,
смеялись и жили.
И холод студил нам
горячие жилы.
Без пляски в мороз
отогреться невмочь,
мы жар нагоняли
в походную ночь.
А наш гармонист
подыграл для подмоги,
когда бы не стыли
и руки и ноги.
Озяб гармонист
и не может помочь,
озябла двухрядка
в походную ночь.
Потом без гудка
при свинцовом рассвете
мы шли на посты,
под неистовый ветер,
большим напряженьем
ветра превозмочь,
упрямей брезента
в походную ночь.
А мы накалялись
работой досыта,
ворочая скалы
огнем динамита.
И снова смеялись —
от встречи не прочь
с холодной палаткой
в походную ночь.
Под зимним брезентом
в студеных постелях
мы жили и стыли,
дружили и пели,
чтоб нам подымать
золотые костры
нетронутой славы
Магнитной горы.
Чтоб в зареве плавок
сгорели и сгасли,
как гаснут степные
казацкие сказки, —
метельный разгон,
ураганный надрыв
стремительных ветров
Магнитной горы.
Чтоб громкий на версты
и теплый на ощупь,
как солнце, желанный
в походные ночи,
на тысячи створок
окошки раскрыл
невиданный город
Магнитной горы.
Мы жили да знали
и радость и горе,
забрав, будто крепость,
Магнитную гору…
За рудами суши,
за синью морей
красивая слава
грохочет о ней.
Мы жили да пели
о доле рабочей
походною ночью,
холодною ночью…
Каленая воля
бригады моей
на гордую память
осталась о ней.
Мы жили, плясали
без всякой двухрядки
в холодной палатке,
в походной палатке…
На сотни походов,
на тысячи дней
заветная песня
осталась о ней.
«Всю неоглядную Россию…»
Всю неоглядную Россию
наследуем, как отчий дом,
мы — люди русские, простые,
своим вскормленные трудом.
В тайге, снегами занесенной,
в горах — с глубинною рудой,
мы называли
хлеб казенный
своею собственной едой.
У края родины, в безвестье,
живя по-воински — в строю,
мы признавали
делом чести
работу черную свою.
И, огрубев без женской ласки,
приладив кайла к поясам,
за жизнь не чувствуя опаски,
шли по горам и по лесам,
насквозь прокуренные дымом,
костры бросая в полумгле,
по этой страшной, нелюдимой,
своей по паспорту земле.
Шли — в скалах тропы пробивали,
шли, молча падая в снегу
на каждом горном перевале,
на всем полярном берегу.
В мороз работая до пота,
с озноба мучась, как в огне,
мы здесь узнали,
что работа
равна отвагою войне.
Мы здесь горбом узнали ныне,
как тяжела
святая честь
впервые
в северной пустыне
костры походные развесть;
за всю нужду, за все печали,
за крепость стуж и вечный снег
пускай проклясть ее вначале,
чтоб полюбить на целый век;
и по привычке, как героям,
когда понадобится впредь,
за все,
что мы
на ней построим,
в смертельной битве умереть.
…А ты — вдали, за синим морем,
грустя впервые на веку,
не посчитай жестоким горем
святую женскую тоску.
Мои пути,
костры,
палатки
издалека — увидя вблизь,
узнай терпение солдатки,
как наши матери звались,
тоску достойно пересилив,
разлуки гордо пережив,
когда
годами по России
отцы держали рубежи.
«Когда бы мы, старея год от году…»
Когда бы мы, старея год от году,
всю жизнь бок о бок прожили вдвоем,
я, верно, мог бы лгать тебе в угоду
о женском обаянии твоем.
Тебя я знал бы в платьицах из ситца,
в домашних туфлях,
будничной,
такой,
что не тревожит, не зовет, не снится,
привыкнув жить у сердца,
под рукой.
Я, верно, посчитал бы невозможным,
что здесь,
в краю глухих полярных зим,
в распадках горных, в сумраке таежном,
ты станешь
красным солнышком моим.
До боли обмораживая руки,
порой до слез тоскуя по огню,
в сухих глазах, поблекших от разлуки,
одну тебя годами я храню.
И ты, совсем живая, близко-близко,
все ласковей, все ярче, все живей,
идешь ко мне
с тревогой материнской
в изломе тонких девичьих бровей.
Еще пурга во мгле заносит крышу
и, как вчера, на небе зорьки нет,
а я уже спросонок будто слышу:
«Хороший мой. Проснись. Уже рассвет…»
Ты шла со мной
по горным перевалам,
по льдинам рек, с привала на привал,
вела меня,
когда я шел усталым,
и грела грудь,
когда я замерзал.
А по ночам, жалея за усталость,
склонясь над изголовьем, как сестра,
одним дыханьем губ моих касалась
и сторожила сон мой до утра.
Чтоб знала ты:
в полярный холод лютый,
в душе сбирая горсть последних сил,
я без тебя —
не прожил ни минуты,
я без тебя —
ни шагу не ступил.
Пусть старый твой портрет в снегах потерян,
пусть не входить мне в комнатку твою,
пусть ты другого любишь,
я не верю,
я никому тебя не отдаю.
И пусть их,
как назло, бушуют зимы, —
мне кажется, я все переживу,
покуда ты в глазах неугасима
и так близка
«Так сбываются сказки в России…»
Так сбываются сказки в России…
От великих трудов и утрат
ты все крепче, смелее, красивей,
будто в битвах бывалый солдат.
Пусть, в работе все жилы напружив,
ты не помнишь досужего дня,
растеряв ненаглядных подружек,
задушевных друзей хороня.
Пусть, рискуя пропасть без дороги,
ты врубался в чащобы тайги,
сам лечил на привалах ожоги,
сам кедровник варил от цинги.
Пусть в безвыходных вьюжных осадах
ты от голода падал и слеп
и до гроба запомнил, как сладок
твой — горбом заработанный — хлеб.
Пусть в поту от горняцкой науки
ты не смог научиться беречь
молодые, горячие руки,
в вечных ранах и шрамах до плеч.
Пусть, хлебая студеную воду
в полых реках полярных пустынь,
ты бросался в упор ледоходу,
вместе с жизнью спасая мосты.
И ни разу в пожарах и вьюгах
заслужить ты упрека не мог,
будто ты побежал от испуга,
будто в горе друзьям не помог.
Пусть, хрипя, задыхаясь в метели,
Через вечный полярный мороз
ты — в своем обмороженном теле —
красным солнышком душу пронес.
Пусть ты запросто видывал ближе
все, что кажется страшным вдали,
пусть ты вытерпел,
выстрадал,
выжил
и узнал, что в пределах земли
нет такого врага на примете,
как бы ни был он крепок и смел,
чтобы ты его прямо не встретил
и в бою его не одолел;
нет работы — суровой для тела,
недоступной и тяжкой уму,
чтобы ты ее с честью не сделал,
удивившись себе самому;
и не может не быть, как бывало,
милой женщины, верной такой,
чтоб, как мать, над тобою вставала,
как сестра твоя, шла за тобой.
И. Заринь. Речь
(центральная часть триптиха «Солдаты революции»)
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ
(1913–1972)
{27}
Кремлевские ели
Это кто-то придумал
счастливо,
что на Красную площадь
привез
не плакучее
празднество ивы
и не легкую сказку
берез.
Пусть кремлевские
темные ели
тихо-тихо
стоят на заре,
островерхие
дети метели —
наша память
о том январе.
Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая
их красота,
и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.
Памятник
Приснилось мне, что я чугунным стал.
Мне двигаться мешает пьедестал.
Рука моя трудна мне и темна,
и сердце у меня из чугуна.
В сознании, как в ящике, подряд
чугунные метафоры лежат.
И я слежу за чередою дней
из-под чугунных сдвинутых бровей.
Вокруг меня деревья все пусты,
на них еще не выросли листы.
У ног моих на корточках с утра
самозабвенно лазит детвора,
а вечером, придя под монумент,
толкует о бессмертии студент.
Когда взойдет над городом звезда,
однажды ночью ты придешь сюда.
Все тот же лоб, все тот же синий взгляд,
все тот же рот, что много лет назад.
Как поздний свет из темного окна,
я на тебя гляжу из чугуна.
Недаром ведь торжественный металл
мое лицо и руки повторял.
Недаром скульптор в статую вложил
все, что я значил и зачем я жил.
И я сойду с блестящей высоты
на землю ту, где обитаешь ты.
Приближусь прямо к счастью своему,
рукой чугунной тихо обниму.
На выпуклые грозные глаза
вдруг набежит чугунная слеза.
И ты услышишь в парке под Москвой
чугунный голос, нежный голос мой.
«Если я заболею…»
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня
в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом в осенних цветах.
Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь,
серебро водопада —
вот чем стоит лечить.
От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь — почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.
Милые красавицы России
В буре электрического света
умирает юная Джульетта.
Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.
В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.
Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.
В блиндажах подземных, а не в сказке
наши жены примеряли каски.
Не в садах Перро
{28} , а на Урале
вы золою землю удобряли.
На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.
Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.
Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.
Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.
Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.
Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.
Хорошая девочка Лида
Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.
Ее золотые косицы
затянуты, будто жгуты.
По платью, по синему ситцу,
как в поле, мелькают цветы.
И вовсе, представьте, не плохо,
что рыжий пройдоха апрель
бесшумной пыльцою веснушек
засыпал ей утром постель.
Не зря с одобреньем веселым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.
В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
Да чем же
она
хороша?
Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.
Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида», —
в отчаянье он написал.
Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.
Он вырастет, станет известным,
покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
для этой огромной любви.
Преграды влюбленному нету:
смущенье и робость — вранье!
На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее.
На полюсе Южном — огнями,
пшеницей — в кубанских степях,
на русских полянах — цветами
и пеной морской — на морях.
Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет,
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдет.
Пусть будут ночами светиться
над снами твоими, Москва,
на синих небесных страницах
красивые эти слова.
Мое поколение
Нам время не даром дается.
Мы трудно и гордо живем.
И слово трудом достается,
и слава добыта трудом.
Своей безусловною властью,
от имени сверстников всех,
я проклял дешевое счастье
и легкий развеял успех.
Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.
Меня — понимаете сами —
чернильным пером не убить,
двумя не прикончить штыками
и в три топора не свалить.
Я стал не большим, а огромным, —
попробуй тягаться со мной!
Как Башня Терпения, домны
стоят за моею спиной.
Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.
Я начал — векам в назиданье —
на поле вчерашней войны
торжественный день созиданья,
строительный праздник страны.
Русский язык
У бедной твоей колыбели,
еще еле слышно сперва,
рязанские женщины пели,
роняя, как жемчуг, слова.
Под лампой кабацкой неяркой
на стол деревянный поник
у полной нетронутой чарки,
как раненый сокол, ямщик.
Ты шел на разбитых копытах,
в кострах староверов горел,
стирался в бадьях и корытах,
сверчком на печи свиристел.
Ты, сидя на позднем крылечке,
закату подставя лицо,
забрал у Кольцова колечко,
у Курбского
{29} занял кольцо.
Вы, прадеды наши, в недоле,
мукою запудривши лик,
на мельнице русской смололи
заезжий татарский язык.
Вы взяли немецкого малость,
хотя бы и больше могли,
чтоб им не одним доставалась
ученая важность земли.
Ты, пахнущий прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной,
и белым лебяжьим пером.
Ты — выше цены и расценки —
в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.
Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.
Даешь!
Купив на попутном вокзале
все краски, что были, подряд,
два друга всю ночь рисовали,
пристроясь на полке, плакат.
И сами потом восхищенно,
как знамя пути своего,
снаружи на стенке вагона
приладили молча его.
Плакат удался в самом деле,
мне были как раз по нутру
на фоне тайги и метели
два слова: «Даешь Ангару!»
Пускай, у вагона помешкав,
всего не умея постичь,
зеваки глазеют с усмешкой
на этот пронзительный клич.
Ведь это ж не им на потеху
по дальним дорогам страны
сюда докатилось, как эхо,
словечко гражданской войны.
Мне смысл его дорог ядреный,
желанна его красота.
От этого слова бароны
бежали, как черт от креста.
Ты сильно его понимала,
тридцатых годов молодежь,
когда беззаветно орала
на митингах наших: «Даешь!»
Винтовка, кумач и лопата
живут в этом слове большом.
Ну что ж, что оно грубовато, —
мы в грубое время живем.
Я против словечек соленых,
но рад побрататься с таким:
ведь мы-то совсем не в салонах
историю нашу творим.
Ведь мы и доныне, однако,
живем, ни черта не боясь.
Под тем восклицательным знаком
Советская власть родилась!
Наш поезд все катит и катит,
с дороги его не свернешь,
и ночью горит на плакате
воскресшее слово: «Даешь!»
Поезд «Москва — Лена»
Рязанские Мараты
Когда-нибудь, пускай предвзято,
обязан будет вспомнить свет
всех вас, рязанские Мараты
далеких дней, двадцатых лет.
Вы жили истинно и смело
под стук литавр и треск пальбы,
когда стихала и кипела
похлебка классовой борьбы.
Узнав о гибели селькора
иль об убийстве избача,
хватали вы в ночную пору
тулуп и кружку первача
и — с ходу — уезжали сами
туда, с наганами в руках.
Ох, эти розвальни и сани
без колокольчика, впотьмах!
Не потаенно, не келейно —
на клубной сцене, прямо тут,
при свете лампы трехлинейной
вершились следствие и суд.
Не раз, не раз за эти годы —
на свете нет тяжельше дел! —
людей, от имени народа,
вы посылали на расстрел.
Вы с беспощадностью предельной
ломали жизнь на новый лад
в краю ячеек и молелен,
средь бескорыстья и растрат.
Не колебались вы нимало.
За ваши подвиги страна
вам — равной мерой — выдавала
выговора и ордена.
И гибли вы не в серной ванне,
не от надушенной руки.
Крещенской ночью в черной бане
вас убивали кулаки.
Вы ныне спите величаво,
уйдя от санкций и забот,
и гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.
СЕРГЕЙ СМИРНОВ
(Род. в 1913 г.)
{30}
Жаворонок
Прямо в пашне прячется застенчиво,
А вспорхнет —
И целых полчаса,
Вроде окрыленного бубенчика,
Медленно уходит в небеса.
Повисает точкой-невидимкою
И звенит над вашей головой,
Над полями, над прозрачной дымкою,
Над ковром ромашки луговой…
Льется звон.
Столбы ровняют линию.
Трактора рокочут горячо.
А подпасок смотрит в небо синее,
Перекинув кнут через плечо.
Обратный путь
Гремит железо третьи сутки.
Вагоны ходят ходуном,
и вдруг смолкают смех и шутки…
«Друзья,
Россия за окном!»
Полей величие немое.
Река. Село на берегу…
Не здесь ли памятной зимою
Мы жили в пепельном снегу?
…Нам старшина поднес по чарке.
Бутыль пуста в его руке.
Поет гармонь московской марки
О Волге матушке-реке.
И поезд, скорость набирая,
Бросает дым на грудь земли.
И нет земле конца и края…
А мы ее
пешком
прошли!
«Где они, военные дороги?..»
Где они, военные дороги?
Отвечаем — пройдены в былом.
Громогласно подводя итоги,
Сели и пируем за столом.
Лишь один кручинится, хмелея.
Взор опущен, волосы ежом.
Нет на свете мысли тяжелее
Той, что ты на празднике чужом:
Человек не побывал на фронте,
Неприглядно вел себя в тылу…
…Не смотрите пристально,
Не троньте!
Пусть катает крошки по столу.
Граница
Незримо
нахмурила брови
И всё воедино свела.
Тут зренье и слух
наготове,
Как пуля в канале ствола.
Тут линия фронта
целинно
Уходит в безбрежность годин.
Коварный покой.
Дисциплина
Готовности
номер один.
Поэт и слово
Моему великому земляку, поэту
Николаю Алексеевичу Некрасову
Стихи
отнюдь не лицемерье,
Не средство наводнить печать.
Они должны
в известной мере
Целебно жечь
И облучать.
Их роль — способствовать везенью.
Приумножать духовный рост,
Боготворить
и славить Землю
И не чураться
Сонма звезд.
Поэт и Слово
двуедины,
Как жажда мыслить и творить.
А тут —
равно необходимы
Размах и глубь,
Задор и прыть;
И гули-гуленьки
на крыше,
И — гром ракеты — напрямик,
И дар призванья,
данный свыше, —
Объять и сплавить
Век
И миг.
И не к лицу
поэту клясться
В любви к Отечеству Труда:
Он сын его,
и голос класса,
И вдохновенье,
И страда;
И трубадур —
такого рода,
Что светит сердцу и уму…
Он
не нисходит до народа,
А подымается
К нему.
«Стараюсь в Революцию вглядеться…»
Стараюсь в Революцию вглядеться.
Она священна, зрима, горяча, —
От банта на груди красногвардейца
До штурмовых полотен кумача
Она, как книга Родины, хранится,
Где ни один абзац не заменим.
Мы сами создаем ее страницы
И в то же время
учимся по ним.
Таинства
Кто мне простые таинства раскроет:
Зачем Луна
озвучивает тьму?
И над Землей
сгорает астероид —
К чему Такая миссия
Ему?
Куда так манит
небо?
И во имя
Чего
роятся звезды в вышине?
И мирозданье —
с безднами своими —
Зачем
Оно
Подмигивает
мне?
«Тенелюбивые растенья…»
Тенелюбивые растенья —
Неприхотливы искони.
Не знаясь с собственною тенью,
Они растут в чужой тени.
Растут, вбирая по крупицам
Тепло и дух земли сырой,
И даже влагой окропиться
Им не приходится порой.
Но на судьбу, на все лишенья
Ничуть не сетуют они, —
Так
чудодейственность женьшеня
Годами
копится
в тени.
Ключевая
Метровым льдом, метровым снегом
Одеты реки и пруды,
А эта речка спорит с небом
Журчащей ясностью воды.
Она течет, не замерзая,
Блестит блистательней парчи.
Ее питают в нашем крае
Глубокоструйные ключи.
Ей не по нраву прозябанье
И сны при холоде любом.
Она, как Русь, — из жаркой бани.
Ныряет в снег, аж пар столбом.
Она кипит, она струится,
Уносит муть, штурмует тьму.
И ключевых своих позиций
Не уступает
никому!
«Рядовой гражданин…»
Рядовой гражданин.
А в наличии
Есть Советская власть у меня,
И партийных заданий величие,
И дорога,
и цель,
и броня,
И страна —
где в почете работники,
И священное чувство одно, —
Что со мной,
Как на первом субботнике,
Сам Ильич
Поднимает бревно.
«Он стоит уверенно и крепко…»
Он стоит уверенно и крепко.
Под ногами сталь броневика.
Не винтовку,
а простую кепку
Стиснула горячая рука.
Он везде,
Он постоянно рядом,
Исполин с простертою рукой.
Под его родным, отцовским взглядом
Стал другим,
воспрянул род людской!
Скромный, мудрый, небольшого роста —
Он таким безмерно дорог мне,
Не в броню закованный,
а просто Человек, стоящий на броне.
АЛЕКСАНДР ЯШИН
(1913–1968)
{31}
Вологодское новогоднее
С новой запевкой на Новый год
Девка на лавке веревку вьет.
Косы у девки до полу, до пят,
В ковте булавки — головки горят,
Брошка на ковте, пуговки в ряд,
Цветики на ковте…
Добер наряд!
А вьюга по окнам ставнями бьет,
В ров за деревней набит сумет,
Снег повсюду — не видно дров,
И вовки воют у самых дворов.
Гавкают собаки, боров ревет…
А девка на лавке веревку вьет,
Веревку вьет да припевку поет,
Припевку-запевку на Новый год.
«Вейся-повейся, крепка, ловка,
Вейся, свивайся, на смерть вовкам.
Справлю обновку, взамуж пойду —
На эту веревку лиху беду,
Чтобы свекровка была не зла,
Чтобы золовка была не в козла,
Чтоб не терять мне девичью стать,
С милым в ладу годов не считать,
Чтобы от сдобных печных пирогов
Духом парным распирало кров.
Вейся ж, свивайся…»
А вьюга ревет,
Девка на лавке веревку вьет.
1935–1936
Поле
О, поле, поле!..
А. Пушкин
Где конец его и где начало?
За два дня вокруг не обойдешь.
Рожь лежит: не ветром укачало —
Танки с глиною смешали рожь.
Здесь они, склонив стволы, стояли,
Как слоны в озерных тростниках,
Только птицы к ним не подлетали,
Не роились мухи на боках.
Трупы, загнивающие в яме,
Ржавые винтовки и штыки,
Желтый ров с размытыми краями,
Словно русло высохшей реки.
Гильзами забитые окопы,
Черепки яичной скорлупы,
Проволокой спутанные тропы,
И, как трупы, желтые снопы…
Полюшко родное!
Светлый воздух,
Политая потом грудь земли.
Уцелели радуги да звезды…
Чистым полем варвары прошли.
Мы стоим — бушлаты нараспашку:
— Ничего! Крепитесь, моряки!
Час придет — возьмемся за распашку:
Нам и поле поднимать с руки.
1941
Утром не умирают
Даже представить трудно,
Как я смогу опять
С вечера беспробудно,
Без сновидений спать.
Страшно, что сил не хватит
Выдержать до утра.
Сядьте на край кровати,
Дайте руку, сестра!
Все, кто болели, знают
Тяжесть ночных минут…
Утром не умирают,
Утром живут, живут…
Утро раздвинет стены,
Окна откроет в сад,
Пчелы из первой смены
В комнату залетят.
Птицы разбудят пеньем
Всю глубину двора,
Чей-нибудь день рожденья
Будут справлять с утра.
Только бы до рассвета
Выдюжить как-нибудь…
Утренняя газета
В новый поманит путь.
Да позвонят из дому,
Справятся:
«Как дела?»
Да навестит знакомый…
Только бы ночь прошла!
Тени в углах растают,
Тяжесть с души спадет,
Утром не умирают —
Солнце начнет обход!
1954–1955
Спешите делать добрые дела
Мне с отчимом невесело жилось,
Все ж он меня растил —
И оттого
Порой жалею, что не довелось
Хоть чем-нибудь порадовать его.
Когда он слег и тихо умирал, —
Рассказывает мать, —
День ото дня
Все чаще вспоминал меня и ждал:
«Вот Шурку бы… Уж он бы спас меня!»
Бездомной бабушке в селе родном
Я говорил: мол, так ее люблю,
Что подрасту и сам срублю ей дом,
Дров наготовлю,
Хлеба воз куплю.
Мечтал о многом,
Много обещал…
В блокаде ленинградской старика
От смерти б спас,
Да на день опоздал,
И дня того не возвратят века.
Теперь прошел я тысячи дорог —
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог…
Нет отчима,
И бабка умерла…
Спешите делать добрые дела!
1958
Босиком по земле
Солнце спокойное, будто луна,
С утра без всякой короны,
Смотрит сквозь облако,
Как из окна,
На рощу,
На луг зеленый.
От берега к берегу
Ходит река,
Я слышу ее журчание.
В ней — те же луна, луга, облака,
То же мироздание.
Птицы взвиваются из-под ног,
Зайцы срываются со всех ног.
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своею дорогою.
И ягоды ем,
И траву щиплю,
К ручью становлюсь на колени я.
Я воду люблю,
Я землю люблю,
Как после выздоровления.
Бреду бережком,
Не с ружьем, с бадожком,
Душа и глаза — настежь.
Бродить по сырой земле босиком —
Это большое счастье!
1962
Перед исповедью
Хочется исповедаться,
Выговориться до дна.
Может, к друзьям наведаться
С бутылкой вина?
Вот, дескать, все, чем жил я,
Несу на ваш суд,
Не отвернитесь, милые,
Весь я тут.
Смута сердешная
Невмоготу одному.
Не оттолкните грешного,
Сам себя не пойму.
Будто на медкомиссии,
Гол — не стыжусь,
Только ладошка листиком,
И не боюсь, что высмеют,
Ни лешего не боюсь.
Хватит уже бояться мне,
Душа нага.
Только бы не нарваться ей
С исповедью на врага.
Выговориться дочиста —
Что на костер шагнуть.
Лишь бы из одиночества
Выбиться как-нибудь.
Может, еще и выстою
И не сгорю в огне,
И, как на той комиссии,
— Годен! —
Запишут мне.
1965
Думалось да казалось…
Думалось, все навечно,
Как воздух, вода, свет:
Веры ее беспечной,
Силы ее сердечной
Хватит на сотню лет.
Вот прикажу —
И явится,
Ночь или день — не в счет,
Из-под земли явится,
С горем любым справится,
Море переплывет.
Надо —
Пройдет по пояс
В звездном сухом снегу,
Через тайгу
На полюс,
В льды,
Через «не могу».
Будет дежурить,
Коль надо,
Месяц в ногах без сна,
Только бы — рядом,
Рядом,
Радуясь, что нужна.
Думалось
Да казалось…
Как ты меня подвела!
Вдруг навсегда ушла —
С властью не посчиталась,
Что мне сама дала.
С горем не в силах справиться,
В голос реву,
Зову.
Нет, ничего не поправится:
Из-под земли не явится,
Разве что не наяву.
1967
Последняя глава
…Дописать или оборвать —
Горе горькое догоревать?
Сам с собой не всегда в ладу.
По своей
Иль чужой вине
Так живу, как сквозь строй иду,
Что ни день —
Горю на огне.
Книга жизни…
Только ль слова?
Сколько лет я сижу над ней!
Пожелтели страницы в ней,
Как трава в сентябре,
Как листва,
Поседела моя голова.
Но вдвойне дается трудней
Заключительная глава.
1967
ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ
(Род. в 1914 г.)
С грузинского
{32}
«Мгновенный мир мы, по нему скользя…»
Перевод Е. Винокурова
Мгновенный мир мы, по нему скользя
небрежным взором, удержать не в силах.
Мир этот бренный удержать нельзя,
не удержать мгновений наших милых.
Ты выскажись!
Век мчится все равно,
на сто вопросов не дает ответа…
Но никому сказать не суждено того,
что надо высказать поэту.
И ты живи, мгновенья торопя,
и, как века, переживай мгновенья…
И то, что здесь не вдохновит тебя,
лишь это и достойно сожаленья!
Повторится
Перевод Е. Винокурова
Я, словно ношу, мысль одну влачу,
а мысль влачить — нелегкая работа…
Уверовать во что-то я хочу.
И верую я все еще во что-то.
Я верую,
что корни прорастут.
Все снова повторится в результате…
Я повторюсь в стихах,
в которых труд
заложен мой,
я повторюсь
в дитяти.
Все повторится…
Только лишь одно
неверие нас навсегда погубит!
Нам будет все назад возвращено!
Блаженны верящие.
Прав, кто слепо любит.
…Верну назад вот ту, за небосклон
ушедшую давным-давно дорогу…
А если наша жизнь лишь только сон,
тогда жалеть и не о чем, ей-богу.
«Обнять весь мир…»
Перевод П. Антокольского
Обнять весь мир. Забыть, что он громаден.
Как в малой капле, отразиться в нем.
Работа — мост из шатких перекладин,
А молодость — всегда игра с огнем.
По шаткому — беги! Чтобы окрепло
Твое дыханье в муках и в пыли.
Сгори дотла, стань бедной горстью пепла.
Но берегись — крыла не опали!
Но только зорче, пристальней, яснее!
Других сокровищ незачем искать.
Одна беспечность. Только в дружбе с нею.
Беспечность — ветру вольному под стать.
И — в путь! Смотри, как кругозор громаден.
Ты, словно птица, потерялся в нем.
Ты на мосту из шатких перекладин.
Ты существуешь, чтоб играть с огнем.
Осень
Перевод Е. Винокурова
Спокойно солнце — прямо в вышине.
И листья на деревьях отзвучали…
И мерно воцаряется во мне
таинственность, подобная печали.
Как бы предчуя грозовой разряд,
все замерло… Но вдруг стемнело, ибо
скатилось солнце — как ползет назад
с горы Сизифа
{33} каменная глыба.
Замкнулся круг. Мир отступает вспять.
Казалось бы, природа так устала.
Но камень катит на гору опять,
чтоб вновь зима за осенью настала.
Ты с горечью кривишь в улыбке рот.
В который раз ты в жизни видишь это!
И, может быть, такой круговорот
вот так и будет до скончанья света?!
Зачем природу умную винить?
Не сетуя, живи без опасений,
и оборвется твой удел, как нить,
в какой-нибудь подобный день осенний.
У матери
Перевод Н. Тихонова
На дворе все в янтарном огне,
Нив зеленых огонь — не помеха,
Улыбаясь, счастливое, мне,
Бродит детство мое под орехом.
И все ближе, а я все слепей,
И уходит оно, голубое, —
А вот мать силой ласки своей
Видит нас пред собою обоих.
И сияет небес высота,
Я один с этим сном златокудрым,
В нем наивность и вся доброта,
А во мне — бурной юности утро.
Где-то песня зари расцвела,
Мы не спали ночей, чтоб иметь ее,
Между нами большая дорога легла,
Встала пятая доля столетья.
Молодой виноградник
Перевод Н. Заболоцкого
Он не высок, его не украшает
Наряд парчовый цвета бирюзы.
Как козьи рожки, нежно выступают
Побеги вновь посаженной лозы.
Но скоро-скоро развернутся почки,
Как птенчики, готовые в полет.
Лоза, как дева, вытянет листочки
И косами тычину обовьет.
И доблестный обрадуется ратник,
Отдавший жизнь за родину свою:
Пустырь, где рос когда-то виноградник,
Опять цветет в родном его краю.
Опять цветет, поднявшись из могилы,
Сокровище народного труда…
Тому, кого бессмертье осенило,
Не суждено исчезнуть никогда.
«Лишь ветер подует в дубраве…»
Перевод Н. Заболоцкого
Лишь ветер подует в дубраве
И снегом потянет с вершин, —
В бокале блеснет саперави,
В столовой зажжется камин.
И явится столик нежданно,
И гости покажутся вдруг.
Кувшинчики, словно фазаны,
Пред ними усядутся в круг.
Сначала их робкие взоры
Бегут к потолку, но потом
Мечты их несутся в просторы,
Весельем дыша и вином.
Несутся в окно, в палисадник,
Над полем летят в тишине,
Где дремлет в снегу виноградник
И ласточек видит во сне.
«Пускай безумцем буду я для мира…»
Перевод А. Тарковского
Пускай безумцем буду я для мира, —
Ты моего желанья не забудь:
Могилу мне под алычою вырой,
Ее цветы мне урони на грудь.
Когда ты сжечь захочешь сердце это —
В любом саду среди окрестных гор
Из розового персикова цвета,
Из ярких маков разведи костер.
Тогда я в дымных траурных обновах,
Как ивериец
{34} , в бурке, на коне,
На крыльях — нет! — на ирисах лиловых
К небесной потянусь голубизне.
Я обезумел в день цветенья мира.
Когда и я покину белый свет,
Могилу мне под алычою вырой,
Сожги в цветах. Других желаний — нет.
Град
Перевод А. Тарковского
Шла разбойничья рать,
Сумасшедшая конница
Листья срыву сбивать, —
Ветви гнутся да клонятся.
Вихрь был послан вперед
Брать деревья под локти.
Цвета женского ногтя
Лепестки — вразлет!
Косит град —
Коса блещет,
Пляшет град —
Листва плещет.
Он добычу наудачу
Выбирает по пути,
Бьет в лицо из девяти
Длинноствольных дамбачей.
Как вино шипучее,
Градины колючие
Переполнили пруды,
Бьются около воды.
Не из клювов ли певучие
Уронили их дрозды?
Колыбель моя в небесах,
Дни младенчества улетели.
Этот град, этот звонкий прах —
Только бисер на колыбели.
Подошла на цыпочках мать
К белоснежной моей постели.
Ах, как мог я так долго спать!
Листья сорваны, ветви смяты,
По стволам пробегает дрожь.
Был на ноготь розоватый
Каждый лепесток похож.
Блещет небо грозным оком,
И, рванувшись наугад,
Двинулись одним потоком
Ветер, небеса и град.
Град и ветер схлынут мгновенно.
Хочешь ли ты стихи сложить,
Чтобы они пошли по Вселенной
Градом греметь и грозой кружить?
Ты не желаешь пути другого,
Только бы с бурей и веком в лад!
Где же твое заповедное слово,
Слово прямое, как этот град?
Иль в грозовом орлином клекоте
Голос твой трепетный пропадет,
Так же как цвета женского ногтя
Все лепестки — вразлет?
АНВАР АДЖИЕВ
(Род. в 1914 г.)
С кумыкского
{35}
«Когда Ильич в весенний день…»
Перевод О. Шестинского
Когда Ильич в весенний день
с детьми шел по лугам, —
то солнце, как златой олень,
легло к его ногам.
Когда со стариками он
беседовал зимой, —
буран, внезапно усмирен,
замолк, как бы немой.
Когда с друзьями в знойный час
повел он разговор, —
то белый дождь пустился в пляс
долиною меж гор.
Когда же Ленин, прям и строг,
с врагами шел на бой, —
то каждый враг увидеть мог
твердыню пред собой!
1969
ВИКТОР БОКОВ
(Род. в 1914 г.)
{36}
«Отыми соловья от зарослей…»
Отыми соловья от зарослей,
От родного ручья с родником,
И искусство покажется замыслом,
Неоконченным черновиком.
Будет песня тогда соловьиная,
Будто долька луны половинная,
Будто колос, налитый не всклень.
А всего и немного потеряно:
Родничок да ольховое дерево,
Дикий хмель да прохлада и тень!
1954
Я видел Русь у
Я видел Русь у берегов Камчатки.
Мне не забыть, наверно, никогда:
Холодным взмывом скал земля кончалась,
А дальше шла соленая вода.
Я видел Русь в ее степном обличье:
Сурки свистели, зной валил волов,
На ковылях с эпическим величьем
Распластывались тени от орлов.
Я видел Русь лесную, боровую,
Где рыси, глухари-бородачи,
Где с ружьецом идут напропалую
Охотники, темней, чем кедрачи.
Я видел Русь в иконах у Рублева —
Глаза, как окна, свет их нестерпим!
Я узнавал черты лица родного,
Как матери родной, был предан им.
Ни на каких дорогах и дорожках
Я, сын Руси, забыть ее не мог!
Она в меня легла, как гриб в лукошко,
Как дерево в пазы и мягкий мох.
1965
«Прекрасный подмосковный мудрый лес!..»
Прекрасный подмосковный мудрый лес!
Лицо лесной реки в зеленой раме.
Там было много сказок и чудес,
Мы их с тобой придумывали сами.
— Загадывай желания свои! —
К тебе я обратился — я волшебник!
И замолчали в чащах соловьи,
И присмирел над Клязьмою ольшаник.
— Стань лесом для меня! —
И лес растет.
И я не я, а дерево прямое.
— Стань для меня ручьем! —
И он течет
И родниковой влагой корни моет.
— Стань иволгой! —
И ты в певучий плен
Сдаешься мне в урочище еловом.
— Стань соловьем! —
И серебро колен
Рассыпано по зарослям ольховым.
— Стань ландышем! — Пожалуйста! — И я,
Простившись и с тобой и со стихами,
Меняю сразу форму бытия
И для тебя в траве благоухаю!
И тихо говорю тебе: — Нагнись! —
Гляжу в глаза, в которых нет испуга.
Молю кого-то высшего: — Продлись
Свидание цветка с дыханьем друга!
Я — лес, я — ландыш, я — ручей, я — клен,
Я — иволга, я — ты в каком-то роде!
Когда по-настоящему влюблен,
Тебе доступно все в родной природе!
Дороховы
Цвет черемухи пахнет порохом,
Лебединые крылья в крови.
Уезжает четвертый Дорохов,
Мать родимая, благослови!
Первый пал у Смоленска, под Ельней,
Не напуганный смертью ничуть,
В тишину запрокинув смертельно
Свой пшеничный, смеющийся чуб.
А второй — где отыщешь останки?
Подвиг мужествен, участь горька,
Стал он пеплом пылающим в танке
И героем в приказе полка.
Третий Дорохов в рукопашной
На окопы фашистов шагнул.
Как ветряк над рязанскою пашней,
На прощанье руками взмахнул.
Что с четвертым? И он, бездыханен,
В госпитальной палате лежит.
Нагибаются сестры: — Ты ранен? —
Но четвертый… четвертый молчит.
Ходит Дорохова и плачет,
Ходит, плачет и ждет сыновей.
Никакая могила не спрячет
Материнских тревог и скорбей.
И лежат в позабытой солонке,
Тяжелее надгробий и плит,
Пожелтевшие похоронки,
Где одно только слово: убит.
Чем утешить тебя, моя старенькая,
Если ты сыновей лишена?
Или тем, что над тихою спаленкою
Снова мирная тишина?
Знаю, милая, этого мало!
Нет их! Нет! Свет над крышей померк.
Для того ли ты их поднимала,
Чтобы кто-то на землю поверг?
Ты идешь с посошком осторожно
Вдоль прямого селенья Кривцы.
Под ногами звенит подорожник,
Осыпая лиловость пыльцы.
1959
Тепло ль тебе?
Тепло ль тебе, вечер, ходить по земле босиком?
Не зябко ль? Не дать ли чего-нибудь на ноги, милый?
Ты будешь сегодня всю ночь пастухом,
А стадо твое — светлый месяц и звезды в заливе.
Бери кнутовище и хлопай веселым кнутом,
Чтоб знали коровы, жующие вику,
Что звезды имеют дела с пастухом,
И мирно пасутся, и нет бестолкового крику!
Тепло ль тебе, вечер? Росою покрылась трава.
От речки туман подымается белобородый.
А где-то во ржи возникают простые слова,
И входят без шума и в душу и в сердце народа.
Ты где прикорнёшь? В камыше, в шалаше, на мосту,
На сером настиле парома, пропахшего потом лошадным?
Трава луговая вздыхает легко: — Я расту! —
И небо весь луг обнимает объятьем громадным.
Тепло ль тебе, вечер? Возьми-ка тамбовский зипун,
Зайди на конюшню, приляг и поспи на попонах.
— Зачем мне зипун? Не озябну! Нагреет табун,
Упарюсь в пастушьих бегах и заботах о звездах и конях!
1971
Микула
Егору Исаеву
Не за стеною монастырской
Микула сошку мастерил,
А на равнине богатырской,
Где ворон каркал и парил.
Бесхитростен был сельский витязь,
Он черный хлебушек кусал.
Он валунам сказал: — Подвиньтесь! —
Да приналёг и сдвинул сам.
И все дела! И конь саврасый
Борзо пошел по борозде.
Без норова, без разногласий,
Отлично знал он, в чьей узде.
И затяжёлила земелька,
Глянь — и налился колосок.
И вот уже дурак Емелька
На печку русскую залег.
Сказал: — А ну, лети, родная! —
И полетела печь, как пух.
Не печь — кибитка удалая,
А в ней огонь и русский дух.
Жалейки, дудки и свирелки,
Все появилось на Руси.
И гусли, и игра горелки,
И бабы царственной красы.
Стоял Микула и не верил,
Что столько жизни от сохи.
Хмелел и целовал деревья,
Случалось, даже пел стихи!
В нем пахарь уживался с воином,
Покоя не было кругом.
Он с пашней управлялся вовремя
И вовремя кончал с врагом.
Друг! Не хвались, что ты из Тулы,
Что ты механик и Левша!
Ты от сохи и от Микулы,
Ты Селянинова душа!
16 ноября 1972 г.
БОГДАН ИСТРУ
(Род. в 1914 г.)
С молдавского
{37}
«Вскормлен я землей отеческой…»
Перевод В. Соколова
Вскормлен я землей отеческой,
Словно дуб с глубокими корнями.
Силы нет такой, что вырвала б
Из земли меня, свалив ветрами.
Песни мира я по капельке
Собираю бережно и верно,
Чтобы с братьями и сестрами
Поделиться ими откровенно.
Пусть слова мои не мечутся,
Словно необъезженные кони,
Пусть бурлит в них изобильная
Радость родины в весеннем звоне.
Пусть звучат в них гулы тракторов,
Песни трактористов загорелых,
Пусть качаются в них шелесты
Золотистых нив,
Колосьев зрелых.
Пусть девчата, парни шепчут их
В час, когда, известно, третий лишний,
В час, когда у них в свидетелях
Только звезды, родники да вишни.
Вскормлен я землей отеческой.
Из ее груди живые соки
По стволу стиха вздымаются,
И крепчают ветви, крепнут строки.
Но порой в мой голос праздничный
Ноты вкрадываются иные.
Вижу кровь на нивах родины,
Лица, не забытые и ныне.
Люди те, в лаптях и рубище,
Как солдаты, спят в сырой земле,
Их борьба и их страдания
Будут жить в веках, живут во мне.
Мысль о них как вдохновение:
К делу — от зари и до зари.
Над межой склоняюсь низко я,
Подношу к губам комок земли.
Эту землю кладом сделаем,
Свой святой прокладывая путь.
Умерших лицом к грядущему,
Предков наших можно ль обмануть!
1956
Подсолнух
Перевод В. Соколова
Зовется подсолнухом потому,
Что очень уж нравится солнце ему.
Влюбился и смотрит себе против света.
А солнышко шепчет: расти, хорошей!
Он, слушая это, смеется все лето.
Поэтому рот у него — до ушей.
1957
Дали зовут
Перевод Г. Юнакова
Туда, где ива, голову склонив,
Полощет волосы в прозрачных струях,
Где речка, затерявшись среди нив,
Лениво ветки хмурые целует,
Туда, где Реут, обретя покой,
У камышей смирил свое теченье
И, как солдат, шагавший день-деньской,
Забылся на какое-то мгновенье,
Туда, где клятва первая не раз
Желанным поцелуем завершалась,
Где россыпь звездная в полночный час
Кантатой соловьиной оглашалась,
Туда, где ночь, поэзией дыша,
Пленяет нас, приковывая взоры,
Где так и рвется на заре душа
На ширь полей, гудящих от моторов,
Где на простор кормилицы земли
Народ выходит, край обогащая,
Где люди руки дружные сплели,
Мечты столетий в явь преображая, —
Туда, туда всегда меня зовет
Моя душа, к знакомой с детства дали,
К тем берегам, где у прозрачных вод
Мои былые годы пролетали.
Хочу услышать вновь простую речь,
Увидеть пляски земляков веселых,
В труде сумевших счастье уберечь.
Хочу девичьи песни слушать в селах.
И нет минуты, нет такого дня,
Когда бы я не вспоминал об этом,
Когда бы не влекла любовь меня
К знакомым далям, сердцем всем воспетым.
С любовью этой засыпаю я,
И с ней же утро новое встречаю,
Она всегда советчица моя,
Свои поступки ею измеряю.
Вот потому, пройдя немалый путь
И возвратясь к домашнему порогу,
Меня совсем не тянет отдохнуть.
Я вновь готов отправиться в дорогу.
1960
АЛИМ КЕШОКОВ
(Род. в 1914 г.)
Переводы Я. Козловского
С кабардинского
{38}
Поэт со своею посадкой в седле
Для вечности год не длиннее мгновенья.
Высокие звезды склонились к земле.
Я знаю: имеет лишь дату рожденья
Поэт со своею посадкой в седле.
И, может, надежнее всех амулетов,
Мерцая в просторе ночном досветла,
Даруют спасение звезды поэтов
От женской измены и черного зла.
Алеет на облаке отсвет заката,
Толпятся вершины в сиреневой мгле.
А вдруг про меня они скажут когда-то:
«Поэт со своею посадкой в седле».
Но чтобы дать волю подобному чуду,
И жизни не хватит, и слабы крыла.
А вдруг даровать я спасение буду
От женской измены и черного зла.
Со временем в ладу
В час добрый, как это ведется
Под знаком судеб пре давно,
Вином виноград обернется
И в хлеб превратится зерно.
И, тонкий,
над крышами свесясь,
Меняясь в дороге ночной,
В законный черед полумесяц
Округлою станет луной.
Когда-то был мокрою глиной
Кувшин, что стоит
предо мной.
И сделался мальчик
мужчиной,
И девочка стала женой.
Всему есть урочные сроки,
И снова получат права
Войти в колыбельные строки
Из свадебных песен слова.
Где парень,
не веря в потери,
Коня осадил на скаку,
Когда-нибудь посох у двери
Старуха подаст старику.
А ныне скакун еще в мыле
И губы хозяйки в меду.
Пусть все превращения
в мире
Со временем будут в ладу.
Подобна ты маю…
Давно не внимаю
Я календарю.
Подобна ты маю,
А я — декабрю.
Зеленые листья
Меж нами шумят.
И кружит по-лисьи,
Шурша, листопад.
Я — лес оголенный
В седой вышине.
И рощей зеленой
Ты кажешься мне.
Зарю обнимаю
И снова горю.
Подобна ты маю,
А я — декабрю.
«Люби и надейся», —
Вновь шепчешь ты мне —
Родня эдельвейса
В седой вышине
Подоблачный холод
Тебя не страшит.
Мой грех: я не молод,
Но сердца горит.
И все же, и все же,
Хоть, знаешь, люблю,
Тому, кто моложе,
Тебя уступлю
Себя я ломаю,
Судьбу не корю.
Подобна ты маю,
А я — декабрю.
Кинжал
Два лезвия кинжала одного,
Они спиной обращены друг к другу
И меж собою делят оттого
Один позор или одну заслугу.
Ковать кинжалы получал права
Лишь тот, кто оружейником родился
И посвящен был в тайну мастерства, —
В горах обычай этот сохранился.
Кинжалу дан характер не раба,
Обоих лезвий клятва нерушима,
Но кто заверит, что непогрешима
В веках кинжала тайная судьба?
Достигший совершенного обличья,
В руке простолюдина и паши
Он отражал душевное величье
Иль низкое падение души.
Честь не двулика.
И не раз, бывало,
Кинжал надежно защищал ее.
Не потому ль два лезвия кинжала
Единое сливают острие?
Мерцает сталь холодная сурово,
И я желаю более всего,
Чтобы сливались истина и слово,
Как лезвия кинжала одного.
«Может сердце поневоле…»
Может сердце поневоле
От чужой сжиматься боли,
Таково людское сердце.
Может, словно из алмаза,
Высекать слезу из глаза,
Таково людское сердце.
Может, полное усердья,
Быть вершиной милосердья,
Таково людское сердце.
И скрывать свою при этом
Может боль пред целым светом,
Таково людское сердце.
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ
(Род. в 1914 г.)
С белорусского
{39}
Моя Беседь
Перевод М. Исаковского
Есть сказка, что реки проложены птицами:
Копали они и потом, говорят,
Мешочки с землею несли вереницами
И, высыпав землю, летели назад.
А каня
{40} над ними глумилась, смеялась,
И птицы послали проклятие ей.
Так каня с тех пор без воды и осталась:
— Пить-пить! — она просит до нынешних дней…
И в знойную пору, палима лучами,
Той редкою каплей она и живет,
Что тучка, дождем прошумев над лесами,
С далеких небес иногда ей пошлет.
Окончу я дело, которое начал, —
Я камни дроблю, разгребаю пески.
Под смех ожидающих легкой удачи
Копаю я русло своей реки.
И, в недрах струю обнаружив упрямую.
Хочу, чтоб она разлилася волной —
Не Волгой широкой и даже не Камою —
Хоть Беседью б только — моею, родной.
Я жажду работы и думаю часто,
Окончивши честно свой день трудовой,
Что жить невозможно, как каня несчастная,
Одной только каплей воды дождевой.
1940
Над братской могилой
Перевод А. Софронова
Есть на северо-западе русское место Лажины.
Как у нас в Беларуси,
Там вербы растут и рябины.
Там желтеют
Болотные ряски.
Как в Беларуси,
Там ржавеют
Фашистские каски,
Как в Беларуси.
Там могила есть братская рядом с деревней Лажины,
Белорусские парни
Там головы честно сложили.
Мы без слез их хороним
И помним
О клятве своей неизменной.
Наши слезы стыдятся
Винтовок и касок военных.
Мы не плачем, хоть знаем: не просто солдатские кости
Прячем мы под холодный песок на печальном погосте.
Сыплем землю на руки, которые сына носили,
Сыплем землю на ноги, что землю свою исходили.
Ноги просятся встать, их дороги войны не согнули,
Но вогнали в могилу
Их силу
фашистские пули.
Руки просят обнять
Еще сирот своих ненаглядных,
Но уже не подняться, не встать
Им из братской могилы прохладной.
Хоть и эта земля принимает их с воинской честью,
Но хотят они видеть хоть горстку земли из Полесья.
Только где ее взять?
Как они Беларусь покидали,
То в дорогу с собою
Мешочки с землею не брали…
Что им горстка земли, если вся им нужна непреложно,
А в мешочке дорожном
Вместить ее всю
Невозможно.
Ты попробуй в дорогу забрать те поля, те луга и криницы,
Пущи те, что лишь в сердце, лишь в сердце сумеют вместиться.
Беларусь моя, как же хочу тебя видеть я снова,
Весь чабор твой и вереск лесной,
Чуять запах сосновый…
Сердце просит в пути повстречаться
С тем, что с детства любили;
Я тумана хочу наглотаться,
И ветра родного,
И пыли,
Наглотаться хочу за себя и за них.
Им не встать — их песок засыпает;
Мне небес не хватает твоих,
Мне твоей синевы не хватает…
Мы друзей засыпаем землей —
Ленинградцы, татары, узбеки —
И клянемся,
что кровью чужой
Вспоим мы белорусские реки.
Мы салют отдаем,
помним клятву свою неизменно,
И не плачем мы —
слезы стыдятся доспехов военных.
1942
Березка
Перевод М. Исаковского
Стоит она возле ограды
Одна на погосте.
Осколки фашистских снарядов
Оставили след на бересте.
Стрелял чужеземец, но чудом она уцелела,
Стоит она, словно девчина на месте расстрела.
Не плачь же, утри свои слезы,
Березка!
Над светлой рекой заплети свои косы,
Березка!
Тебя не убили, тебя не угнали в неволю,
Расти же на радость и людям, и тихому полю.
1943
Крылья
Перевод А. Твардовского
Я покидал родимый край,
Где жил юнцом счастливым:
Пришел мой срок сказать «прощай»
Своим лесам и нивам.
Вослед мне долго шли поля,
Луга родного края,
Как молодого журавля
К отлету провожая.
Огни окошек мне вослед
Мигали вдаль с тревогой:
Я отправлялся в белый свет,
В безвестную дорогу.
Земля шептала мне:
— Лети,
Мой молодой, да ранний!
Кто знает, сколько на пути
Ты встретишь испытаний.
Они идут за рядом ряд —
И труд, и кровь сражений…
Лети!
Дороги нет назад —
К родным кустам сирени.
Вдохнул я воздуха высот,
Мечту сроднивши с былью.
В далекий путь, в большой полет
Дала мне юность крылья.
В трудах суровых на войне
Я закалил терпенье.
И ничего, что, может, мне
Огнем хватило перья.
Где ни проехать, ни пройти,
Я полз по глине взрытой…
Я не жалею. Десяти
Небитых стоит битый.
И если б даже там песок
С землей меня накрыли,
И то бы, кажется, не мог
Своих сложить я крыльев.
Я б пожелал еще познать
Одно из испытаний:
Из мертвых встать, — хоть трудно встать, —
Рассвет увидеть ранний.
Подняться, встать, прозреть опять,
Умыть лицо водою
В ручье лесном, чтоб не пугать
Людей землей сырою.
И вновь рвануть, чтоб ветер в грудь,
Чтоб снова — впрок усилья…
…Смелее — в путь, и в путь, и в путь! —
Затем даны мне крылья.
1945
Коммунисты
Перевод Я. Смелякова
Коммунисты — это слово крепче стали,
Коммунисты — это слово, как набат.
Маркс и Энгельс нам такое имя дали
В год рожденья наш — сто лет тому назад.
И хотя сто лет назад нас было мало,
Вышли мы на правый бой, на смертный бой.
Мы копаем — с песней — яму капиталу,
Пусть стучит земля по крышке гробовой.
Нет, не верим мы ни в бога, ни в молитвы,
И не знаем мы иных священных слов,
Кроме лозунгов, сзывающих на битвы,
Кроме песен, от каких вскипает кровь.
Поднялись мы в высоту, полны отваги.
Коммунизма даль, к тебе сердца летят.
Крылья наши — это огненные флаги,
Гнезда наши — это камни баррикад.
Коммунисты — это Ленина солдаты,
Пусть трепещут все тираны и цари —
Мы вписали знаменательные даты
Кровью собственной во все календари.
В грозных битвах мы не дрогнем от ударов,
До конца за наше дело постоим,
Знамя красное бессмертных коммунаров
Для полета нашей смене отдадим.
Так и я отдам в наследство — дар заветный —
Жар борьбы, который в сердце берегу.
Коммунисты!.. Этот клич на бой победный
Без волненья повторять я не могу.
Этим словом, самым верным, самым чистым,
Самых близких называю не один.
Я хочу, чтоб назывался коммунистом
Сын родной мой и родного сына сын.
С каждым годом все сильнее над планетой
Наше солнце разгорается во мгле,
Скоро будут называться — знаю это —
Коммунистами все люди на земле.
1948
«Покинув берег, первый шторм я встретил…»
Перевод Я. Хелемского
Покинув берег, первый шторм я встретил
На третий день. Метался влажный мрак.
Для вдохновенья флагам нужен ветер,
А мне для вдохновенья нужен флаг.
Не тот, однако, что на милость стужам
Сдается, встретив непогодь и тьму.
Ни перед злом, ни перед равнодушьем
Я белый флаг вовек не подниму.
Ни перед бурею неудержимой,
Ни перед смертью, ни перед любимой,
Когда она меня не моряком
Захочет видеть, а своим рабом.
Пускай бушуют волны. Вызов смелый
Бросаю я, взметнув навстречу им
Немеркнущий багряный флаг. А белый —
Я оставляю недругам своим.
1962
«Я трижды побеждал судьбу…»
Перевод Я. Хелемского
Я трижды побеждал судьбу,
Я трижды, вытянувши руки,
Лежал в постели, как в гробу.
Я знаю, что такое муки.
Чуть слышный сердца перестук…
Болезнь крестами отмечала
Все сбои ритма — вехи мук,
Она почти погостом стала.
Я умирал и воскресал,
Очнувшись, молча ставил точку
И смерти под ноги бросал
За костью кость — за ночью ночку.
Потом, зимы осилив тьму,
Я встал, весны услышал звуки.
Они всегда слышней тому,
Кто знает, что такое муки.
Не горько и в гробу лежать,
Когда иссякли силы в теле,
А горько, если мир опять
Застонет в смертной той постели.
Вкруг солнца снова я лечу
В сплошном вращении событий.
Я самого себя хочу
Продолжить на земной орбите.
Еще один, другой виток…
Кружись по правилам науки,
Земля — любви моей исток!
Я знаю, что такое муки.
Рожденный заново на свет,
Я палкой, непривычно робок,
Нащупывая нити тропок,
Пишу тревожный свой завет.
Пишу: «Не для того, поверьте,
Я встал, чтоб тлением дышать,
А для того, чтобы опять
Следить за происками смерти».
Пишу, свидетель многих бед,
Сиротских слез, войны, разлуки, —
Да будет счастлив белый свет!
Я знаю, что такое муки.
1967
Единственный серп
Перевод Я. Хелемского
Заглох тот дом, что был моим гнездом,
Что вывел в мир и радость и беду мою.
Не вечно все под месяца серпом,
Хоть вовсе и не жнет он… Так я думаю,
Шагая по проселку с посошком.
Мой след, полсотни лет тому назад
Друживший с тропкой школьною, беспечною,
Зарос травой зеленой… И, конечно, я
Не попрекну траву. Она, сердечная,
Тут ни при чем. Я травам с детства рад.
Электростанция над речкой синею
С былою мощью в сорок киловатт
Не светит больше. Годы так летят,
Что, кроме мачт высоковольтной линии,
В ее судьбе никто не виноват.
Комбайн — властитель в мире полевом —
Привел серпы к полнейшей непригодности.
Не вечно все. Хоть конь и полон гордости,
Но ведь и он во власти безысходности —
Вчерашний всадник нынче за рулем.
Все изменилось — луг мой, лес мой лиственный,
Старею я. Здесь нет вины ничьей.
Так пусть плывет над местностью моей
Серп месяца, — давно уж не таинственный! —
Единственный на жатве наших дней.
1973
АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ
(1914–1948)
{41}
Под Выборгом
Мне снился сон:
по травам запыленным
бродил мой сын,
и рвал мой сын цветы.
Шумели тучи в небе полуденном,
как в паводок плывущие плоты.
И дождь свистел сквозь молнии кривые:
тяжелый,
электрический,
степной.
Зловещи были стрелы огневые
над узкою младенческой спиной!
Такое вдруг желание настало —
бежать за ним,
бежать всю даль пути
и от грозы —
во что бы то ни стало —
испуганного мальчика спасти…
Но что это?
Дороги прояснились:
ни ветра, ни метели дождевой…
Я спал в снегу.
И мне фиалки снились.
И милый сын. И домик под Москвой.
Неясное душевное томленье
щемило сердце сонное. И я
открыл глаза.
Свинцовая струя
свистит вдоль штыкового острия:
идет в атаку третье отделенье!
Октябрь 1940 г.
22 июня 1941 года
Роса еще дремала на лафете,
когда под громом дрогнул Измаил.
Трубач полка —
у штаба —
на рассвете
в холодный горн тревогу затрубил.
Набата звук,
кинжальный, резкий, плотный,
летел к Одессе,
за Троянов Вал,
как будто он не гарнизон пехотный,
а всю Россию к бою поднимал!
1941
Предсказание
Усталая,
но гордая осанка.
И узелок дорожный за спиной.
Гадала мне гречанка-сербиянка
в Саратове на пристани речной.
Позвякивали бедные мониста
на запыленном рубище ее.
Она лгала.
Но выходило чисто,
я слушал про свое житье-бытье.
И делал вид, что понимаю много,
хотя она мне верила с трудом.
Тут было все:
и дальняя дорога,
и беспокойство,
и казенный дом,
тут были встречи,
слезы и свиданья,
и радости,
и горечь женских мук, —
все,
без чего немыслимо гаданье
в такие дни на пристанях разлук.
Во всем я видел правды очень мало.
Что слезы — ложь,
что встречи — соврала,
а то, что буду жив, —
она узнала,
и что домой вернусь, —
права была.
Осень 1941 г.
Саратов
Материнские слезы
Матери моей
Федосье Дмитриевне
Как подули железные ветры Берлина,
как вскипели над Русью военные грозы!
Провожала московская женщина сына…
Материнские слезы,
материнские слезы!..
Сорок первый — кровавое, знойное лето.
Сорок третий — атаки в снега и морозы.
Письмецо долгожданное из лазарета…
Материнские слезы,
материнские слезы!..
Сорок пятый — за Вислу идет расставанье,
землю прусскую русские рвут бомбовозы.
А в России не гаснет огонек ожиданья —
материнские слезы,
материнские слезы!..
Пятый снег закружился, завьюжил дорогу
над костями врага у можайской березы.
Сын седой возвратился к родному порогу…
Материнские слезы,
материнские слезы!..
1945
Долг
Я не помню детской колыбели.
Кажется:
я просто утром встал
и, накинув бурку из метели,
по большой дороге зашагал.
Как я мог пройти такие дали? —
Увеличь стократно все пути!
Где я был?
В газетах не писали.
Где я шел?
По звездам не найти.
Только очень помнится,
что где-то
под Мадридом,
непогодь кляня,
у артиллерийского лафета
встал пушкарь, похожий на меня.
А потом на Финском,
в штурмовые
ночи, под раскатами огня —
(зимними глазами на Россию) —
пал стрелок, похожий на меня.
И еще я помню, помню внятно:
над бессмертьем друга своего
с ротою салютовал трикратно
я,
лицом похожий на него.
Ангелы спасенья не витали
надо мною на Большой войне:
силы родины меня питали, —
талисман возмездья
был при мне.
Где сейчас я?
Не ищи на карте…
Только люди говорят, что я
в Греции,
в Чанду
и в Джокьякарте
в дьявола стреляю из ружья!
Если верить людям, в их святую
проповедь,
то на любом ветру
до ста лет, наверно, проживу я,
коль своею смертью не умру.
1948
ЛЕВ ОЗЕРОВ
(Род. в 1914 г.)
{42}
«Тверские льны стоят до небосклона…»
Тверские льны стоят до небосклона,
Как будто подпирают небосклон.
Зеленая волна — земное лоно —
Бежит ко мне, бежит со всех сторон.
И черное пятно рубахи потной,
Как солнце посреди голубизны.
Воистину бессмертные полотна —
Цветут вокруг меня тверские льны.
«Вишневый сад белеет в темноте…»
Вишневый сад белеет в темноте.
Вишневый сад. А времена не те.
Вишневый сад. Забыли человека.
Стучит топор. Прошло всего полвека,
А век не тот. В надзвездной высоте
Летит земной детеныш по орбите.
Следите, как летит он! И — не спите!
Вишневый сад белеет в темноте.
«Люблю старинные ремесла…»
Люблю старинные ремесла,
Когда в поселке над рекой
Один — выстругивает весла,
Вытачивает руль — другой.
А третий — поднимает парус,
И вот они плывут втроем,
И, пенясь, отступает ярость
Перед уменьем и трудом.
«Всю жизнь я собираюсь жить…»
Всю жизнь я собираюсь жить.
Вся жизнь проходит в ожиданье,
И лишь в короткие свиданья,
Когда немыслимо решить,
Что значит быть или не быть,
Меж гордым мигом узнаванья
И горьким мигом расставанья —
Живу, а не готовлюсь жить.
«На берегу морском лежит весло…»
На берегу морском лежит весло
И больше говорит мне о просторе,
Чем все огромное взволнованное море,
Которое его на берег принесло.
«Сквозь пламень строк душа пропущена…»
Сквозь пламень строк душа пропущена.
Ну, а царей-то помним много ли?
Из Александров — только Пушкина,
Из Николаев — только Гоголя.
«О тебе я хочу думать…»
О тебе я хочу думать. Думаю о тебе.
О тебе не хочу думать. Думаю о тебе.
О других я хочу думать. Думаю о тебе.
Ни о ком не хочу думать. Думаю о тебе.
«Когда работаю, я плохо верю в смерть…»
Когда работаю, я плохо верю в смерть.
Я попросту в нее не верю.
Работа делает меня бессмертным,
Включенным во Вселенную навеки.
Работа делает меня планетой,
Или дорогой, или водопадом.
Что говорить, мы умираем — люди,
Но человек не умирает.
«Поэзия — горячий цех…»
Поэзия — горячий цех,
В котором есть огонь для тех,
Кто ночью и при свете дня
Прожить не может без огня.
Пусть слабодушные уйдут,
Их обиталище не тут.
Пускай покинет нас делец:
Огонь — не золотой телец.
За слабодушным и дельцом
Ленивец пусть уйдет с глупцом.
Здесь ненадежен их успех:
Поэзия — горячий цех.
«Немо горит в окне огонек…»
Немо горит в окне огонек;
Звезды немы.
Где мы, когда человек одинок?
Где мы?
Где мы, когда он, уставясь во тьму,
Ищет совета?
Где мы, чтоб вовремя выйти к нему,
Ждущему где-то?
Сколько раз мы с тобою клялись
В чуткости к другу?
Что же ты далью счел эту близь,
Спрятал за спину руку?
Взял да забился в свой уголок,
Пишешь поэмы…
Где мы, когда человек одинок,
Где мы?…
«Старухи с письмами поэтов…»
Старухи с письмами поэтов,
С тетрадками их сочинений,
Поэтов, что глядят с портретов,
Как чудо памятных мгновений.
Старухи — бывшие красотки,
Наяды, леды и лилеи, —
На фоне сада и пролетки,
Беседки и конца аллеи.
Им посвящались мадригалы,
Им жарко целовали руки
Художники и генералы.
И вот теперь они старухи.
Теперь они пенсионерки.
Порой приходится им худо.
Все продано: и этажерки,
И медальоны, и посуда.
Но сбереженные тетради
Стихов, не путая с вещами,
Они народу, чести ради,
Своей России завещали.
«Серости на белом свете нет…»
Серости на белом свете нет,
Серость — это ваше нерадение,
Невнимание, усталость лет,
Ваше настроение осеннее.
Где для вас невнятное пятно, —
Для меня цветут долины маково.
Все едино, но не все одно,
Все едино, но не одинаково.
«Многословие — род недуга…»
Многословие — род недуга,
А народ изъясняется кратко:
Ищешь друга без недостатка?
Ты рискуешь остаться без друга.
«Ветер бесцветен?..»
Ветер бесцветен? Хочет он в лицах
Весь мир показать изнутри и извне.
Ветер зеленый, если он в листьях.
Ветер багряный, если в огне.
AMO САГИЯН
(Род. в 1914 г.)
С армянского
{43}
«Куда вы плывете, усталые тучи…»
Перевод Б. Пастернака
Куда вы плывете, усталые тучи,
Над далью морскою, над ширью мирской,
Покоя не зная, с такою тоской
Дожди изливая, как слезы, рекой?
Куда вы плывете, усталые тучи?
Куда вы плывете, усталые тучи?
В вас ветра прохлада, и сырость морей,
И запах платанов и осокорей,
Растущих в ущельях у наших дверей.
Куда вы плывете, усталые тучи?
Куда вы плывете, усталые тучи?
Ночами под звездами вы не одни —
Мерцаньем своим вас пронзают они,
А в дни грозовые в вас молний огни.
Куда вы плывете, усталые тучи?
Куда вы плывете, усталые тучи,
Одна за другой, вереницей, подряд,
Прильнув к Арарату, обняв Арарат
И грома катя надо мною раскат?…
Куда вы плывете, усталые тучи?
Водопады
Перевод В. Звягинцевой
Я не люблю воды равнинных рек степенных,
Люблю меж диких скал шум водопадов пенных,
Серебряный их гром, когда они средь зноя
Вдруг вспыхнут на лету, став радугой цветною,
Когда не разберешь, откуда тот избыток,
Что это — ливень звезд иль белых маргариток?
Бьет камни водопад, чтоб самому разбиться,
И в бездну падает, но бездны не боится.
«В ногах — ущелий бархатистый мох…»
Перевод О. Ивинской
В ногах — ущелий бархатистый мох,
В руках — росистые цветы ущелий.
Я на горе, а подо
Откуда я взобрался еле-еле.
Сияет солнце на вершинах круч,
В долине же теснятся безотлучно
Станицы дождевых, унылых туч
И плачут безутешно и беззвучно.
Но как их плач ни бессловесно нем,
По временам неразличимо-глухо
Какой-то отголосок между тем
Со дна долины достигает слуха.
И я не знаю: это детства зов
Иль отзвук водопадов и ручьев?
Лист
Перевод Т. Спендиаровой
Дни золотые стаей унеслись,
Холодный ветер, воя, входит в город.
Висит на клене одинокий лист,
Недавней бурей надвое распорот.
Какую тайну сирый бережет?
Что не летит он вслед другим скитальцам,
К безлистой ветке так упрямо льнет,
К ее дрожащим, ослабевшим пальцам?
Должно быть, знает он, что, приземлясь,
В прах обратится завтрашнею ранью,
Должно быть, хочет, хоть на краткий час,
Продолжить осени существованье.
Ласточки
Перевод О. Ивинской
Росли деревья, зацветая.
Носились ласточек рои.
Еще в живых ли эти стаи.
Как в дни младенчества мои?
Шумя, деревья зеленели
Весною в холод, летом в зной.
Все живы ль ласточки доселе,
Носившиеся надо мной?
Деревья голые унылы,
И тянет ласточек на юг.
Наверно, над моей могилой
Летать им будет недосуг.
«Я жизнь благодарю за все…»
Перевод М. Петровых
Я жизнь благодарю за все, что знаю здесь:
За робкую весну, за пламенное лето,
За то, что этот мир еще со мною весь,
И поздний блеклый лист, и ранний луч рассвета,
За то, что душу мне, как прежде, молодя,
Вновь люди от меня ждут песен и что снова
Очнется, вскрикнет вдруг от светлого дождя
Дремавшая строка, несказанное слово,
За тех, кто полюбил мою печаль, мой смех,
Огню души моей ответным жаром вторя…
Что слава шумная, что суетный успех,
Коль с детства я умел в росинке видеть море!
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ
(Род. в 1914 г.)
{44}
«Калинов луг, Козлова засека…»
Калинов луг, Козлова за сека,
Яснополянские угодья,
Вы больше, чем обитель классика,
Вы обитаете в народе.
Дубняк, природою изваянный,
Извилины реки Воронки.
А рядом — черные развалины,
И в серых избах — похоронки.
Скорбят над новыми утратами
Деревья Старого Заказа,
Проснулся колокол, упрятанный
В дупле раскидистого вяза.
И чудится, что вышел из дому,
В рубахе длинной с подпояской,
На зорьке, как привык он издавна,
Сам старожил яснополянский.
Среди рассветного безлюдия
Идет он трактом деревенским.
Так тихо, что слышны орудия,
Орудующие под Мценском.
По вырубкам и гарям топая,
Внимает горю он и грому.
А ветерану Севастополя
Знакомо это все, знакомо.
И дом его, огню не отданный,
Еще пожаром смутно пахнет.
Но в тесной комнате «под сводами»
Простор Истории распахнут.
Объемлет горизонты бедствия
Взор мудреца и канонира.
Печаль с надеждою соседствует
На рубеже войны и мира.
Май 1943 г. Ясная Поляна
Звезда
Л. Озерову
Осенней ночью падает звезда.
В холодном небе света борозда.
Примета есть: звезды падучий свет —
Тревожный признак, чьей-то смерти след.
Примета есть. Но как поверить ей?
Мы пережили тысячи смертей.
Беззвездной ночью, в окруженье тьмы
Друзей в походе хоронили мы
И дальше шли — в снегу, в чаду, в пыли…
Ах, если б звезды скорбный счет вели
И падали под тяжестью утрат,
Какой бы разразился звездопад!
О, сколько б звезд низринулось в ночи
Над теми, что расстреляны в Керчи,
Над павшими у Вязьмы и в Орле,
Над школьницей, что умерла в петле,
Над Бабьим Яром, где в золе подряд
Мои друзья и земляки лежат,
Над теми, что от отчих мест вдали
Укрыты горсткой неродной земли,
Над теми, что в Берлине сражены
За две минуты до конца войны, —
Весь Млечный Путь в безмолвии ночном
Осыпался бы горестным дождем!
Но с высоты студеной, чуть видна,
Срывается звезда. Всего одна…
1946
«В дагестанском далеком ауле…»
В дагестанском далеком ауле
У друзей коротали мы ночь.
Облака на пороге уснули —
Видно, выше подняться невмочь.
Повлажневшие листья набрякли,
Птицы пили спросонок росу.
За открытыми окнами сакли
Где-то в бездне кипела Койсу
{45} .
Мы сидели в просторной кунацкой,
Где в коврах и кинжалах стена,
Запевая по-русски, по-лакски,
Подливая друг другу вина.
Уступая желанью хозяев
И достойно встречая восход,
Встал с бокалом Юсуп Хаппалаев,
Уроженец кумухских высот.
По дорогам, где гулкое эхо
Грохотало машине вослед,
Он из города нынче приехал
В свой аул на побывку, поэт.
Над рассветной подоблачной ширью
Стих, вдвойне нам знакомый, возник.
Зазвучали и «Парус» и «Мцыри»
В переводе на лакский язык.
Затмевая горящую лампу,
Посветлело большое окно.
Нестареющей музыкой ямба
Было все в этом доме полно,
Непривычным звучанием строчек,
Обаянием русских стихов.
Все читал и читал переводчик,
Одаряя своих земляков.
Те, что вышли дышать на терраску,
Густо хлынули в комнату вновь,
Услыхав, как бушует в кунацкой
Чья-то молодость, чья-то любовь.
И плечистый старик, что на свете
Прожил сто удивительных лет,
Произнес: — Этот Лермонтов, дети,
Самый лучший кавказский поэт!
1955
«Захотелось той зимы…»
Захотелось той зимы,
Где пурга заносит стежки,
Где тулупы да пимы,
А не куртки на подстежке.
Захотелось вдруг зимы,
Той, где лыжи, а не лужи,
Где сугробы, как холмы,
И дубы трещат от стужи.
Захотелось той зимы,
Где закат багрово тлеет,
А в наплывах полутьмы
Вздох, как облачко, белеет.
Захотелось дней зимы,
Настоящих, не сиротских,
Захотелось бахромы
Ледяной, в колючих блестках.
Захотелось той зимы,
Где на снежном перекрестке
Вверх струятся, как дымы,
Невесомые березки.
Захотелось вновь зимы,
Чистой, с хлопьями литыми,
Той зимы, где были мы
Молодыми, молодыми…
1972
ОВАНЕС ШИРАЗ
(Род. в 1914 г.)
С армянского
{46}
«На какой земле в серебре поля…»
Перевод В. Звягинцевой
«На какой земле в серебре поля,
Золотые розы в каком краю?»
И отвечу я: «То моя земля»,
Укажу я сердцем страну мою.
«В сердце чьем гвоздики раскроют вновь
Свой бессмертный цвет — лепестки любви?» —
Спросишь ты, моя лань, моя любовь.
Я скажу: «То в сердце моем — сорви».
«Что на свете может смерть победить,
Что с душою слито — не оторвать?»
Кто б ни спрашивал, буду всем твердить:
«То любовь, Любовь, повторю опять».
«Где, В каком краю, в золотой весне
Человек, что роза, цветет, скажи?»
И отвечу я: «То в моей стране.
Лишь она дарует живую жизнь»
1936
«Без устали смотрел бы я…»
Перевод Т. Спендиаровой
Без устали смотрел бы я
На твой расцвет, страна моя.
Хочу, чтоб видели, как днем,
Глаза и в сумраке ночном.
И день и ночь тобой готов
Я насыщать и взор в стих,
Моя отчизна, мать цветов, —
Цветущий сад надежд моих!
1938
Орёл и человек
Перевод Е. Николаевской
Затосковал орел над высью скал,
С небес своих спустился на утес
Взглянул на небо — вновь затосковал,
И сжалось сердце старое от слез.
«И небо тоже отнял человек,
Им завладел он, как землей внизу», —
Сказал он, и скатилась с черных век
Вдруг капля неба обратись в слезу.
«Наверно, скоро и твой час пробьет!» —
Взглянув на солнце, с болью молвил он…
А человек, пленивший небосвод,
Стремился к солнцу, мыслью окрылен.
1939
«Опускается в бездну старости мать…»
Перевод В. Тушновой
Опускается в бездну старости мать,
Уж не рвать ей по склонам банджар-траву…
А в горах зеленеет весна опять,
Одевает вершины их в синеву.
Полечу я в родное гнездо скорей,
Прилечу я в Ширак быстрей журавля,
Наберу подснежников снега белей,
Все возьму, чем богата весной земля.
Догоню весну на горном лугу
И в объятья матери принесу.
Ну, а если этого не смогу,
Ей ребенок мой принесет весну.
1 940
Голос поэта
Перевод В. Тушновой
Я — поэт. Я вечностью рожден.
Вскормлен я землей и небесами.
Звезд язык… знаком мне с детства он,
С птичьими знаком я языками.
Голубь мне садится на плечо,
Но, в любовь высокую влюбленный,
Я, всегда мечтавший горячо
Обласкать, как сына, мир зеленый,
Я, готовый плакать в три ручья
Из-за чьей-нибудь одной слезинки,
Я, не раздавивший муравья,
Я, на смерть восставший в поединке
Ради жизни, счастья и труда, —
Я кричу, как ласточка, кричу я,
Что тревожно вьется у гнезда,
Коршуна кружащего почуя…
Призываю: в сердце меч врагу!
Жизнь восславьте, зло сведя в могилу.
Смерть в уста поцеловать могу,
Но простить врагу — превыше силы!
Он хотел вселенную залить
Черной тьмой, воздвигнуть горы пепла,
Он хотел извечный свет убить,
Чтобы солнце на небе ослепло.
В сердце, превращенное в набат,
Бьет неумолкающая совесть.
Я кричу: нам гибелью грозят!
Встаньте все, к сраженью приготовясь!
Встаньте все — и Север, и Восток,
И вершины, и леса, и реки.
Смерть в уста поцеловать бы мог,
Но врагу я не прощу вовеки!
Я, не раздавивший муравья,
Я, скорбевший о цветке увядшем,
Я кричу — щадить врага нельзя,
Чтоб его не видеть детям нашим,
Чтобы, в мире уничтожив зло,
Мирно человечество цвело!
1941
Детство моих сверстников
Перевод Н. Глазкова
Лук украв у одних, у других каравай,
Мы бежали купаться к реке Арпачай
Иль бродили в горах по тропинкам лесным
И неведеньем счастливы были своим.
Мир кончался для нас за высокой горой,
Уходящее солнце влекло за собой.
Кто нам хлеба дает, кто доводит до слез,
Кто смеется, кто плачет — не знали всерьез.
Мы букеты цветов приносили с вершин,
Но не знали, в какой их поставят кувшин.
Очень мало мы знали о мире большом,
Горемыки, не знали о горе своем.
Хоть жилось нелегко нам, голодным, босым,
Мы неведеньем счастливы были своим.
1943
Песнь молодости
Перевод В. Тушновой
У меня в глазах — свет весенних дней,
Я к высотам счастья шагаю — вверх!
По камням и по скалам взбираюсь вверх,
По уступам гор подымаюсь вверх,
По обрывам, по скалам, по кручам — вверх!
Счастье дальше звезд, путь к нему непрост.
Молод я! И мой конь молодой ретив…
Я не вижу скал на своем пути,
Я не вижу гор на своем пути,
Ни камней, ни круч на своем пути.
Надо мной гроза. Блеск слепит глаза.
Кто мне даст ответ — может, смерти нет?
Я, не ведая страха, взбираюсь вверх,
Я, не веруя в гибель, взбираюсь вверх,
Я — бесстрашный, бессмертный, взбираюсь вверх!
У меня в глазах свет весенних дней,
Но чтоб мне до вершины дойти своей,
Столько скал еще надо преодолеть,
Столько круч еще надо преодолеть,
Столько бездн и подъемов преодолеть!
1945
Любовь поэта
Перевод Л. Гинзбурга
Бурливы реки весенние, безудержны реки весенние,
И, рекам весенним подобна, лира звучит светло.
Радость раскованных рек в ее вдохновенном пении.
Буйное половодье, видать, и для сердца пришло.
Эти горы до неба — источник песен поэта.
И глаза твои, что, как небо, раскрылись вдруг надо мной.
Когда ты со мной, моя песня, — как выразить чувство это? —
То, кажется, крылья орлиные чувствую за спиной.
От любви моей всколыхнулись эти весенние реки,
И песня, подобно рекам, выходит из берегов.
Тысячи сокровищ дарю я тебе навеки,
Дарю тебе, дорогая, тысячи снов-жемчугов.
Лейся ж, волнуя и радуя, вешняя песня певца!
Словно незримая радуга наши связала сердца.
1946
Песня Армении
Перевод Е. Николаевской
Не забываю звезд на небосводе,
Когда о взорах девушки пою.
Не забываю о другом народе,
Когда пою Армению мою.
Но лишь одной любви и песен мало,
Понадобится — голову отдам!
А если б снова вражья рать напала,
Я б тысячи голов срубил врагам!
Народам всем в душе найду я место,
Но в сердце сердца ты, родной народ!
В твоем же сердце, и большом и честном,
Всегда любовь к народам всем живет!
1947
Мать
Перевод В. Звягинцевой
Маленькая, кроткая моя.
Просто — мать, каких не счесть на свете.
Не сравню родную с солнцем я, —
Тихим огоньком она мне светит.
Но когда внезапно на лету
Горе тучей солнце заслоняет —
Наступающую темноту
Огонек чуть видный разгоняет.
Маленькая, кроткая моя.
Просто — мать, каких не счесть на свете,
С горстку солнца вся-то жизнь твоя,
А душе и днем и ночью светит.
1948
«Мне природа бесценное детство дала…»
Перевод В. Тушновой
Памяти моего племянника Билика
Мне природа бесценное детство дала
И назад отняла… Назад отняла…
Отняла лепестки моих глаз голубых,
Отдала синеглазым фиалкам их.
Отняла мой румянец, что роз алей,
Отдала его розам родных полей.
Отняла мою гибкость и стана красу,
Отдала их зеленым елям в лесу.
Звонкость смеха она отняла у меня,
Отдала ручейкам, что струятся, звеня.
Юность сердца взяла и весну бытия
И земле отдала… И состарился я.
Пусть бессмертное детство останется вам,
Нежным розам, фиалкам, родимым полям,
Вам — потокам и елям, шумящим во мгле,
И тебе — вечно юной, любимой земле.
Но за это всегда, с простодушьем детей,
Плачьте, пойте над тихой могилой моей!
С каждой новой весною цветя и звеня,
Приходите в мой мир, заменяя меня!
1950
«Вино — я друг веселой жизни…»
Перевод И. Снеговой
Вино — я друг веселой жизни,
Вино — спешу на торжество.
Один бокал весельем брызнет,
Но вредно больше одного!
Один хорош, не спорю,
Два — захмелеешь вскоре,
Три чарки — это к ссоре,
Четыре — всем на горе.
Всему должна быть мера, люди!
Не обижайтесь за совет,
Но и веселье в тягость будет,
Когда веселью меры нет.
1951
«Мне аромат цветка сказал…»
Перевод В. Звягинцевой
Мне аромат цветка сказал:
«Вдыхай меня, ведь я уйду».
«Спеши, — плеск ручейка сказал, —
Пей из ручья, ведь я уйду».
Но я, вздохнув слегка, сказал:
«Не вы, друзья, а я уйду…»
1952
«Мне лучше бы птицей быть…»
Перевод В. Тушновой
Мне лучше бы птицей быть,
Горою, ущельем быть,
Чем в клетке твоей любви
Невольником жалким быть.
1954
«О война! Мы навеки…»
Перевод Т. Казмичевой
О война! Мы навеки
Злые руки отрубим тебе.
Будь же мир в человеке!
Земля! Обратись в колыбель.
Только злу, чтобы вновь не ковало оков,
Не оставьте и трех волосков!
1954
«Твори, творец, и помни…»
Перевод Е. Николаевской
Твори, творец, и помни век слова от всей души:
Твой камень в стройке применен и мохом не оброс…
Но камень родины моей ты, мастер, так теши,
Чтоб даже камень произнес: «Живи, каменотес!»
1958
В. В. Такарев. Комиссар. 1966-1967
ПАВЕЛ ШУБИН
(1914–1951)
{47}
В секрете
В романовских дубленых полушубках
Лежат в снегу — не слышны, не видны.
Играют зайцы на лесных порубках.
Луна. Мороз… И словно нет войны.
Какая тишь! Уже, наверно, поздно.
Давно, должно быть, спели петухи…
А даль — чиста. А небо звездно-звездно.
И вкруг луны — зеленые круги.
И сердце помнит: было все вот так же.
Бойцы — в снегу. И в эту синеву —
Не все ль равно — Кубань иль Кандалакша? —
Их молодость им снится наяву.
Скрипят и плачут сани расписные,
Поют крещенским звоном бубенцы,
Вся — чистая, вся — звездная Россия,
Во все края — одна, во все концы…
И в эту даль, в морозы затяжные,
На волчий вой, на петушиный крик
Храпят и рвутся кони пристяжные,
И нас сечет грудастый коренник.
Прижать к себе, прикрыть полой тулупа
Ту самую, с которой — вековать,
И снежным ветром пахнущие губы
И в инее ресницы целовать.
И в час, когда доплачут, досмеются,
Договорят о счастье бубенцы,
В избу, в свою, в сосновую вернуться
И свет зажечь…
В снегу лежат бойцы.
Они еще свое не долюбили.
Но — родина, одна она, одна! —
Волнистые поляны и луна,
Леса, седые от морозной пыли,
Где волчий след метелью занесен…
Березки — словно девочки босые —
Стоят в снегу. Как сиротлив их сон!
На сотни верст кругом горит Россия.
13 декабря 1942 г.
Разъезд № 9 под ст. Неболчи
Полмига
Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить;
Прижаться к земле
И в лазури
Июльского ясного дня
Увидеть оскал амбразуры
И острые вспышки огня.
Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот,
Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!..
Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!
3 августа 1943 г.
Юго-восточнее Мги
«Утешителям не поверишь…»
Утешителям не поверишь,
А молиться ты не умеешь;
Горе горем до дна измеришь,
Не заплачешь — окаменеешь.
Злее старости, горше дыма,
Горячее пустынь горячих
Ночь и две проклубятся мимо
Глаз распахнутых и незрячих.
Все — как прежде: стена стеною,
Лампа лампою, как бывало…
Здесь ты радовалась со мною,
Молодела и горевала.
А отныне все по-иному:
День дотлеет, и год промчится,
Постоялец прибьется к дому,
Да хозяин не постучится.
24 ноября 1944 г.
МАРГАРИТА АЛИГЕР
(Род. в 1915 г.)
{48}
Человеку в пути
«Я хочу быть твоею милой…»
Я хочу быть твоею милой.
Я хочу быть твоею силой,
свежим ветром,
насущным хлебом,
над тобою летящим небом.
Если ты собьешься с дороги,
брошусь тропкой тебе под ноги, —
без оглядки иди по ней.
Если ты устанешь от жажды,
я ручьем обернусь однажды, —
подойди, наклонись, испей.
Если ты отдохнуть захочешь
посредине кромешной ночи,
все равно — в горах ли, в лесах ли, —
встану дымом над кровлей сакли,
вспыхну теплым цветком огня,
чтобы ты увидал меня.
Всем, что любо тебе на свете,
обернуться готова я.
Подойди к окну на рассвете
и во всем угадай меня.
Это я, вступив в поединок
с целым войском сухих травинок,
встала лютиком у плетня,
чтобы ты пожалел меня.
Это я обернулась птицей,
переливчатою синицей,
и пою у истока дня,
чтобы ты услыхал меня.
Это я в оборотном свисте
соловья.
Распустились листья,
в лепестках — роса.
Это — я.
Это — я.
Облака над садом…
Хорошо тебе?
Значит, рядом,
над тобою — любовь моя!
Я узнала тебя из многих,
нераздельны наши дороги,
понимаешь, мой человек?
Где б ты ни был, меня ты встретишь,
все равно ты меня заметишь
и полюбишь меня навек.
1939
«Люди мне ошибок не прощают…»
Люди мне ошибок не прощают.
Что же, я учусь держать ответ.
Легкой жизни мне не обещают
телеграммы утренних газет.
Щедрые на праздные приветы,
дни горят, как бабочки в огне.
Никакие добрые приметы
легкой жизни не пророчат мне.
Что могу я знать о легкой жизни?
Разве только из чужих стихов.
Но уж коль гулять, так хоть на тризне,
я люблю до третьих петухов.
Но летит и светится пороша,
светят огоньки издалека;
но, судьбы моей большая ноша,
все же ты, как перышко, легка.
Пусть я старше, пусть все гуще проседь, —
если я посетую, — прости, —
пусть ты все весомее, но сбросить
мне тебя труднее, чем нести.
1946–1954
На восходе солнца
Первый шорох, первый голос
первого дрозда.
Вспыхнула и откололась
поздняя звезда.
Все зарделось, задрожало…
Рассвело у нас…
А в Америке, пожалуй,
сумерки сейчас.
Но, клубясь по всей Европе,
отступает ночь…
Новый день зарю торопит, —
ждать ему невмочь!
Мы с тобой стоим у входа
завтрашнего дня.
Ощущение восхода
молодит меня.
Так на том и благодарствуй,
ранняя заря,
утреннее государство,
родина моя!
1948
Двое
Опять они поссорились в трамвае,
не сдерживаясь, не стыдясь чужих…
Но, зависти невольной не скрывая,
взволнованно глядела я на них.
Они не знают, как они счастливы.
И слава богу! Ни к чему им знать.
Подумать только! — рядом, оба живы,
и можно все исправить и понять…
1956
«Милые трагедии Шекспира!..»
Милые трагедии Шекспира!
Хроники английских королей!
Звон доспехов, ликованье пира,
мрак и солнце и разгул страстей.
Спорят благородство и коварство,
вероломство, мудрость и расчет.
И злодей захватывает царство,
и герой в сражение идет.
Эти окровавленные руки,
кубки с ядом, ржавые мечи,
это — человеческие муки,
крик души и жалоба в ночи.
Заклинанья и тоска о чуде,
спор с судьбой и беспощадный рок,
это только люди, только люди,
их существования урок.
Неужели и мои тревоги,
груз ошибок и душевных мук,
могут обратиться в монологи,
обрести высокий вечный звук?
Неужели и моя забота,
взлеты и падения в пути
могут люто взволновать кого-то,
чью-то душу потрясти?
То, что смутной музыкой звучало,
издали слышнее и видней.
Может, наши участи — начало
для грядущих хроник наших дней.
Солона вода, и хлеб твой горек,
труден путь сквозь толщу прошлых лет,
нашего величия историк,
нашего страдания поэт.
Только б ты не допустил ошибки,
полуправды или лжи,
не смешал с гримасами улыбки
и с действительностью миражи.
Человек, живой своей судьбою
ты ему сегодня помоги,
не лукавь и будь самим собою,
не обманывайся и не лги.
Не тверди без толку: ах, как просто!
Ах, какая тишь да гладь!
А уж если ты такого роста,
что тебе далеко не видать,
не мешай в событьях разобраться
сильным душам, пламенным сердцам.
Есть многое на свете, друг Горацио
{49} ,
что и не снилось вашим мудрецам.
1959
«Я все плачу — я все плачу…»
Я все плачу — я все плачу —
плачу за каждый шаг.
Но вдруг — бывает! —
я хочу пожить денек за так.
И жизнь навстречу мне идет,
подарки дарит мне,
но исподволь подводит счет,
чтоб через месяц, через год
спросить с меня вдвойне…
1959
По ком звонит колокол
Как странно томит нежаркое лето
звучаньем, плывущим со всех сторон,
как будто бы колокол грянул где-то
и над землей не смолкает звон.
Может быть, кто-то в пучине тонет?
Спасти его!
Поздно!
Уже утонул.
Колокол…
Он не звонит, а стонет,
и в стоне его океанский гул,
соль побережий и солнце Кубы,
Испании перец и бычий пот.
Он застит глаза, обжигает губы
и передышки мне не дает.
Колокол…
Мне-то какое дело?
Того и в глаза не видала я…
Но почему-то вдруг оскудела,
осиротела судьба моя.
Как в комнате, в жизни пустынней стало,
словно бы вышел один из нас.
Навеки…
Я прощаться устала.
Колокол, это в который раз?
Неумолимы твои удары,
ритмичны, рассчитанны и верны.
Уходят, уходят мои комиссары,
мои командиры с моей войны.
Уходят, уходят широким шагом,
настежь двери, рубя концы…
По-всякому им приходилось, беднягам,
но все-таки были они молодцы!
Я знаю, жизнь ненавидит пустоты
и, все разрешая сама собой,
наполнит, как пчелы пустые соты,
новым деяньем, новой судьбой.
Минут года, и вырастут дети,
окрепнут новые зеленя…
Но нет и не будет больше на свете
тех первых, тех дорогих для меня.
… В мире становится все просторней.
Время сечет вековые дубы.
Но остаются глубокие корни
таланта, работы, борьбы, судьбы.
Новых побегов я им желаю,
погожих, солнечных, ветреных дней…
Но колокол, колокол, не умолкая,
колокол стонет в душе моей.
1961
«Несчетный счет минувших дней…»
Несчетный счет минувших дней
неужто не оплачен?
…Мы были во сто крат бедней
и во сто крат богаче.
Мы были молоды, горды,
взыскательны и строги.
И не было такой беды,
чтоб нас свернуть с дороги.
И не было такой войны,
чтоб мы не победили.
И нет теперь такой вины,
чтоб нам не предъявили.
Уж раз мы выжили.
Ну, что ж!
Судите, виноваты!
Все наше:
истина и ложь, победы и утраты,
и стыд, и горечь, и почет,
и мрак, и свет из мрака.
…Вся жизнь моя — мой вечный счет,
с лихвой, без скидок и без льгот,
на круг, — назад и наперед, —
оплачен и оплакан.
1967
«Прошу тебя, хоть снись почаще мне…»
Прошу тебя,
хоть снись почаще мне.
Так весело становится во сне,
так славно,
словно не было и нет
нагроможденных друг на друга лет,
нагроможденных друг на друга бед,
с которых нам открылись рубежи
земли и неба,
истины и лжи,
и круча, над которой на дыбы,
как кони, взвились наши две судьбы,
и ты,
не оглянувшись на меня,
не осадил рванувшего коня.
1967
«Я вижу в окно человека…»
С. Ермолинскому
Я вижу в окно человека,
который идет не спеша
по склону двадцатого века,
сухую листву вороша.
Куда он несет свою душу,
ее не скудеющий свет?
Но я его путь не нарушу.
Я молча гляжу ему вслед.
Но я не вспугну его криком.
Пускай он пройдет навсегда,
великий,
в покое великом.
Мне только понять бы — куда?
1969
ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ
(Род. в 1915 г.)
{50}
Украине моей
Украина, Украина, Укра ина,
Дорогая моя!
Ты разграблена, ты украдена,
Не слыхать соловья.
Я увидел тебя распятою
На немецком штыке
И прошел равниной покатою,
Как слеза по щеке.
В торбе путника столько горести
Нелегко пронести.
Даже землю озябшей горстью я
Забирал по пути.
И леса твои, и поля твои —
Все забрал бы с собой!
Я бодрил себя смертной клятвою —
Снова вырваться в бой.
Ты лечила мне раны ласково,
Укрывала, когда,
Гусеничною сталью лязгая,
Подступала беда.
Все ж я вырвался, вышел с запада
К нашим, к штабу полка,
Весь пропитанный легким запахом
Твоего молока.
Жди теперь моего возвращения,
Бей в затылок врага.
Сила ярости, сила мщения,
Как любовь, дорога.
Наша армия скоро ринется
В свой обратный маршрут.
Вижу — конница входит в Винницу,
В Киев танки идут,
Мчатся лавою под Полтавою
Громы наших атак.
Наше дело святое, правое.
Будет так. Будет так.
1941
Регулировщица
На перекресток из-за рощицы
Колонна выползет большая.
Мадонна и регулировщица
Стоят, друг другу не мешая.
Шофер грузовика тяжелого,
Не спавший пять ночей, быть может,
Усталую поднимет голову
И руку к козырьку приложит.
И вдруг навек ему запомнится,
Как сон, как взмах флажка короткий,
Автодорожная законница
С кудряшками из-под пилотки.
И, затаив тоску заветную,
Не женщине каменнолицей —
Той загорелой, той обветренной,
Наверно, будет он молиться.
1944
Родина слышит
Родина слышит,
Родина знает,
Где в облаках ее сын пролетает.
С дружеской лаской, нежной любовью
Алыми звездами башен московских,
Башен кремлевских
Смотрит она за тобою.
Родина слышит,
Родина знает,
Как нелегко ее сын побеждает,
Но не сдается, правый и смелый!
Всею судьбой своей ты утверждаешь,
Ты защищаешь
Мира великое дело.
Родина слышит,
Родина знает,
Что ее сын на дороге встречает,
Как ты сквозь тучи путь пробиваешь.
Сколько бы черная буря ни злилась,
Что б ни случилось,
Будь непреклонным, товарищ!
1950
«Загадочная русская душа…»
Загадочная русская душа…
Она, предмет восторгов и проклятий,
Бывает кулака мужского сжатей,
Бетонные препятствия круша.
А то вдруг станет тоньше лепестка,
Прозрачнее осенней паутины.
А то летит, как в первый день путины
Отчаянная горная река.
Загадочная русская душа…
О ней за морем пишутся трактаты,
Неистовствуют киноаппараты,
За хвост комету ухватить спеша.
Напрасный труд! Пора бы знать давно:
Один Иванушка за хвост жар-птицы
Сумел в народной сказке ухватиться.
А вам с ним не тягаться все равно.
Загадочная русская душа…
Сложна, как смена красок при рассветах.
Усилья институтов и разведок
Ее понять — не стоят ни гроша.
Где воедино запад и восток
И где их разделенье и слиянье?
Где северное сходится сиянье
И солнечный энергии исток?
Загадочная русская душа…
Коль вы друзья, скажу вам по секрету:
Вся тайна в том, что тайны вовсе нету,
Открытостью она и хороша.
Тот, кто возвел неискренность и ложь
В ранг добродетелей, понять бессилен,
Что прямота всегда мудрей извилин.
Где нет замков — ключей не подберешь.
И для блуждающих во мгле закатной,
Опавших листьев золотом шурша,
Пусть навсегда останется загадкой
Рассвет в апреле —
Русская душа!
1963
Колючие
Всегда в порядке, добрые,
Приятные, удобные,
Они со всеми ладят
И жизнь вдоль шерстки гладят.
Их заповедь — смирение,
Их речи — повторение.
Сияние улыбок,
Признание ошибок…
А я люблю неистовых,
Непримиримых, искренних,
Упрямых, невезучих,
Из племени колючих.
Их мучают сомнения
И собственные мнения,
Но сердце их в ответе
За все, что есть на свете.
Не берегут колючие
Свое благополучие,
И сами лезут в схватку,
И режут правду-матку.
А если ошибаются,
Больнее ушибаются,
Чем тот, кто был корыстен
В опроверженье истин.
Не у природы ль учатся
Они своей колючести?
Ведь там, где нежность скрыта,
Есть из шипов защита.
1963
Кавалерия мчится
Слышу дальний галоп:
В пыль дорог ударяют копытца…
Время! Плеч не сгибай и покою меня не учи.
Кавалерия мчится,
Кавалерия мчится,
Кавалерия мчится в ночи.
Скачут черные кони,
Скачут черные кони,
Пролетают заслоны огня.
Всадник в бурке квадратной,
Во втором эскадроне,
До чего же похож на меня!
Перестань сочинять! Кавалерии нету,
Конник в танковой ходит броне,
А коней отписали кинокомитету,
Чтоб снимать боевик о войне!
Командиры на пенсии или в могиле,
Запевалы погибли в бою.
Нет! Со мной они рядом, такие, как были,
И по-прежнему в конном строю.
Самокрутка пыхнет, освещая усталые лица,
И опять, и опять
Кавалерия мчится,
Кавалерия мчится,
Никогда не устанет скакать.
Пусть ракетами с ядерной боеголовкой
Бредит враг… Но в мучительном сне
Видит всадника с шашкой,
С трехлинейной винтовкой,
Комиссара в холодном пенсне,
Разъяренного пахаря в дымной папахе,
Со звездою на лбу кузнеца.
Перед ними в бессильном он мечется страхе,
Ощутив неизбежность конца.
Как лозу порубав наши распри и споры,
Из манежа — в леса и поля,
Натянулись поводья, вонзаются шпоры,
Крепко держат коня шенкеля,
Чернокрылая бурка, гривастая птица,
Лязг оружия, топот копыт.
Кавалерия мчится,
Кавалерия мчится,
Или сердце так сильно стучит…
1965
ТЛЕУБЕРГЕН ЖУМАМУРАТОВ
(Род. в 1915 г.)
С каракалпакского
{51}
Ладонь
Перевод Г. Юнакова
Друг друга тесня, беспорядочным роем
Мне в голову ломятся тысячи тем.
Не в силах связать их, желая покоя,
Я бросил перо, безутешен и нем.
Прилег отдохнуть, но и ночью не спится
От пестрого хаоса зрелых идей.
Идут предо мной земляки
«Зовешься поэтом — себя не жалей!»
На свете разбросаны разные страны:
Одни — расцветают, другие — во мгле,
Есть реки, озера, моря, океаны,
Хватает и гор и равнин на земле.
Везде побывал человек-непоседа,
Достиг он и неба, и края земли,
Нет тем, о которых бы стих не поведал,
В дастаны и песни все думы вошли.
Скопируешь — в музыке толку не будет,
Уж если играть — вдохновенно, до мук,
Напишешь фальшиво — читатель осудит
И рукопись ляжет недвижно в сундук.
В сундук не пишите, поэты-чистюли,
Народ не приемлет стихи из сырца.
Жемчужины слов — бронебойные пули,
Они поражают умы и сердца.
…………………..
Поддаться легко трескотне, дешевизне,
Гранение слова дается не всем, —
Ведь каждый побег расцветающей жизни —
Богатый родник поэтических тем.
Капкан бесполезен у окон жилища…
Ладонь у меня под щекою лежит…
Художник взыскательный темы не ищет:
Как зверь на ловца, чародейка бежит.
Науки и знанья ладонь породила.
Хозяин земли — человек-исполин.
Ладонь — это нежность, ладонь — это сила,
Ладонь со стихией — один на один.
Проносится спутник земли дерзновенно —
Ладонью зажжен его мощный огонь.
Достиг человек океана Вселенной —
Творец этой были все та же ладонь.
Волна не рождается в тихом затоне,
Творит, созидает — великий накал.
И атомный лайнер возник из ладони,
Ладонь — это наше начало начал.
Ладонь оживляет скупые пустыни,
Ладонь — это наши жилища и труд.
Земные богатства, что созданы ныне,
От нашей ладони начало берут.
Младенцев качаем ладонями все мы,
Когда оставляют они нас без сна.
Поэт, если ты не нащупаешь темы,
Смотри на ладонь, не обманет она.
Сонеты
Перевод Г. Ярославцева
1
Луне и звездам — дум не отогнать.
Лежу, часами не сомкнув ресницы.
День наступает светлый, и опять
За мыслью мысль проходит вереницей.
Отзывчивые, добрые сердца
Ясны мне, словно солнце в день погожий;
Весь мир познать желая до конца,
Всезнайство почитают сущей ложью.
Я по Вселенной мысленно плыву,
До Марса добираюсь и Венеры…
Фантазия моя не знает меры.
Мне снится то, чем грежу наяву.
Мечта подобна мощным крыльям птицы,
Весь мир на этих крыльях поместится!
2
Коль огласится воздух львиным рыком —
Переполох средь хищного зверья,
Медведь и волк в смущении великом…
А лев, увы, боится муравья!
Кто повредит слону, его здоровью,
Коль дерево с корнями вырвет он?!
Но если мышь куснет стопу слоновью,
То по земле кататься станет слон!
Рабы, объединившись, сдвинув плечи,
Низвергнут с трона грозного царя…
Не тот могуч, кто мучил да калечил,
А тот, кто прожил жизнь, добро творя.
Ведь даже черви жалкие — и те
Порой страшат. А сила — в доброте!
3
— Тлеуберген, ты был такой пригожий!
Что ж ныне сталось? — Выцвел, полинял.
Чтоб седину весь мир увидел божий,
С меня шутник и шапку снял — нахал!..
Ну что ж! Цветы весенние — как пламя.
А в осень — красок им не сохранить.
Не вечна красота. Поймите сами,
В том некого и некому винить.
Судьба цветка — не длинная дорога.
Расцвел, созрел, увял… А смысл в одном:
Поникнув, он семян оставит много,
И по весне — опять цветы кругом.
Былую красоту, что тронул иней,
Вновь обретаю в дочери и в сыне.
ЗУЛЬФИЯ
(Род. в 1915 г.)
С узбекского
{52}
Здесь родилась я
Перевод В. Державина
Здесь родилась я. Вот он, домик наш,
Супа
{53} под яблонею земляная,
На огороде низенький шалаш,
Куда я в детстве пряталась от зноя.
В садах зеленых — улочек клубок;
Гранат в цвету над пыльною дорогой,
И в свежей сени рощи арычок —
Осколок зеркальца луны двурогой.
Заоблачные выси снежных гор,
Сожженные свирепым солнцем степи,
Пустынь песчаных огненный простор —
Для глаз моих полны великолепья, —
Затем, что здесь явилась я на свет,
Навстречу жизни здесь глаза открыла,
И здесь, не зная горя с детских лет,
Свободу я и счастье ощутила;
Затем, что здесь, ручьев весны звончей,
Любовь во мне впервые зазвучала,
Что здесь я, в тишине живых ночей,
Весенним водам тайну поверяла.
Когда в садах звенели соловьи
И — им в ответ смеясь — цвели сунбули
{54} , —
Ведь с ними песни родились мои
И, оперившись крыльями взмахнули.
И — лучшие из всех рожденных мной —
Напевы посвятила я отчизне.
Ведь счастье живо лишь в стране родной,
А без нее горька услада жизни.
Вот почему мне родина милей,
Чем свет, дороже, чем зеница глаза,
Любовь к ней говорит в крови моей,
Напевом отзываясь в струнах саза.
И, верою незыблемой полна
В победу нашу, саз беру я в руки.
Тебе, о мать, тебе, моя страна,
Стихов, из сердца вырвавшихся, звуки!
1942
Капля
Перевод С. Липкина
Тебе сегодня пятьдесят, мой друг,
Ты далеко сейчас, но тем заметней,
Что солнцу тоже пятьдесят, что луг
Покрыт травой пятидесятилетней.
Перу, бумаге тоже пятьдесят,
И жизнь такая в строчках загорелась,
Что листья дышат и дожди шумят,
А грусть и радость обретают зрелость.
Арабы нам сказали всех ясней, —
Они слывут недаром мудрецами, —
Что расстояний в мире нет длинней,
Чем расстояние между сердцами.
Но если расстоянье велико, —
Мне мысль арабов кажется бесспорной, —
От сердца к сердцу, что не так легко,
Я мост прокладываю стихотворный!
Я тайно не приду. Я не войду
В твой дом, в твою судьбу, подобно клину.
Я не накличу на тебя беду
И то, что ты воздвиг, не опрокину.
Но в день, когда придут и друг и враг, —
Как свет, как первое стихотворенье,
Как сказка появлюсь, раздвинув мрак,
Твое смятенье и твое горенье!
Мне, капле, что почет и не почет?
Для капли место — на листе и в чаше.
Тебя восторг веселья увлечет —
За тостом тост, один другого краше.
Но вдруг поставишь ты пустой бокал,
Окинешь всех отсутствующим взглядом,
Как бы чего-то, что всегда искал,
Недостает, а быть могло бы рядом.
Исчезнет все, чем жизнь была пьяна.
Себя почувствуешь ты одиноким.
Протянешь руку, чтоб испить вина,
Но не зажжешься пламенем высоким.
Измучает тебя тоска твоя,
Она тебя иссушит, отрезвляя.
Подобная слезинке соловья,
На дне бокала капелька живая!
Пусть эта капля горяча, светла,
Она огня хмельного не дарует,
Но без огня испепелит дотла,
А наслаждением не очарует.
Кто эта капля? Воспаленных глаз
Слеза, от мира скрытая вначале?
Мечта, что слабой искоркой зажглась,
Когда воспоминанья зазвучали?
Иль то любви пугливой, робкой дар,
Давно забытый и оживший снова?
Иль сердца женского желанный жар,
Коснувшийся дыханья ледяного?
Что б ни было, но эта капля — я.
Я, я сама. И ты себя не мучай,
Ты берегись, прозрачного питья
Не пей — нет счастья в этой капле жгучей.
1961
Раздумия
Перевод С. Липкина
То ли, торопясь, меня торопит
Прожитых годов нелегкий опыт?
То ли пройденных дорог наказ
Слышу каждый день и каждый час?
То ли жизнь настойчиво, как мать, —
Та, которую хочу понять, —
Говорит мне: «Счастья ты просила —
Так ищи его, ищи всегда!»
То ли в сердце иссякает сила,
Будто в тихом родничке вода:
Никого не напоив как следует,
Высохла, — никто о ней не ведает?
Но приказ: «Трудись!» — во всем мне слышится.
Оттого-то мне так жадно пишется!
Я упорно буду рыть иглою
Землю, а живой родник открою!
Если я увижу, что не светится
Пламя счастья в сердце у меня,
Вспыхну я сама — и всем, кто встретится,
Буду я источником огня!
Отниму могущество у слова,
У не угасающей звезды,
У горы, у гордой той гряды,
Что, как мой отец, седоголова,
У речной стремительной воды,
Что блестит, трепещет каплей каждою…
Я томлюсь такой же светлой жаждою,
Как пустыня, ждущая канала.
Кажется: такую мощь познала,
Что поднять легко мне шар земной.
О чудесном космосе наука
Породнила так меня с Луной,
Что Луну, как внучку или внука,
Будто мне планеты — дом родной,
Я возьму да посажу на плечи!
Дорог сердцу голос человечий,
Я беру слова у всех людей —
Капельки сливаются в ручей
И становятся судьбой народной.
Из ручья я пью и отдаю
Каждому по капле жизнь мою,
Чтобы не была земля бесплодной,
Вольно дышится, когда пою,
Жадно пишется в родном краю!
То парю я над страной, как птица,
То свой мед коплю я, как пчела.
И покуда сердце будет биться,
Для людей готова я трудиться,
И не скажет сердце:
«Жизнь прошла…»
1965
Не отнимайте у меня пера!
Перевод С. Липкина
«Когда-нибудь у вас я украду
Перо».
Вы мне сказали это в шутку,
Но в шутке вашей слышу я беду,
Грозящую и сердцу и рассудку.
Не отнимайте у меня пера,
Не делайте меня глухонемою!
Другого много у меня добра,
Возьмите все, свой выкуп я утрою, —
Не отнимайте у меня пера!
Я не Хафиз
{55} , и я дарить не буду
Вам города!
Поэзию мою
И пламень сердца вам я отдаю,
Чтобы для вас он запылал повсюду.
Как любящая, верная сестра,
Я посвящу вам ночи и утра,
Исполнить вашу волю я готова,
Но только мне мое оставьте слово,
Не отнимайте у меня пера!
Не хватит хлопка вам? Я хлопком стану.
Зерна не хватит? Стану я зерном.
Болеть начнете? Исцелю я рану.
Настанет праздник? Разольюсь вином.
Я воспою ваш путь нелегкий, правый,
Я расскажу, как ваша мысль остра,
Я стану летописцем вашей славы,
Я опишу ваш подвиг величавый, —
Не отнимайте у меня пера!
Мое служенье вам — стихосложенье.
Перед родным народом я в долгу, —
Так дети пусть продлят мое служенье,
Когда перо держать я не смогу.
Я счастьем насладилась небывалым, —
Я присягнула детям и перу.
Когда без них останусь — я умру,
Мое лицо закройте покрывалом,
Но если вы хотите мне добра, —
Не отнимайте у меня пера!
1968
Напрасно прожитые мгновенья давят…
Перевод Ю. Нейман
На небесах, на суше, в океане —
Повсюду жизнь… Шумит ее родник.
И, совершая нужное деянье,
Мы сами украшаем каждый миг.
А день, который бесполезно прожит,
В ночной тиши нас тяготит и гложет.
Ну, что ж, пусть гложет!.. Выдержим и это!
Без недовольства ведь и жизни нет.
Не будет мрака — не оценим света,
Не обойтись без горестей и бед…
Лишь пустота — смертельна для поэта!
1974
Годы, годы…
Перевод И. Лиснянской
Вот и осень моя убывает.
Зимний холод сжигает меня.
Я не знала, что холод бывает
Ненасытней любого огня.
В дни, когда моя жизнь пламенела,
Разве знала подобную боль?
Белый иней ложится на тело,
Как на рану открытую соль.
Я с холодной зимой в поединке,
Плачу, слезы мои не текут, —
Превращаются в острые льдинки
И лицо постаревшее жгут.
Годы, годы… И я содрогаюсь,
Как побитая градом листва.
Неужели я с жизнью прощаюсь
И душа моя тлеет едва?
Или все мне приснилось в больнице,
И цветут за окошком сады,
И со мной никогда не случится
Этой самой последней беды?
Ах, больничная белая койка,
И озноб, и тоска… Все равно,
Хоть и сердце не камень, а стойко
Эту боль перетерпит оно.
1974
ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ
(1915–1977)
{56}
«Все обо всем. О мировой судьбе…»
Все обо всем. О мировой судьбе.
О будущем. Да с пышным караваем.
А что мы знаем сами о себе?
Себя мы от самих себя скрываем.
Как смею жить, не разорвав кольца,
С не усыпленной совестью и с жаждой?…
Сказать хотя б себе, но до конца,
Чтоб, вздрогнув, о себе подумал каждый.
«Песок остылый, бледный…»
Песок остылый, бледный, с пятнами следа.
Плывущая широко рдяная вода.
Сердца листвы кувшинок с золотым окном.
Туман зари с береговым огнем.
Стога, как хаты, крытые соломой, —
По пояс в белом. Конь соловый —
По брюхо в рогозе, стоит, не ест.
Лоза обвисла от росы. С метлою шест.
Леса — как вкопанные, с дымом, с голосами —
Перед глазами всё, перед глазами.
Pix чую, чую, чую как людей я,
Не без причин вздыхатель, не пострел…
Никто не видит, как я молодею.
Все замечают, как я постарел.
Вечереет
В колючках, в вербах выгона лоскут,
С речушкою, с утятами, с грачами,
Где комары да мошки мак толкут,
Косыми освещенные лучами.
Подсолнух заслонил калитку в сад,
И малыши его столпились около.
Порозовели стены белых хат,
И розовым отсвечивают стекла.
Перед зеленым омутом окна
Поблескивает темень спелых вишен.
На всем заря невидная видна.
Всему ее неслышный голос слышен.
Былое ль перед будущим в долгу?
Тоска ль без слез? Любовь ли без ответа?…
Костер бездымный светел на лугу,
Как половина солнца с краю света.
С небес
Люблю —
И боль моя, и жизнь моя полна.
И я смотрю с небес на все земное.
Люблю —
И след твой чистый, как луна.
И тень моя не гонится за мною.
Как медлит реактивный, накренясь,
Как долго блики на крыле меняет.
Как мелко все, что нас разъединяет.
Как крупно все, что породнило нас.
А море из глубин мерцает дном.
А горы с высоты дробнее кочек.
А звезды загораются и днем.
А солнце светит на земле и ночью.
Прости
Тоне
Не жизнь прожить, а поле перейти…
Но поле, поле, отчего ж так мало
Жизнь в годы бедствий сердце понимало?
И ты меня за все, за все прости,
Судьба моя, несладкая отрада,
Единственный тревожный мой покой.
Но никакой другой мне и не надо,
И нет другой на свете никакой.
С неведеньем большого ожиданья,
С не праздничностью позднего свиданья,
Прости, что не таким, как ожидала, —
Таким, как есть, меня ты увидала.
Что в горе ты не опустила руки
И голову в беде не уронила.
Что жили от разлуки до разлуки,
Что сына без меня ты хоронила.
И те, как кровь и как заря, цветы,
Что принесла на свежий холмик ты.
И все в глазенках черных наяву
Я утреннюю вижу синеву.
Прости — и сны мне новые навей.
Я теми — помнишь? — сколько лет живу,
Прости — что меньше знаю сыновей,
Что часто ревновал тебя, родную,
И что теперь — все реже я ревную,
Все чаще матерью тебя зову.
За скрытность скорби и невидность слез,
За то,
Что столько сил твоих унес,
Что надо было поле перейти,
Где столько павших,
Жизни не узнавших,
И что другого не было пути
У нас,
Так долго, трудно отступавших,
Но победивших все-таки…
Прости.
А думал я…
Матери моей Екатерине
Ивановне Ковалевой (Худояровой)
А думал я,
Что как увижу мать —
Так упаду к ногам ее.
Но вот,
Где жгла роса,
В ботве стою опять.
Вязанку хвороста межой она несет.
Такая старая, невзрачная на вид,
Меня еще не замечая, вслух,
Сама с собой о чем-то говорит.
Окликнуть?
Нет, так испугаю вдруг.
…Но вот… сама заметила…
Уже,
Забыв и ношу бросить на меже,
Не видя ничего перед собой,
Летит ко мне:
— Ах, боже, гость какой!
А я,
Как сердце чуяло,
В лесу
Еще с утра спешила все домой…
— Давай, мамуся, хворост понесу. —
И мать заплакала, шепча:
— Сыночек мой! —
С охапкой невесомою в руках,
Близ почерневших пятнами бобов,
Расспрашиваю я о пустяках:
— Есть ли орехи?
Много ли грибов? —
А думал
Там,
В пристреленных снегах,
Что, если жив останусь и приду, —
Слез не стыдясь,
При людях,
На виду,
На улице пред нею упаду.
Учимся
Белы от инея, как выбелены мелом мы.
Всю ночь телами греем валуны.
Какими оказались неумелыми
В начале не игрушечной войны.
Не наступать, а каждый шаг отстаивать,
И не на их, а на своих снегах.
Своим теплом на сопках лед оттаивать.
Носить свой сон по суткам на ногах.
Пока вооружимся и научимся —
И все припомним им на их полях, —
О, сколько мы натерпимся, намучимся,
И скольким лечь на подступах, в боях.
Б.Н. Яковлев. Транспорт налаживается. 1923
АРОН КОПШТЕЙН
(1915–1940)
{57}
Поэты
Я не любил до армии гармони,
Ее пивной простуженный регистр,
Как будто давят грубые ладони
Махорочные блестки желтых искр.
Теперь мы перемалываем душу,
Мечтаем о театре и кино,
Поем в строю вполголоса «Катюшу»
(На фронте громко петь воспрещено).
Да, каждый стал расчетливым и горьким:
Встречаемся мы редко, второпях,
И спорим о портянках и махорке,
Как прежде о лирических стихах.
Но дружбы, может быть, другой не надо,
Чем эта, возникавшая в пургу,
Когда усталый Николай Отрада
Читал мне Пастернака на бегу.
Дорога шла в навалах диабаза
{58} ,
И в маскхалатах мы сливались с ней,
И путано-восторженные фразы
Восторженней звучали и ясней!
Дорога шла почти как поединок,
И в схватке белых сумерек и тьмы
Мы проходили тысячи тропинок,
Но мирозданья не топтали мы.
Что ранее мы видели в природе?
Степное счастье оренбургских нив,
Днепровское похмелье плодородья
И волжский не лукавящий разлив.
Не ливнем, не метелью, не пожаром
(Такой ее мы увидали тут) —
Она была для нас Тверским бульваром,
Зеленою дорогой в институт.
Но в январе сорокового года
Пошли мы, добровольцы, на войну,
В суровую финляндскую природу,
В чужую, незнакомую страну.
Нет, и сейчас я не люблю гармони
Визгливую, надорванную грусть.
Я тем горжусь, что в лыжном эскадроне
Я Пушкина читаю наизусть,
Что я изведал напряженье страсти,
И если я, быть может, до сих пор
Любил стихи, как дети любят сласти, —
Люблю их, как водитель свой мотор.
Он барахлит, с ним не находишь сладу,
Измучаешься, выбьешься из сил,
Он три часа не слушается кряду —
И вдруг забормотал, заговорил,
И ровное его сердцебиенье,
Уверенный, неторопливый шум,
Напомнит мне мое стихотворенье,
Которое еще я напишу.
И если я домой вернуся целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько высплюсь первым делом,
Потом опять пойду на фронт любой.
Я стану злым, расчетливым и зорким,
Как на посту (по-штатски — «на часах»),
И, как о хлебе, соли и махорке,
Мы снова будем спорить о стихах.
Бьют батареи. Вспыхнули зарницы.
А над землянкой медленный дымок.
«И вечный бой. Покой нам только снится…»
Так Блок сказал. Так я сказать бы мог.
1940
МАРО МАРКАРЯН
(Род. в 1915 г.)
С армянского
{59}
Богатство
Перевод А. Ахматовой
Родина и сын — милее жизни,
Нет богатства для меня ценней.
Юношам что делать без отчизны?
Родина мертва без сыновей.
Родина и сын — моя отрада.
Только ими жизнь моя полна,
И других сокровищ мне не надо,
Только с ними вечная весна.
Всех сокровищ мне они дороже.
Умереть за вас готова я —
Мой сынок, веселый и пригожий,
И бесценной родины края.
1950
Снег идет
Перевод М. Петровых
Идет снежок спокойный, чистый,
Как детский сон, и свеж и тих.
Мгновенной звездочкой искристой
Порой коснется рук моих.
Но вот пошел он гуще, гуще,
Всю землю в белое одел,
Необозримый, вездесущий, —
Не знаешь, где ему предел.
И ведь ни шороха, ни звука.
Но снег, летящий в тишине,
Полям, лугам, лесам порука,
Что пробудятся по весне.
Тишайший на земле в ответе
За шелест лепестков и трав,
За шум колосьев на рассвете,
За густолистый гул дубрав.
А сам беззвучен, бессловесен.
Таков он всюду и всегда.
Земле на благо отдан весь он
И молча тает без следа.
1952
Персиковое деревцо
Перевод А. Ахматовой
Ты расцветаешь, персик мой,
Подросток, девушка-дичок…
Кто ластится к тебе, кто льнет?
То легкий горный ветерок.
А ты смущаешься, дрожишь,
Любви боишься первых слов,
И обаяние твое —
Беззвучный и безмолвный зов.
Но на себя ты не глядишь,
И потому не знаешь ты,
Что в юной прелести своей
Ты совершенство красоты.
С тревогой на тебя смотрю.
Вздыхая и грустя тайком.
Как ты напоминаешь мне
О чем-то самом дорогом!
1953
В родном краю
Перевод А. Ахматовой
Где тополя стоят, как стражи,
И низко-низко над сухой
Землею пшатовый кустарник
Колючей тянется каймой,
Где, в солнечных лучах рыжея,
На крыше тыквы в ряд лежат,
В листве зеленой грозди пряча,
Льнет долу спелый виноград,
Где, если все окину взором,
Иль просто погулять пойду,
Иль даже выгляну в окошко,
Мне кажется, что я в саду,
И солнце настигает всюду,
Томит луга недвижный зной,
Но вдруг по листьям шелковицы
Промчится ветер озорной…
Там, где звенит в тени оливы
Ручей, рожденный горным льдом,
Там неприметный, молчаливый,
Мой дом родной, мой милый дом.
И если я, живя далеко,
Его забуду, не ценя,
Вы от меня не ждите проку,
Добра не ждите от меня!
1954
«Ты мир наполнил до краев…»
Перевод В. Потаповой
Ты мир наполнил до краев
Дыханьем, звоном, светом,
А я нашла так мало слов,
Чтоб написать об этом.
Меня за песню похвалил
Сегодня ты напрасно:
Чья песня, кто ее сложил, —
Тебе должно быть ясно!
1954
«Любви несказанное слово…»
Перевод Б. Слуцкого
Любви неска занное слово,
Стиха ненайденные строки
Мне не дают покоя снова —
Ни отдыха, ни сна, ни срока.
Не проросли доныне зерна,
Доныне их душа скрывает,
И родина печальным взором
Меня безмолвно укоряет.
И голос самонедовольства
Без отдыха, без ослабленья
Звучит во мне и обличает
Мои неполные свершенья.
1955
Чужая весна
Перевод М. Петровых
Помедли, весна, чужая весна…
Давно ль ты была моею весною!
Недолго же ты была мне верна, —
Едва разгорясь, рассталась со мною.
Как светел твой день, кротка тишина!
С тобою душа светлее, добрее.
Помедли, весна, чужая весна,
Отрадой чужой я сердце согрею.
1956
«Луч на камень лег, пылая…»
Перевод В. Звягинцевой
Луч на камень лег, пылая.
Радостно Гореть ему.
Для кого лучом была я?
Радоваться мне чему?
Лаской зимнего рассвета
Разогнало
Ночи тьму.
Чье же сердце мной согрето?
Радоваться мне чему?
1956
«Жернов старой, заброшенной мельницы…»
Перевод Б. Слуцкого
Жернов старой, заброшенной мельницы,
Где давно ничего не мелется,
Где давно не струится вода…
Все равно! Монументом труда
Ты останешься навсегда,
Жернов старой, заброшенной мельницы.
О спасавший голодных от голода!
Столько зерен в муку перемолото —
Шумно, весело и горячо,
Что доныне
Могуче и молодо
Твое каменное плечо.
Твоему боевому обличью,
Твоему трудовому величью,
Не сдающемуся временам,
Позавидовать следует нам.
1956
«Говорят, что с тобою должна я играть…»
Перевод А. Ахматовой
Говорят, что с тобою должна я играть и лукавить,
Но, завидев тебя, я теряю рассудка следы.
Умирая от жажды, не в силах я губы заставить
Хоть на миг окунуться в прозрачные струи воды.
Но я рада теперь, что не верила низким советам, —
Не хитрила с тобой, чтоб услышать желанный ответ.
Как бы ни было больно, жалеть я не стану об этом, —
Иногда пораженья бывают достойней побед.
1956
«От своих тревог и тайной боли…»
Перевод А. Ахматовой
От своих тревог и тайной боли
Ты не уделил мне ничего,
Не доверил и малейшей доли
Скрытого страданья своего.
Краткими отделался словами,
Холодно-учтив был в этот день,
И легла навеки между нами
Отчужденья тягостная тень.
Я не домогаюсь, не неволю,
Но грущу, что жизнь моя пройдет
Непричастна и к малейшей доле
Мук твоих, печалей и забот.
1957
«Написал строчку честную…»
Перевод А. Яшина
Написал строчку честную —
Не пропадет даром.
Зорьку раннюю встретил песнею —
Не пройдет даром.
Горсть семян раскидал по отрогам —
Урожаем взметнется.
Камень сбросил с горной дороги —
И это зачтется.
Слово доброе молвил людям —
Правда полюбится.
Ничего забыто не будет,
Все окупится.
1958
«Дуб от ветвей до корневищ…»
Перевод Л. Мартынова
Дуб от ветвей до корневищ
Весь искорежен молний бивнями,
Утесы, вырванные ливнями
Из циклопических жилищ, —
Руины величавые,
Согбенные под тяжестью
Времен былых,
Своею мертвой славою
Овеяли живых.
1958
«И в этом мире…»
Перевод Д. Самойлова
И в этом мире,
Где нам должно жить,
Столь прихотливо изменяясь,
Бумага хрупкая должна хранить
Горенье сердца,
Не воспламеняясь.
«На легком воздухе блестя…»
Перевод Д. Самойлова
На легком воздухе блестя,
Не гасли в нем
И не тонули
Любови;
Где-то далеко
Вскричало малое дитя,
И все деревья на заре
В цветенье с шорохом вспорхнули.
«Темнеет полоса багряного заката…»
Перевод М. Петровых
Темнеет полоса багряного заката,
Устала солнечная доброта,
Стряхнула осень свой убор богатый,
И роща загрустившая пуста.
А листья на лету
Беспомощно кружа тся,
Взмывают в высоту
И на землю ложатся.
Боренье с ветром злым
Их стаю уничтожит;
Едва-едва живым,
Никто им не поможет.
«…Все, как есть, остаться должно…»
Перевод С. Кузнецовой
…Все, как есть, остаться должно,
Чередом идти суждено
По дороге, однажды данной,
Со своей биографией странной,
С новизною самообманной.
Но весь белый свет начинается
Твоим именем,
Все на белом свете кончается
Твоим именем.
«Началось с огня…»
Перевод М. Петровых
Началось с огня.
Ты не знала дня,
Чтоб не полыхал
Яростный пожар.
Он с тобой возник
И не затихал
Ни на миг.
«Каких-то дней иных…»
Перевод Д. Самойлова
Каких-то дней иных
Есть в воздухе сиянье,
Ненайденных миров
Незримые
Штрихи,
Обрывки песен,
Слов,
Похожих на стихи…
И красок полыханье,
И красок полыханье,
Крылатых,
Солнечных, летящих,
Что полны
Полдневного дыханья.
МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ
(Род. в 1915 г.)
{60}
Мальчикам
Пусть достанутся мальчикам самые лучшие книги, —
Описания неба, строений и горных пород.
Трудовых инструментов — от камня до первой мотыги,
Незнакомых народов и климатов разных широт.
Мы об этом и сами когда-то ревниво мечтали, —
Пусть на стол им положат усталых моторов сердца,
Механизмы часов и машин потайные детали,
И они их сломают, но смогут узнать до конца.
Дважды два — не четыре, и дважды четыре — не восемь.
Мир еще не устроен, как это ему надлежит.
Бьют железом о камень. И воздух предгрозья несносен,
И война как чума по Европе еще пробежит.
Пусть достанется мальчикам столик с чертежным прибором,
Шкаф для верхнего платья и этот особый уют,
Создаваемый жесткими полками в поезде скором
И летящими шторами узких военных кают.
Пусть достанутся мальчикам двери, открытые настежь,
Одинокие звезды, зажженные нами во мгле,
И мечта о нелегком, никем не разведанном счастье
На еще неуютной, еще предрассветной земле.
1939
Подмосковные вечера
Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.
Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.
А рассвет уже все заметнее.
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера.
1957
На безымянной высоте
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат.
Нас оставалось только двое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте, —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те, —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Над нами «мессеры» кружили,
И было видно, словно днем.
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте, —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Мне часто снятся все ребята —
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
1963
«Есть сила в немощи самой…»
Есть сила в немощи самой.
Лорд Байрон грозен и хромой.
Гомер был слеп, но ход времен
Ясней, чем зрячий, видел он.
Есть даже глухота, — и та
Бетховенская глухота.
1974
На Северо-Западном фронте
А память готова взорваться опять,
Лишь только ее вы затроньте.
Вы знаете, где нам пришлось воевать?
На Северо-Западном фронте.
Над нами обугленный тлел небосвод
То в красном, то в белом накале.
Всю сырость псковских и демянских болот
С собой мы в подсумках таскали.
Здесь леший беседовать с нами привык,
Качаясь на елочных лапах.
Из нас ни один еще санпропускник
Болотный не вытравил запах.
Нам в грязь приходилось деревья валить,
Тащить из грязи волокуши.
Тогда еще бог не успел отделить,
Как следует, землю от суши.
Мы жили в промозглых сырых погребах,
В сырые шинели одеты,
Курили сырой филичевский табак
И ели сырые галеты.
Ни вешки какой, ни столба со звездой
Нельзя водрузить на могиле.
В траншеях, заполненных ржавой водой,
Мы мертвых своих хоронили.
Три дня самолета с продуктами нет.
Покрепче ремень засупоньте.
Мы знаем теперь, где кончается свет, —
На Северо-Западном фронте.
Сквозь серенький морок и вечный туман
Тащились обозные клячи.
У «эмок», засевших по самый кардан,
Летели к чертям передачи.
Автобусы юзом ползли под откос,
Обратно вскрабкаться силясь.
Имея две пары ведущих колес,
Вовсю пробуксовывал «виллис».
По этой лежневке прошлепав хоть раз,
Трехтонки нуждались в ремонте.
Нелегкое дело отыскивать нас
На Северо-Западном фронте.
Кому приднепровские степи сродни,
Кто верен снегам Ленинграда.
Но эти замшелые кочки да пни
Кому-то отстаивать надо?!
Поскольку наш фронт города не берет,
Нас всем обделяло начальство.
И сводки Советского информбюро
О нас сообщали не часто.
Протерты у нас на коленях штаны,
Слиняли давно гимнастерки.
И если бывает фасад у войны,
То мы — фронтовые задворки.
В фашистской, протянутой к нам пятерне
Торчали мы вместо занозы.
И если поэзия есть на войне,
Мы были страницею прозы.
Мы, встав здесь однажды, не двигались вспять,
Решив не сдаваться на милость.
Наверно, поэтому нас убивать
По нескольку раз приходилось…
Окопы уходят в траву без следа,
До дна высыхают болотца.
Быстрей, чем мгновенья, мелькают года,
Но это
И вижу я вновь, как при сильной грозе,
И лес, и высотку напротив, —
И снова, и снова теряю друзей
На Северо-Западном фронте.
1974
АЛЫКУЛ ОСМОНОВ
(1915–1950)
С киргизского
{61}
Твоя поэма
Перевод И. Селъвинского
«Ты» — это все, с кем я всегда — на «ты»,
Ты — воплощенье чести, прямоты.
Тебе храбрец сокровище доверит,
В хранителе узнав твои черты.
Слова твои правдивы. В час невзгод
Ты верен клятве. Ты — святой народ!
И с легкою душой на сохраненье
Тебе джигит свой клад передает.
Нет у меня ни клада, ни коня.
Возьми стихи в подарок от меня.
Они — твои, как и мои… Поэму
Ты сбереги до завтрашнего дня.
8 декабря 1945 г.
Койсары
Я — корабль
Перевод М. Синельникова
Я — торопливый тот корабль, который, бросив дом,
Прошел сквозь бурю и волны не зачерпнул бортом,
И слишком рано в порт пришел, и — море за спиной.
Стою на этом берегу, а молодость — на том.
Я — торопливый тот орел, я — беркут быстрый тот,
Что слишком рано, на заре, закончил перелет.
Осталась молодость навек в затерянном краю
Отвесных скал, зеленых гор, обветренных высот.
Совсем не думал я о том, что молодость прошла,
Простился, словно бы за ней еще одна была,
Оставил, бедную, в слезах, ее не приласкал
И не погладил в черный час высокого чела.
Когда мы были вместе с ней, мы были хороши,
От старости не уберечь ни плоти, ни души,
Но молодость моя живет, играя, веселясь,
Там, посреди орлиных гор, в заоблачной глуши.
17 октября 1948 г.
Чолпон-Ата
Памятник
Перевод М. Синельникова
Кургана нет — запомнят ли меня
И где мой след? Так вспомнят ли меня?!
Я отплыву однажды на закате
Моей судьбой назначенного дня.
Да, немота могильная темна,
Но пусть чуть-чуть расступится она,
И высота моя для посвященных
Взойдет, и углубится глубина.
Пусть ложе — из песка, и слеп туман —
Словам достойным выход будет дан.
Надгробье расколю одним ударом
И рысью понесусь, как буудан
{62} .
1949
КАРА СЕЙТЛИЕВ
(1915–1971)
Переводы А. Кронгауза
С туркменского
{63}
Фраги
Вот он, ясный, пронизывающий взгляд,
И жемчужные строки за рядом ряд,
Что летит над землей, крылат,
И песок,
Что твоею ступней примят.
Там, где конь твой скакал столько лет назад,
След его и доныне камни хранят.
Оживляет седые камни мечта.
По ущельям петляет моя мечта —
До чего же тропинка к тебе крута,
А в конце недоступная высота.
Взяли юноши горный родник в кольцо.
В роднике оживает твое лицо.
На земле драгоценнее нет кольца,
Чем поэзии жаждущие сердца.
Им ты песни готов дарить без конца.
И воздвигнут в хранилищах их сердец
Для творений Фраги
{65} золотой дворец.
Как и прежде, журчат родники сейчас,
Как и прежде, звучат ручейки у нас,
И то громче, то тише звучанье их,
И то ниже, то выше журчанье их.
Их знакомые звуки ловил не раз,
Я в них голос Фраги уловил не раз.
Может, моря, а может, реки волна
Стих хранят удивительной чистоты.
Может, звезды, а может быть, и луна
Песни звонкие слушают с высоты.
Петь хотели бы многие дотемна
И хотели бы так же журчать, как ты,
Но для них это только одни мечты.
Как тебе не завидовать сотни лет,
Если жил на планете такой поэт,
Если каждое слово певца людей
Словно кровью питает сердца людей?
В твоей песне отвага юнца звучит
И размеренный пульс мудреца звучит,
Это сердце уж сколько веков стучит!
Песня вместе с народом слезу прольет
И умрет, если выйдет на смерть народ.
Но, ожив,
Пережить она сможет всех.
Только, если веселью придет черед, —
Засмеется народ —
Будет в песне смех.
Вот каков ты, избранник наш и певец,
И народ тебе славы плетет венец
И короной сплетает цветы, любя,
Чтобы этим венком увенчать тебя.
Ведь в далекие годы народных бед,
Когда стоны и вопли затмили свет,
Ты отваги учителем был, поэт,
Смело встал на защиту родной земли…
Ты и этим нам дорог,
Махтумкули.
1941
Человек и время
День минувший укорачивает жизнь,
Но с утра опять торопимся вперед.
Год минувший укорачивает жизнь,
Но торопимся увидеть новый год.
Мы торопимся всегда вперед и ввысь,
Хоть и этим укорачиваем жизнь.
Как же нам не торопиться снова вдаль,
Где великих дней мерцают маяки, —
В океане том и радость и печаль,
В нем приливы и надежды и тоски,
Наступающего времени печать,
И — о смерти забывают старики.
Что такое счастье?
Это — утром встать
И увидеть назревающий восход,
В ногу с солнцем зашагать…
Любая прядь
Под его лучами рдеет и цветет.
Счастье — знать,
Что завтра сможешь ты опять
Встретить солнца назревающий восход.
1970
Человек и тайны
В космос улетают смельчаки —
Изучают тайники Вселенной.
И геологи бурят пески
В поисках той тайны сокровенной,
Что Земли окутали слои.
А никто не знает достоверно
Тайны сердца,
Таинства любви.
И достигнут звездолеты звезд, —
Не такое мы еще осилим.
Но не проще всей Вселенной — мозг:
Миллионы клеток,
Сеть извилин.
Сколько в нем еще таится гроз,
Сколько в нем еще таится грез
И находок —
Кто узнает это?
Может быть, никто и никогда
Не осилит этого труда…
Разве что
Когда-нибудь —
Поэты.
1970
Человек и совесть
Баловала сына мать,
Посадив на плечи.
И отец любил играть,
Посадив на плечи.
Баловала Родина сына с детских лет
И песков качала гладь,
Посадив на плечи.
С материнской шеи слезь,
Дай передохнуть!
И с отцовской шеи слезь,
Отправляйся в путь!
Слезь ты с шеи
Родины, бороды стыдясь.
Совесть поимей и честь
И мужчиной будь.
1970
КОНСТАНТИН СИМОНОВ
(Род. в 1915 г.)
{66}
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
А. Суркову
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: — Господь вас спаси! —
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: — Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.
«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
1941
«Жди меня, и я вернусь…»
В. С.
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло. —
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
1941
«Словно смотришь в бинокль…»
Словно смотришь в бинокль перевернутый —
Все, что сзади осталось, уменьшено.
На вокзале, метелью подернутом,
Где-то плачет далекая женщина.
Снежный ком, обращенный в горошину, —
Ее горе отсюда невидимо;
Как и всем нам, войною непрошено
Мне жестокое зрение выдано.
Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением.
Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся.
Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.
Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение.
И обратно не все увеличится
В нашем горем испытанном зрении.
1941
«Если бог нас своим могуществом…»
Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным имуществом,
Если скажет он: выбирай?
Мне не надо в раю тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,
Я бы взял с собой в рай такую же,
Что на грешной земле жила, —
Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненадолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю.
В рай, наверно, таких отчаянных
Мало кто приведет с собой,
Будут праведники нечаянно
Там подглядывать за тобой.
Взял бы в рай с собой расстояния,
Чтобы мучиться от разлук,
Чтобы помнить при расставании
Боль сведенных на шее рук.
Взял бы в рай с собой все опасности,
Чтоб вернее меня ждала,
Чтобы глаз своих синей ясности
Дома трусу не отдала.
Взял бы в рай с собой друга верного,
Чтобы было с кем пировать,
И врага, чтоб в минуту скверную
По-земному с ним враждовать.
Ни любви, ни тоски, ни жалости,
Даже курского соловья,
Никакой, самой малой малости
На земле бы не бросил я.
Даже смерть, если б было мыслимо,
Я б на землю не отпустил,
Все, что к нам на земле причислено,
В рай с собою бы захватил.
И за эти земные корысти,
Удивленно меня кляня,
Я уверен, что бог бы вскорости
Вновь на землю столкнул меня.
1941
Хозяйка дома
Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой,
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,
Как в дни войны, придут слуга покорный твой
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.
Хочу, чтоб ты и в эту ночь была
Опять той женщиной, вокруг которой
Мы изредка сходились у стола
Перед окном с бумажной синей шторой.
Басы зениток за окном слышны,
А радиола старый вальс играет,
И все в тебя немножко влюблены,
И половина завтра уезжает.
Уже шинель в руках, уж третий час,
И вдруг опять стихи тебе читают,
И одного из бывших в прошлый раз
С мужской ворчливой скорбью вспоминают.
Нет, я не ревновал в те вечера,
Лишь ты могла разгладить их морщины.
Так краток вечер, и — пора! Пора! —
Трубят внизу военные машины.
С тобой наш молчаливый уговор —
Я выходил, как равный, в непогоду,
Пересекал со всеми зимний двор
И возвращался после их ухода.
И даже пусть догадливы друзья —
Так было лучше, это б нам мешало.
Ты в эти вечера была ничья.
Как ты права — что прав меня лишала!
Не мне судить, плоха ли, хороша,
Но в эти дни лишений и разлуки
В тебе жила та женская душа,
Тот нежный голос, те девичьи руки,
Которых так недоставало им,
Когда они под утро уезжали
Под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым.
Им девушки платками не махали,
И трубы им не пели, и жена
Далеко где-то ничего не знала.
А утром неотступная война
Их вновь в свои объятья принимала.
В последний час перед отъездом ты
Для них вдруг становилась всем на свете,
Ты и не знала страшной высоты,
Куда взлетала ты в минуты эти.
Быть может, не любимая совсем,
Лишь для меня красавица и чудо,
Перед отъездом ты была им тем,
За что мужчины примут смерть повсюду, —
Сияньем женским, девочкой, женой,
Невестой — всем, что уступить не в силах,
Мы умираем, заслонив собой
Вас, женщин, вас, беспомощных и милых.
Знакомый с детства простенький мотив,
Улыбка женщины — как много и как мало…
Как ты была права, что, проводив,
При всех мне только руку пожимала.
…………………….
Но вот наступит мир, и вдруг к тебе домой,
К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,
Как в дни войны, придут слуга покорный твой
И все его друзья, кто будет жив к той ночи.
Они придут еще в шинелях и ремнях
И долго будут их снимать в передней —
Еще вчера война, еще всего на днях
Был ими похоронен тот, последний,
О ком ты спросишь, — что ж он не пришел? —
И сразу оборвутся разговоры,
И все заметят, как широк им стол,
И станут про себя считать приборы.
А ты, с тоской перехватив их взгляд,
За лишние приборы в оправданье,
Шепнешь: «Я думала, что кто-то из ребят
Издалека приедет с опозданьем…»
Но мы не станем спорить, мы смолчим,
Что все, кто жив, пришли, а те, что опоздали,
Так далеко уехали, что им
На эту землю уж поспеть едва ли.
Ну что же, сядем. Сколько нас всего?
Два, три, четыре… Стулья ближе сдвинем,
За тех, кто опоздал на торжество,
С хозяйкой дома первый тост поднимем.
Но если опоздать случится мне
И ты, меня коря за опозданье,
Услышишь вдруг, как кто-то в тишине
Шепнет, что бесполезно ожиданье, —
Не отменяй с друзьями торжество.
Что из того, что я тебе всех ближе,
Что из того, что я любил, что из того,
Что глаз твоих я больше не увижу?
Мы собирались здесь, как равные, потом
Вдвоем — ты только мне была дана судьбою,
Но здесь, за этим дружеским столом,
Мы были все равны перед тобою.
Потом ты можешь помнить обо мне,
Потом ты можешь плакать, если надо,
И, встав к окну в холодной простыне,
Просить у одиночества пощады.
Но здесь не смей слезами и тоской
По мне по одному лишать последней чести
Всех тех, кто вместе уезжал со мной
И кто со мною не вернулся вместе.
Поставь же нам стаканы заодно
Со всеми! Мы еще придем нежданно.
Пусть кто-нибудь живой нальет вино
Нам в наши молчаливые стаканы.
Еще вы трезвы. Не пришла пора
Нам приходить, но мы уже в дороге,
Уж била полночь… Пейте ж до утра!
Мы будем ждать рассвета на пороге,
Кто лгал, что я на праздник не пришел?
Мы здесь уже. Когда все будут пьяны,
Бесшумно к вам подсядем мы за стол
И сдвинем за живых бесшумные стаканы.
1942
«Умер друг у меня…»
Памяти Бориса Горбатова
Умер друг у меня — вот какая беда…
Как мне быть — не могу и ума приложить.
Я не думал, не верил, не ждал никогда,
Что без этого друга придется мне жить.
Был в отъезде, когда схоронили его,
В день прощанья у гроба не смог постоять.
А теперь вот приеду — и нет ничего;
Нет его. Нет совсем. Нет. Нигде не видать.
На квартиру пойду к нему — там его нет.
Есть та улица, дом, есть подъезд тот и
дверь,
Есть дощечка, где имя его — и теперь.
Есть на вешалке палка его и пальто,
Есть налево за дверью его кабинет…
Все тут есть… Только все это вовсе не то,
Потому что он был, а теперь его нет!
Раньше как говорили друг другу мы с ним?
Говорили: «Споем», «Посидим», «Позвоним»,
Говорили: «Скажи», говорили: «Прочти»,
Говорили: «Зайди ко мне завтра к пяти».
А теперь привыкать надо к слову:
«Он был».
Привыкать говорить про него: «Говорил»,
Говорил, приходил, помогал, выручал,
Чтобы я не грустил — долго жить обещал,
Еще в памяти все твои живы черты,
А уже не могу я сказать тебе «ты».
Говорят, раз ты умер — таков уж закон, —
Вместо «ты» про тебя говорить надо: «он»,
Вместо слов, что люблю тебя, надо:
«любил»,
Вместо слов, что есть друг у меня, надо:
«был».
Так ли это? Не знаю. По-моему — нет!
Свет погасшей звезды еще тысячу лет
К нам доходит. А что ей, звезде, до людей?
Ты добрей был ее, и теплей, и светлей,
Да и срок невелик — тыщу лет мне не жить,
На мой век тебя хватит — мне по дружбе
светить.
1954
«Напоминает море — море…»
Напоминает море — море.
Напоминают горы — горы.
Напоминает горе — горе;
Одно — другое.
Чужого горя не бывает,
Кто это подтвердить боится, —
Наверно, или убивает,
Или готовится в убийцы…
1970
ЛЮДМИЛА ТАТЬЯНИЧЕВА
(Род. в 1915 г.)
{67}
Малахит
Когда-то над хребтом Урала,
Соленой свежести полна,
С ветрами запросто играла
Морская вольная волна.
Ей было любо на просторе
С разбегу устремляться ввысь.
Отхлынуло, исчезло море,
И горы в небо поднялись.
Но своенравная природа
То море в памяти хранит:
В тяжелых каменных породах
Волной играет малахит.
Он морем до краев наполнен,
И кажется: слегка подуть —
Проснутся каменные волны
И морю вновь укажут путь.
Меченые атомы
Меченые атомы,
Поэзии слова.
Назло своим анатомам
Поэзия жива.
Ее слова —
То лезвия,
То ласковый родник.
Для каждого поэзия
Находит свой язык.
Из сердца
Из казачьего
Жизнь проросла цветком.
Попробуй обозначь его
Обычным языком!
На огненном железе я
Видала кружева.
То пламенной поэзии
Нежнейшие слова.
С людьми,
Душой богатыми,
Поэзия в ладу.
Слов меченые атомы
Лежат не на виду.
Сыновья
Два хороших сына у меня.
Две надежды,
Два живых огня,
Мчится время по великой трассе.
У меня —
Две юности в запасе.
Жизнь горит во мне, неугасима.
У меня две вечности —
Два сына.
Гордые
Гордым легче.
Гордые не плачут
Ни от ран,
Ни от душевной боли.
На чужих дорогах не маячат.
О любви, как нищие, не молят,
Широко раскрылены их плечи,
Не гнетет их зависти короста…
Это правда —
Гордым в жизни легче,
Только гордым сделаться —
Не просто.
Ей приснилось, что она — Россия
Пуля,
Жизнь скосившая
сыновью,
Жгучей болью
захлестнула мать.
Некого с надеждой
и любовью
Ей теперь под кров свой
ожидать!
От глухих рыданий
обессиля,
Задремала.
И приснилось ей,
Будто бы она —
Сама Россия,
Мать ста миллионов
сыновей.
Будто в поле,
Вихрем опаленном,
Где последний догорает
бой,
Кличет,
Называя поименно,
Сыновей,
Что не придут домой.
Беззаветно храбрых
и красивых,
Жизнь отдавших,
чтоб жила она…
Никогда их не забыть
России,
Как морей не вычерпать
до дна…
Снег дымится.
Он пропитан кровью.
Меж убитых тихо мать
идет
И с суровой терпеливой
скорбью
В изголовье
Вечность им
кладет.
А в душе не иссякает
сила.
И лежит грядущее
пред ней,
Потому, что ведь она —
Россия,
Мать ста миллионов
сыновей!
Кони
Я в один из самых синих дней
Из загона выпущу коней.
Для отрады,
Не для похвальбы
Выпущу коней своей судьбы.
Выбежит, игрив и легконог,
Золотого детства стригунок.
Я его горбушкой угощу
И на луг зеленый отпущу.
Явится,
Внезапный, как стрела,
Конь-огонь,
Не знающий седла.
Серебром уздечек и копыт
Юность моя дробно прозвенит.
Положу я сахар на ладонь:
— На, поешь,
Мой норовистый конь! —
…Выйдет зрелость —
Конь мой коренной,
Крепкогрудый,
Масти вороной.
Умница,
послушный седоку,
Он меня подхватит на скаку.
Дам ему отборного овса
И с надеждой загляну в глаза:
— Конь мой сильный,
Конь мой коренной,
Расставаться не спеши
Со мной! —
У меня есть и четвертый конь.
Он устал от скачек
И погонь.
Чуть бредет,
Недугами томим.
Это — старость,
Конь студеных зим.
Но пока еще не время мне
О последнем говорить коне!
Не надо одиночества бояться
Едва разлука
Выстелет снега,
К нам входит одиночество
Без стука.
В нем часто видят
Хитрого врага,
А я нежданно обрела в нем
Друга.
Не надо одиночества
Бояться
Живущим в многолюдной
Быстрине.
Оно дает нам
С мыслями собраться
И с совестью побыть
Наедине.
Молчанье
Когда, утратив свежее звучанье,
Обычными становятся слова, —
Приходит к нам высокое молчанье,
Стозвучное, живое, как молва.
Так, выразить словами не умея
Всех мыслей,
Обращенных к Ильичу, —
На каменных ступенях Мавзолея,
Как в первый раз,
Я клятвенно
Молчу.
«Я без Урала не могу…»
Я без Урала не могу.
Стоит перед глазами
Он то утесами в снегу,
То синими лесами.
То сталью,
Зреющей в печах,
Берущей жар у солнца.
То стройкой
в просверках,
В лучах
Мгновенно
обернется…
И память,
Вызвездив костры,
Положит светотени
На степь.
И на Магнит-горы
Гигантские ступени.
…Стою на тающем снегу,
Охмелена весною.
Я без Урала не могу.
Урал всегда со мною.
Да, он со мной,
А не вдали,
За сизой кромкой леса.
Растворено
в моей крови
Твое, Урал, железо!
ВЕРОНИКА ТУШНОВА
(1915–1965)
{68}
Кукла
Много нынче в памяти потухло,
а живет безделица, пустяк:
девочкой потерянная кукла
на железных скрещенных путях.
Над платформой пар от паровозов
низко плыл, в равнину уходя…
Теплый дождь шушукался в березах,
но никто не замечал дождя.
Эшелоны шли тогда к востоку,
молча шли, без света и воды,
полные внезапной и жестокой,
горькой человеческой беды.
Девочка кричала, и просила,
и рвалась из материнских рук, —
показалась ей такой красивой
и желанной эта кукла вдруг.
Но никто не подал ей игрушки,
и толпа, к посадке торопясь,
куклу затоптала у теплушки
в жидкую струящуюся грязь.
Маленькая смерти не поверит,
и разлуки не поймет она…
Так хоть этой крохотной потерей
дотянулась до нее война.
Некуда от странной мысли деться:
это не игрушка, не пустяк, —
это, может быть, обломок детства
на железных скрещенных путях.
1943
«Вот говорят: Россия…»
Вот говорят: Россия…
Реченька да березки…
А я твои руки вижу,
узловатые руки,
жесткие.
Руки, от стирки сморщенные,
слезами горькими смоченные,
качавшие, пеленавшие,
на победу благословлявшие.
Вижу пальцы твои сведенные, —
все заботы твои счастливые,
все труды твои обыденные,
все потери неисчислимые…
Отдохнуть бы,
да нет привычки
на коленях лежать им праздно…
Я куплю тебе рукавички,
хочешь, синие, хочешь, красные?
Не говори «не надо», —
мол, на что красота старухе?
Я на сердце согреть бы рада
натруженные твои руки.
Как спасенье свое держу их,
волнения не осиля.
Добрые твои руки,
прекрасные твои руки,
матерь моя, Россия!
1962
«Сто часов счастья…»
Сто часов счастья…
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неутомимо,
по крупице, по капле,
по искре, по блестке,
создавала его из тумана и дыма,
принимала в подарок
от каждой звезды и березки…
Сколько дней проводила
за счастьем в погоне
на продрогшем перроне,
в гремящем вагоне,
в час отлета его настигала
на аэродроме,
обнимала его,
согревала
в не топленном доме.
Ворожила над ним, колдовала…
Случалось, бывало,
что из горького горя
я счастье свое добывала.
Это зря говорится,
что надо счастливой родиться.
Нужно только, чтоб сердце
не стыдилось над счастьем трудиться,
чтобы не было сердце
лениво, спесиво,
чтоб за малую малость
оно говорило «спасибо».
Сто часов счастья,
чистейшего, без обмана…
Сто часов счастья!
Разве этого мало?
1962
«Осчастливь меня однажды…»
Осчастливь меня однажды,
позови с собою в рай,
исцели меня от жажды,
подышать немного дай!
Он ведь не за облаками,
не за тридевять земель, —
там снежок висит клоками,
спит апрельская метель.
Там синеет ельник мелкий,
на стволах ржавеет мох,
перепархивает белка,
будто розовый дымок.
Отливая блеском ртутным,
стынет талая вода…
Ты однажды
ранним утром
позови меня туда!
Я тебе не помешаю
и как тень твоя пройду…
Жизнь такая небольшая,
а весна — одна в году.
Там поют лесные птицы,
там душа поет в груди…
Сто грехов тебе простится,
если скажешь:
— Приходи!
«Человек живет совсем немного…
Человек живет совсем немного —
несколько десятков лет и зим,
каждый шаг отмеривая строго
сердцем человеческим своим.
Льются реки, плещут волны света,
облака похожи на ягнят…
Травы, шелестящие от ветра,
полчищами поймы полонят.
Выбегает из побегов хилых
сильная блестящая листва,
плачут и смеются на могилах
новые живые существа.
Вспыхивают и сгорают маки.
Истлевает дочерна трава…
В мертвых книгах
крохотные знаки
собраны в бессмертные слова.
1965
ВАДИМ ШЕФНЕР
(Род. в 1915 г.)
{69}
Детство
Ничего мы тогда не знали,
Нас баюкала тишина,
Мы цветы полевые рвали
И давали им имена.
А когда мы ложились поздно,
Нам казалось, что лишь для нас
Загорались на небе звезды
В первый раз и в последний раз.
…Пусть не все нам сразу дается,
Пусть дорога жизни крута,
В нас до старости остается
Первозданная простота.
Ни во чьей (и не в нашей) власти
Ощутить порою ее,
Но в минуты большого счастья
Обновляется бытие,
И мы вглядываемся в звезды,
Точно видим их в первый раз,
Точно мир лишь сегодня создан
И никем не открыт до нас.
И таким он кажется новым
И прекрасным не по летам,
Что опять, как в детстве, готовы
Мы дарить имена цветам.
Зеркало
Как бы ударом страшного тарана
Здесь половина дома снесена,
И в облаках морозного тумана
Обугленная высится стена.
Еще обои порванные помнят
О прежней жизни, мирной и простой,
Но двери всех обрушившихся комнат,
Раскрытые, висят над пустотой.
И пусть я все забуду остальное —
Мне не забыть, как, на ветру дрожа,
Висит над бездной зеркало стенное
На высоте шестого этажа.
Оно каким-то чудом не разбилось.
Убиты люди, стены сметены, —
Оно висит, судьбы слепая милость,
Над пропастью печали и войны.
Свидетель довоенного уюта,
На сыростью изъеденной стене
Тепло дыханья и улыбку чью-то
Оно хранит в стеклянной глубине.
Куда ж она, неведомая, делась
Иль по дорогам странствует каким,
Та девушка, что в глубь его гляделась
И косы заплетала перед ним?..
Быть может, это зеркало видало
Ее последний миг, когда ее
Хаос обломков камня и металла,
Обрушась вниз, швырнул в небытие.
Теперь в него и день и ночь глядится
Лицо ожесточенное войны.
В нем орудийных выстрелов зарницы
И зарева тревожные видны.
Его теперь ночная душит сырость,
Слепят пожары дымом и огнем,
Но все пройдет. И, что бы ни случилось, —
Враг никогда не отразится в нем!
Слова
Много слов на земле. Есть дневные слова —
В них весеннего неба сквозит синева.
Есть ночные слова, о которых мы днем
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.
Есть слова — словно раны, слова — словно суд, —
С ними в плен не сдаются и в плен не берут.
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Но слова всем словам в языке у нас есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.
Повторять их не смею на каждом шагу, —
Как знамена в чехле, их в душе берегу.
Кто их часто твердит — я не верю тому,
Позабудет о них он в огне и дыму.
Он не вспомнит о них на горящем мосту,
Их забудет иной на высоком посту.
Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,
Оскорбляет героев бесчисленных прах,
Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,
Не твердя этих слов, умирали за них.
Пусть разменной монетой не служат они, —
Золотым эталоном их в сердце храни!
И не делай их слугами в мелком быту —
Береги изначальную их чистоту.
Когда радость — как буря, иль горе — как ночь,
Только эти слова тебе могут помочь!
Вещи
Умирает владелец, но вещи его остаются,
Нет им дела, вещам, до чужой, человечьей беды.
В час кончины твоей даже чашки на полках не бьются
И не тают, как льдинки, сверкающих рюмок ряды.
Может быть, для вещей и не стоит излишне стараться, —
Так покорно другим подставляют себя зеркала,
И толпою зевак равнодушные стулья толпятся,
И не дрогнут, не скрипнут граненые ноги стола.
Оттого, что тебя почему-то не станет на свете,
Электрический счетчик не завертится наоборот,
Не умрет телефон, не засветится пленка в кассете,
Холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет.
Будь владыкою их, не отдай им себя на закланье,
Будь всегда справедливым, бесстрастным хозяином их, —
Тот, кто жил для вещей, — все теряет с последним дыханьем,
Тот, кто жил для людей, — после смерти живет средь живых.
Глоток
До обидного жизнь коротка,
Ненадолго венчают на царство, —
От глотка молока — до глотка
Подносимого с плачем лекарства.
Но меж теми глотками — заметь! —
Нам немало на выбор дается:
Можно дома за чаем сидеть,
Можно пить из далеких колодцев.
Если жизнь не легка, не гладка,
Если в жизни шагаешь далеко,
То не так уж она коротка
И бранить ее было б жестоко.
Через горы, чащобы, пески,
Не боясь ни тумана, ни ветра,
Ты пошел от истоков реки —
И до устья дошел незаметно.
Вот и кончен далекий поход, —
Не лекарство ты пьешь из стакана:
Это губы твои обдает
Горьковатая зыбь Океана.
Переулок памяти
Есть в городе памяти много домов,
Широкие улицы тянутся вдаль,
Высокие статуи на площадях
Стоят — и сквозь сон улыбаются мне.
Есть в городе памяти много мостов,
В нем сорок вокзалов и семь пристаней,
Но кладбищ в нем нет, крематориев нет, —
Никто в нем не умер, пока я живу.
Есть в городе памяти маленький дом
В глухом переулке, поросшем травой;
Забито окно, заколочена дверь,
Перила крыльца оплетает вьюнок.
…Когда это дело случится со мной, —
С проспектов стремительно схлынет толпа
И, за руки взявшись, друзья и враги
Из города памяти молча уйдут.
И сразу же трещины избороздят
Асфальт и высокие стены домов,
Витрины растают, как льдинки весной,
И башни, как свечи, начнут оплывать.
Миг
Не привыкайте к чудесам —
Дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам,
Глазами к ним тянитесь.
Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам,
Ничто не повторится.
За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумленье.
Все будет так — и все не так
Через одно мгновенье.
Ночная ласточка
Кто белой ночью ласточку вспугнул, —
Полет ли дальнего ракетоносца
Или из бездны мирозданья гул,
Неслышный нам, в гнездо ее донесся?
Она метнулась в воздухе ночном,
И крылья цвета вороненой стали
Цветущий мир, дремавший за окном,
Резнули дважды по диагонали.
Писк судорожный, звуковой надрез
Был столь пронзителен, как будто разом
Стекольщик некий небеса и лес
Перекрестил безжалостным алмазом.
И снова в соснах дремлет тишина,
И ели — как погашенные свечи,
И этот рай, что виден из окна,
Еще прекрасней, ибо он не вечен.
Ожидание
За пятьдесят, а все чего-то жду.
Не бога и не горнего полета,
Не радость ожидаю, не беду,
Не чуда жду — а просто жду чего-то.
Хозяин вечный и недолгий гость
Здесь на Земле, где тленье и не тленье,
Где в гордые граниты отлилось
Природы длительное нетерпенье, —
Чего-то жду, чему названья нет,
Жду вместе с безднами и облаками.
Тьма вечная и негасимый свет —
Ничто пред тем, чего я жду веками.
Чего-то жду в богатстве и нужде,
В годины бед и в годы созиданья;
Чего-то жду со всей Вселенной, где
Материя — лишь форма ожиданья.
ТОУШАН ЭСЕНОВА
(Род. в 1915 г.)
С туркменского
{70}
Кемине
Перевод А. Кочеткова
Кемине
{71} ! Во славу твою
Племена собрались на той
{72} .
Чередой веселых торжеств
Прославляется образ твой,
Жизнь твоя достойна хвалы,
Стих твой —
грамоты золотой!
Был твой стих жемчужным ручьем,
Грудь твоя —
алмазной горой.
Моего народа любовь,
Незабвенный мастер, тебе!
Ты с весельем дружил: душа
У поющего не строга.
Уток —
девушек ты унес
На зеркальные берега.
Молодицам ты песни пел,
Кемине —
«покорный слуга».
Ты —
Вся любовь, наш мастер, тебе!
«Мы — у ног Кемине!» —
гремят
Соловьи у кибитки твоей.
Ты умолк. Но стих твой живет
Сотню лет —
словно сотню дней.
Крепнет песня из века в век
Чистотой и силой своей.
Ты певец народной любви,
И любовь наша, мастер, — тебе!
Баев,
ханов,
Кемине за ворот держал!
Все богатство твое, певец, —
Огневое сердце твое!
Замиравшее от любви,
Молодое сердце твое!
Окрыленное, как струна,
Ветровое сердце твое!
Запахнувшееся в тряпье,
Кочевое сердце твое!
От него — и песни зажглись,
Наш великий мастер, в тебе!
1940
Куст винограда
Перевод А. Тарковского
Ты подрос, и в твоей благодатной тени,
Мой зеленый, мой солнечный сад в Ашхабаде,
Потекли чередой беспечальные дни,
Словно строки дестана в заветной тетради.
На тебя я немало потратила сил,
Но за это мне каждую осень в награду,
Не скупясь, полновесные гроздья дарил
Возле дома разросшийся куст винограда.
Ночь, та темная ночь, перед тем как прийти,
Долго, видно, подспудную злобу копила,
Чтобы наше предгорье, как сито, трясти,
Стены руша и наземь швыряя стропила, —
И засыпала щебнем, втоптала в песок
Размозженные зеленокудрые лозы,
И пролившийся крупными каплями сок
Мать-земля приняла, словно чистые слезы.
Черной тучей над городом ночь пронесло…
Наконец-то заря занялась молодая!
И лучистое солнце над нами взошло,
На горючие раны бальзам проливая.
И на небо высокое глянула я —
Там, как пчелы весной, самолеты гудели:
К нам на выручку верные наши друзья
Из Москвы, из Баку, из Ташкента летели.
С белой марлей в руках наклонясь надо мной,
Мне грузинка по-своему что-то сказала,
И язык ее был для меня как родной,
Потому что я сердцем его понимала…
Над постройками новые зори встают,
Дни проходят в забрызганной краской одежде,
И не знает усталости радостный труд,
И становится город мой краше, чем прежде.
Дни проходят… И я возвратилась в свой дом,
Лучше прежнего стал он — просторный, высокий,
И в ожившей лозе у меня под окном
По весне забродили кипучие соки.
Я проснулась однажды — цветет виноград,
Сад лучами пронизан и залит сияньем;
И подумала я: верно, весь Ашхабад
Дышит этим сверкающим благоуханьем.
За весною и жаркое лето пришло, —
Я запела опять, как певала когда-то,
И на стол мой широкий легли тяжело
Виноградные гроздья в пыльце лиловатой.
1949
ДЕБОРА ВААРАНДИ
(Род. в 1916 г.)
С эстонского
{75}
На пороге Таллина
Перевод В. Рождественского
Долгой и трудной дорогой к тебе возвращалась я, Таллин!
Волосы гладили мне Балтики ветры родные.
Мимо тянулись обозы, танки кругом грохотали.
Радостью грудь наполнялась, хотелось смеяться впервые.
Вновь я тебя увидала, мой Таллин родной и прекрасный,
Тихо из волн восстающий, подобно морскому миражу.
Волны тебя выносили виденьем из дымки неясной,
И облака над тобою плели золотистую пряжу.
Таллин, скажи, кто кормил без меня голубей сизокрылых,
Кто, поднимаясь на холм твой, привычные трогал ступени,
Окна заре открывал и, как прежде, на улицах милых,
Тихий, влюбленный, скитался с охапкой росистой сирени?
Полы шинели походной в пыли от пути боевого.
Издали вижу тебя я, смотрю, не скрывая волненья…
Как мне в единственный взгляд свой вложить всю печаль прожитого,
Как в этот радостный вечер свое удержать нетерпенье?
Вот я пришла к тебе, Таллин, окутана запахом гари,
Жарким дыханием танков, долгою стужей кочевья…
Дети, голодные дети стоят на твоем тротуаре,
Возле разрушенных зданий спаленные чахнут деревья.
Это ли, Таллин, порог твой, испытанный злобою вражьей?
Вот я иду, твоя дочь, с истомленной, но гордой душою.
Горе увидев твое, становлюсь я суровей, отважней, —
Только глаза, как в тумане, подернуты горькой слезою.
1944
Весной
Перевод А. Ахматовой
Кап да кап — и все хрустальней
Слышу чистый звук с утра;
Гном ли бьет по наковальне
Из литого серебра?
И мне прутья вербы голой
Продавщица продает,
А певец небес веселый
В горле новых ищет нот.
Мышь бежит средь мерзлых кочек;
Над кустами вьется дым.
Тот же гномов молоточек
Бьет по веточкам сухим.
И он в грудь мою стучится,
Тот весенний милый гном,
Зная, что обогатится
Нужным для него зерном.
1955
Старый снимок
Перевод Л. Тоома
Жалкие искусственные розы
Обрамляют карточку венком.
Выбрав неестественные позы,
Замерли невеста с женихом.
Ничего понять не в состоянье,
Парень пялится, как истукан:
Мол, сейчас бы самое гулянье,
А на шее у него аркан!
Да еще воротничок крахмальный
Так сдавил, что замирает дух!..
Выгорает снимок моментальный,
Покрывается следами мух.
Сделан он фотографом с базара.
И, признаться, в день далекий тот
Знать не знала молодая пара,
Кто ей на ночь угол отведет.
Ей теперь не грех и подивиться,
В час, когда могучая семья
Всем колхозом ужинать садится:
И отец, и мать, и сыновья.
Маленькие, средние, большие…
Есть и рыбаки, как их отец…
И со снимка видят молодые,
Что неплох их повести конец.
1957
Тысячелистник
Перевод Д. Самойлова
Сегодня дружба лишь нужна
и никого нет лишних.
Зачем ты хочешь для меня
воспеть тысячелистник?
Иль для меня цветок иной
не вырос при дороге?
Тысячелистник? Да, ты мой,
полезен для здоровья.
Когда увязнет даль в снегах
за нашею хибарой,
мы сядем с чашками в руках
и стих припомним старый.
И поднесем навар к губам.
Горчащий тот напиток…
Пусть дружба бродит по снегам,
не зная троп избитых.
1959
Утро — отдать садоводу
Перевод А. Ахматовой
Что лучше других это утро —
проснувшись, я вдруг поняла.
Октябрь мой — близнец мой мятежный —
сжигал все, что было, дотла.
Час пробил для осени нежной.
Вдоль Пирита море дремало.
По солнечной стороне
бульвара — в потоке народа —
мы шли. Было радостно мне!
Шло утро во власть садовода.
Ни пик, ни знамен, но, на плечи
взяв саженцы, все же могли
за войско сойти мы хоть внешне.
Ладони черны от земли.
Шли яблони, вишни, черешни.
Вдруг, розу увидев в витрине,
я стала над ней, не дыша:
ах, сердце — пугливо и ало —
в ней билось, была в ней душа.
Казалось, вновь детство настало.
Душа, как ладонью прикрытый
огонь — чтобы ветер утих,
достойна и дрожи сердечной,
и сотен томов золотых, —
останься со мною навечно.
И взоры детей пораженных
и краскам теряющих счет
в крутых пирамидах из яблок,
а рядом — варенье и мед.
Домой мы шли в запахе яблок.
Потом мы, усталые, сели
на камне, заговорив
о том величавом и белом
красавце, зашедшем в залив.
Еще этот атомный белый
корабль говорил, что вернут
плодами сады, огороды
затраченный некогда труд.
А утро — отдать садоводу.
1959
«Я знаю — внизу, в голубом тумане…»
Перевод Д. Самойлова
Я знаю — внизу, в голубом тумане
твой сказочный город огнями горит.
И все меня мучит
одно желанье —
тебе его снова и снова
дарить!
Я б ставила перед тобой постепенно
его закоулки, его уголки,
замшелые башни,
старинные стены,
где эхом твои отдаются шаги;
его телемачту — мечту модерна;
кафе уютные, без затей;
базар, куда запах привносит деревня,
где лошаденка
восхищает детей;
небесные тропы перелетной стаи;
ночных самолетов
бортовые огни;
и траулеры, что на рейде стали
и в море уйдут на долгие дни;
и багряный парк, где ощутима
осень, где листьев цветная пурга;
и спокойную, чистую
струйку дыма,
что вьется из нашего
очага.
1960
В осенней листве
Перевод Б. Слуцкого
Осень полна детьми,
старыми и молодыми;
тянут ее за подол,
ловят ее ладошки,
ржавые, мокрые
бабочки-листья.
Голые и каштановые
дети каштана
смотрят сквозь веер листвы.
Желтым одеялом,
толстеющим с каждой ночью,
славно бы с головою укрыться.
Дуб бросается желудями.
Черные зернышки мака
с грохотом скачут в коробочке.
Доблестный алый цветок
бодро качался под ветром
и вдруг загрустил.
Желтая крыша над нами
редеет и пропадает.
Желтый ковер
словно сворачивают.
Белые снежные дети
серого облака
падают с неба.
1960
Грусть
Перевод А. Ахматовой
Они рождаются в студеную ночь, когда…
…Я распахнула окно и увидела северное небо.
Я глядела на Большую Медведицу
и на Полярную звезду,
словно опять я была в чужом краю.
Но я была не в чужом краю,
и кругом царил глубокий мир.
Мое дыханье исчезало в ночи.
Где-то внизу, во тьме, меж деревьев,
ручей Волчьей пропасти
журчал так громко и гулко,
словно сотни деревянных башмаков стучали
по земле, схваченной стужей…
Звук, непонятный, неясный,
безмолвный и совершенно отдельный,
в одно мгновенье сгущался
в глубокую черно-синюю ночь.
Мысли, странствующие бок о бок с моими,
легкие и безошибочные,
как спевшиеся в дуэте.
Чуткие руки,
настолько подлинные,
что они могли бы изваять меня заново
совершенно и безгранично счастливой.
И любовь, словно солнце,
отбрасывающее длинные тени,
смешные тени с длинными ушами,
бегущие впереди нас.
И ты говоришь:
«Смотри, скоро вечер.
Ты боишься, бедный дружок мой?»
1962
Лимонное дерево
Перевод А. Ахматовой
В вечерних сумерках,
когда я чужестранкой прохожу
под стук шаров бильярдных
и бормотанье радио,
под сенью лавров и магнолий, всякий раз
меня задерживает кто-то, со мною заговаривает.
Оно единственное
Своим звенящим ароматом,
своим чуть слышным ароматом,
словно звезда забытая сквозь тучу.
Оно единственное.
Я узнаю тебя,
твой аромат соединил в себе
всю кислоту плодов, которые созреют,
и упоение и горечь.
И гибель белых лепестков.
1964
Грустная песенка
Перевод Л. Миля
Подпирают дерева-плакуши
неподвижно виснущие тучи.
Свет из неба выцежен до капли.
Море тоже наподобье пакли.
Кто тут ходит и чего он ищет?
Тут одно сплошное пепелище.
Далеко умчался парус алый,
кинулся вдогонку ветер шалый,
сразу же серебряный прибой
повернулся к берегу спиной.
Потускнели радужные зори,
и осталось брошенное море
в неживой дремучей тишине
с вечером своим наедине.
Лишь рыдающие где-то птицы
преданно мечтают возвратиться.
1969
Остров
Перевод Л. Миля
Забрести на берег до рассвета,
в час, когда волна встает с трудом,
и себя отдать на милость ветра
перед близящимся зимним днем,
перед неуемным снегопадом,
веру в тайный смысл вещей храня,
ибо остается неразгадан
заговор земли, воды, огня.
Ибо переменчива пучина.
Ибо храбр еще мой островок.
Не безжизненна и не пустынна
тишина его лесных дорог.
Через хвойный полог наглядеться
на пригашенные очаги
и в груди услышать вместо сердца
радости мгновенные толчки.
Выхватить из тьмы ненастный берег,
вспыхнув, как багровый звездный след,
и угаснуть меж снежинок серых
в час, когда еще далек рассвет.
1970
МИХАИЛ ДУДИН
(Род. в 1916 г.)
{76}
Соловьи
О мертвых мы поговорим потом.
Смерть на войне обычна и сурова.
И все-таки мы воздух ловим ртом
При гибели товарищей. Ни слова
Не говорим. Не поднимая глаз,
В сырой земле выкапываем яму.
Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас
Остался только пепел, да упрямо
Обветренные скулы сведены.
Трехсотпятидесятый день войны.
Еще рассвет по листьям не дрожал,
И для острастки били пулеметы…
Вот это место. Здесь он умирал —
Товарищ мой из пулеметной роты.
Тут бесполезно было звать врачей,
Не дотянул бы он и до рассвета.
Он не нуждался в помощи ничьей.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас, и молча ждал конца,
И как-то улыбался неумело.
Загар сначала отошел с лица,
Потом оно, темнея, каменело.
Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней.
Запри все чувства сразу на защелку.
Вот тут и появился соловей,
Несмело и томительно защелкал.
Потом сильней, входя в горячий пыл,
Как будто настежь вырвавшись из плена,
Как будто сразу обо всем забыл,
Высвистывая тонкие колена.
Мир раскрывался. Набухал росой.
Как будто бы еще едва означась,
Здесь рядом с нами возникал другой
В каком-то новом сочетанье качеств.
Как время, по траншеям тек песок.
К воде тянулись корни у обрыва,
И ландыш, приподнявшись на носок,
Заглядывал в воронку от разрыва.
Еще минута. Задымит сирень
Клубами фиолетового дыма.
Она пришла обескуражить день.
Она везде. Она непроходима.
Еще мгновенье. Перекосит рот
От сердца раздирающего крика, —
Но успокойся, досмотри: цветет,
Цветет на минном поле земляника.
Лесная яблонь осыпает цвет,
Пропитан воздух ландышем и мятой…
А соловей свистит. Ему в ответ
Еще — второй, еще — четвертый, пятый.
Звенят стрижи. Малиновки поют.
И где-то возле, где-то рядом, рядом
Раскидан настороженный уют
Тяжелым громыхающим снарядом.
А мир гремит на сотни верст окрест,
Как будто смерти не бывало места,
Шумит неумолкающий оркестр,
И нет преград для этого оркестра.
Весь этот лес листом и корнем каждым,
Ни капли не сочувствуя беде,
С невероятной, яростною жаждой
Тянулся к солнцу, к жизни и к воде.
Да, это жизнь. Ее живые звенья,
Ее крутой, бурлящий водоем.
Мы, кажется, забыли на мгновенье
О друге умирающем своем.
Горячий луч последнего рассвета
Едва коснулся острого лица.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал конца.
Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: «Ребята, напишите Поле:
У нас сегодня пели соловьи».
И сразу канул в омут тишины
Трехсотнятидесятый день войны.
Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал.
И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине:
У нас сегодня пели соловьи».
И полетит письмо из этих мест
Туда, в Москву, на Зубовский проезд.
Пусть даже так. Потом просохнут слезы,
И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем
У той поджигородовской березы
Ты всмотришься в зеленый водоем.
Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.
Пусть им навстречу солнце зноем брызнет
И облака потянутся гуртом.
Я славлю смерть во имя нашей жизни.
О мертвых мы поговорим потом.
1942
«В моей беспокойной и трудной судьбе…»
И. Т.
В моей беспокойной и трудной судьбе
Останешься ты навсегда.
Меня поезда привозили к тебе,
И я полюбил поезда.
Петляли дороги, и ветер трубил
В разливе сигнальных огней.
Я милую землю навек полюбил
За то, что ты ходишь по ней.
Была ты со мной в непроглядном дыму,
Надежда моя и броня,
Я, может, себя полюбил потому,
Что ты полюбила меня.
1947
Наши песни спеты на войне
Седина отсчитывает даты,
И сквозит тревогою уют.
В одиночку старые солдаты
Песни позабытые поют.
Может, так, а может, к непогоде
Ноют раны у седых солдат.
Песни тоже вроде бы не в моде,
Вроде устарели, говорят.
Может быть, и мы, и песни стары.
Высохла кровавая роса.
Новое под перебор гитары
Новые выводят голоса.
Легкие и свежие. Обиде
Не копиться, не кипеть во мне.
Наши песни спеты в лучшем виде,
Наши песни спеты на войне.
Там, где переходы и завалы,
Рваная колючка на столбах,
Умирали наши запевалы
С не допетой песней на губах.
С не допетой песней умирали,
Улыбаясь солнцу и весне.
И ко мне из неоглядной дали
Песня выплывает в полусне.
Песне что — звенеть на вольной воле,
До звезды вытягивая нить.
Только мне какой-то смутной боли,
Что ни делай, не угомонить.
И не надо! Ты меня не трогай.
У Победы тоже боль своя.
А тебе своей идти дорогой
И с девчонкой слушать соловья.
Он поет. Вовсю поет в подлеске.
Ночь тиха. Вселенная глуха.
Над ручьем пушистые подвески
Осыпает старая ольха.
Звезды затихают в хороводе.
Соловьи выводят соловьят.
Может, так, а может, к непогоде
Нынче ноют раны у солдат.
1965
Вдогонку уплывающей по Неве льдине
Был год сорок второй.
Меня шатало
От голода,
От горя,
От тоски.
Но шла весна —
Ей было горя мало
До этих бед.
Разбитый на куски,
Как рафинад сырой и ноздреватый,
Под голубой Литейного пролет,
Размеренно раскачивая латы,
Шел по Неве с Дороги жизни лед.
И где-то там,
Невы посередине,
Я увидал с Литейного моста
На медленно качающейся льдине
Отчетливо
Подобие креста.
А льдина подплывала,
За быками
Перед мостом замедлила разбег.
Крестообразно,
В стороны руками,
Был в эту льдину впаян человек.
Нет, не солдат, убитый под Дубровкой
На окаянном «Невском пятачке»,
А мальчик,
По-мальчишески неловкий,
В ремесленном кургузом пиджачке.
Как он погиб на Ладоге,
Не знаю.
Был пулей сбит или замерз в метель.
…По всем морям,
Подтаявшая с краю,
Плывет его хрустальная постель.
Плывет под блеском всех ночных созвездий,
Как в колыбели,
На седой волне.
…Я видел мир,
Я пол-земли изъездил,
И время душу раскрывало мне.
Смеялись дети в Лондоне.
Плясали
В Антафагасте школьники.
А он
Все плыл и плыл в неведомые дали,
Как тихий стон
Сквозь материнский сон.
Землетрясенья встряхивали суши.
Вулканы притормаживали пыл.
Ревели бомбы.
И немели души.
А он в хрустальной колыбели плыл.
Моей душе покоя больше нету.
Всегда,
Везде,
Во сне и наяву,
Пока я жив,
Я с ним плыву по свету,
Сквозь память человечества плыву.
1966
Встречая рассвет
Зачем мы люди, почему?
В. Хлебников
Я долго думал на рассвете,
Смотря на дальние холмы:
Кто мы? Земли слепые дети
Или самоубийцы мы?
Протоки светлое колено
Дрожало рябью мелких жил.
И белый аист копны сена,
Расхаживая, сторожил.
Тянулось облако на север,
Пересекала тень тропу.
Гудел пчелиным роем клевер,
И рожь готовилась к серпу.
Мир пробуждался без расчета,
На свой, особенный манер.
И треснул выхлоп самолета,
Скрывая звуковой барьер.
За ним тянулся шлейф невесты,
Сбегающей от жениха.
Качался трактор, словно в тесте,
В суглинок врезав лемеха.
Над взгорьем жаворонок звонко
Сорил казенною казной.
Мир открывал глаза ребенка,
Захлебываясь новизной.
1967
Небольшой девочке Еленке
Какая ты смешная, право,
Походкой легкою, как дождь,
Чтобы не сделать больно травам,
Почти на цыпочках идешь.
А я оглядываюсь ради
Твоей судьбы, тебя любя,
Мне кажется, что кто-то сзади
Стоит и целится в тебя.
1967
И нет безымянных солдат
Гремят над землею раскаты.
Идет за раскатом раскат.
Лежат под землею солдаты.
И нет безымянных солдат.
Солдаты в окопах шалели
И падали в смертном бою,
Но жизни своей не жалели
За горькую землю свою.
В родимую землю зарыты,
Там самые храбрые спят.
Глаза их Победой закрыты,
Их подвиг прекрасен и свят.
Зарница вечерняя меркнет.
В казарме стоит тишина.
Солдат по вечерней поверке
В лицо узнает старшина.
У каждого личное имя,
Какое с рожденья дают.
Равняясь незримо с живыми,
Погибшие рядом встают.
Одна у нас в жизни Присяга,
И Родина тоже одна.
Солдатского сердца отвага
И верность любви отдана.
Летят из далекого края,
Как ласточки, письма любви.
Ты вспомни меня, дорогая.
Ты имя мое назови.
Играют горнисты тревогу.
Тревогу горнисты трубят.
Уходят солдаты в дорогу.
И нет безымянных солдат.
1969
Твоей свободы выстраданный путь
Стихи, стихи, бойцы моей души.
Моя победа и моя отрава.
Забвенья и сомненья камыши…
И под обстрелом стонет переправа.
Что ждет тебя на дальнем берегу? —
Неведомо перегорелым нервам.
Сквозь тину и болотную кугу
Какое слово выберется первым?
Но ты жива, поэзия, жива!
Как тот приказ в фельдъегерском конверте,
Всегда твои нуждаются слова
Не в чем-нибудь, а в подтвержденье смертью.
Ты весь огонь берешь себе на грудь,
И, свет зари перемежая тенью,
Твоей Свободы выстраданный путь
Проходит через гибель к воскресенью.
1969
П. С. Крохолев. Коллективизация. 1965-1967
ХАМИД ЕРГАЛИЕВ
(Род. в 1916 г.)
С казахского
{77}
Песня на заре
(Из поэмы)
Перевод В. Савельева
ВСТУПЛЕНИЕ
Скачут с криками джигиты,
Скачут вслед за табуном.
Но пускай гремят копыта —
Спи, малыш мой,
Крепким сном!
Не испытывай тревоги
В безмятежном забытьи:
Впереди твои дороги,
Беды, праздники твои.
Спи, ворочаться не надо!
Спи, Ахмет мой,
Не вздыхай!
Не следи за мною взглядом —
Я и так с тобою рядом:
Альди-альди-альди-ай!
Спи, родной!
Висит при входе
Беленькая колыбель.
Спи!
Кумыс в посуде бродит,
Да овец зовет свирель.
Не испытывай тревоги
В безмятежном забытьи:
Впереди твои дороги,
Беды, праздники твои.
Спи, ворочаться не надо!
Спи, Ахмет мой,
Не вздыхай!
Не следи за мною взглядом —
Я и так с тобою рядом:
Альди-альди-альди-ай!
Дни летят.
Не потому ли
Ночи крыльями взмахнули?
Подрастай в родном ауле,
Спи, мой милый,
Не вздыхай!
Спи, ворочаться не надо!
Спи — и я прилягу рядом.
Альди-альди-альди-ай!
* * *
Так женщина в ночи и утром рано
Над люлькой сына пела неустанно.
Бибичинар! Недюжинным умом
Прославилась окрест жена Куана.
Старик Жубан на мир смотрел устало,
И в юрте у него просторней стало:
Повел хозяйство молодой Куан
Отдельно от хозяйства аксакала.
Надеялся Куан зажить богато —
И вот Бибичинар поет над пятым.
В семье четыре дочки дождались
Кудайбергена — маленького брата.
Все десять теток заявили чинно:
— У нас для скорби
Нет теперь причины!
Аллах Жубану внука подарил,
Чтоб не перевелись в роду мужчины!
Молились тетки.
Да еще при этом
Перечисляли добрые приметы.
(Так женщины повсюду и всегда
Дома и юрты наполняют светом!)
А мать в глухой ночи и утром рано
Над люлькой сына пела неустанно.
Бибичинар! Недюжинным умом
Прославилась окрест жена Куана.
Как ныне душу распахнуть поэту
Тому, что на Акжаре было спето?
Как на вопросы бесконечных дум
Найти в былом правдивые ответы?
Всего шестой годок крутому веку.
Баюкает напев,
Смежает веки.
…Из пыльных складок юрточной кошмы
Слежу я за поющим человеком.
О медленное время!
Неужели
Ты всадником спешишь к заветной цели?
Окреп Кудайберген — и вот Ахмет
Лежит сегодня в той же колыбели.
Я знаю, время, и в степном просторе
Благословенный час наступит вскоре.
Малыш пеленку стиснул в кулачке,
Малыш не знает, что такое горе.
Что ж, станет он ладонь,
Лишаясь силы,
Тянуть за подаянием уныло?
О время! Ты губило соловьев,
Над юртами ветрами голосило.
Кто жаждал звуков — тех в былые годы
Ты, время, обрекало на невзгоды.
Спит на утесе наш Курмангазы —
И он не вырвал у тебя свободы.
Взгляни же, время, замерев в сторонке:
Упрямо машут тонкие ручонки,
Как будто против бесконечных бед
Протестовать приходится ребенку.
Я верю, в мире ветра, в мире муки
Окрепнут эти худенькие руки.
…О ты, домбра, казалась сиротой,
Когда печалью наполняла звуки.
Взгляни, домбра, на этого младенца:
Судьбою дирижирует он дерзко!
Вникает он и в радость, и в беду —
Уже сейчас им никуда не деться.
Тебе, домбра казахская, по праву
Стяжает он неслыханную славу.
Он, не зовя на помощь небеса,
Преграды одолеет величаво!
МИХАИЛ ЛЬВОВ
(Род. в 1916 г.)
{78}
Дорога на юге
У самых волн мы пировали,
Мы югом руки обожгли,
И на холодном перевале
Мы к небу близко подошли,
Где вровень с солнцем, с небом рядом
Белело зданье и кругом
Крошились камни колоннады;
Травой заполнило пролом,
Как мрамор, облако проплыло,
Стояли боги на пути —
И так, казалось, можно было
До Древней Греции дойти.
1940
«Я нынче страшным расстояньем…»
Я нынче страшным расстояньем
От мирной жизни отдален,
И вспомнить я не в состоянье
Театра свет, ряды колонн,
И лебединые страданья,
И лебединую беду,
Я только слышу тут рыданья,
И только вижу лебеду,
И вспоминаю об искусстве,
Как о далекой старине,
Как о любви, о первом чувстве.
К ним не вернуться больше мне,
И, снова зубы сжав до хруста,
Иди вперед и в грязь и в ров.
И кажется, что нет искусства,
А есть железо, хлеб и кровь…
1941
«Чтоб стать мужчиной, мало им родиться…»
Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты — солдат, и все сумей принять:
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти — тоже ведь оружье.
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
1943
«Есть мужество, доступное немногим…»
Есть мужество, доступное немногим, —
Все понимать и обо всем молчать,
И даже в дружбе оставаться строгим,
А если боль — о боли не кричать.
И, как металл, лететь в сражений гущу,
Чтоб в дальность цели, как в мишень,
войти, —
Железу, как известно, не присущи
Лирические отступы в пути.
Вычерчивая линию красиво,
Чтобы над целью вырасти в дыму,
Снаряд в пути не делает извивов
И в гости не заходит ни к кому.
Так ты пойдешь, немедленно и гордо,
Как полководец, сквозь железо лет
И станешь безошибочным и твердым —
Но тут уже кончается поэт.
1943
Сон
Мне ночью снились мирные года
И дачи, от которых нет следа,
И крупные июньские цветы,
Которыми в меня кидала ты.
Приснились довоенные друзья,
И, как ребенок, был растроган я.
Так мало ласки выпадает мне,
Что рад я ласкам, встреченным во сне.
И я проснулся, снова полный сил.
И я друзей за сон благодарил.
За ясный взгляд, за поцелуй во сне
Спасибо вам, приснившиеся мне.
1943
Высота
М. Г. Фомичеву
Комбату приказали в этот день
Взять высоту и к сопкам пристреляться.
Он может умереть на высоте,
Но раньше должен на нее подняться.
И высота была взята,
И знают уцелевшие солдаты —
У каждого есть в жизни высота,
Которую он должен взять когда-то.
А если по дороге мы умрем,
Своею смертью разрывая доты,
То пусть нас похоронят на высотах,
Которые мы все-таки берем.
1944
У входа в скалат
А. Б. Лозовскому
Полковник, помните Скалат,
Где «тигр» с обугленною кожей
И танк уральский, в пепле тоже,
Лоб в лоб уткнулись и стоят?
Полковник, помните, по трактам
Тогда и нас водил сквозь смерть
Такой же танковый характер —
Или прорваться, иль сгореть.
1944
«Я был убит приснившимся осколком…»
Я был убит приснившимся осколком.
Моя невеста плакала вдали.
Она еще не выплакалась толком, —
Уже за ней охотники пришли.
Нет, я тебя, о жизнь, не обвиняю
За то, что ты недолго помнишь нас,
Такой как есть тебя я принимаю
На год, на день, на молодость, на час.
Меня любила девушка. Наверно,
Меня любила девушка. Она
Была, наверно, мне до смерти верной,
А после смерти верность не нужна.
Прости меня, далекая, живая,
Что я тебя, как варвар, ревновал,
Опасности везде подозревая,
Ступить тебе и шагу не давал.
Но в шесть утра горнисты Измаила,
Как ангелы, трубящие в раю,
Солдата вновь подняли из могилы,
И я опять ревную и люблю.
1945
«Как будто я за веком следом ездил…»
Как будто я за веком следом ездил,
Его дыханье трогало меня,
И спал, и стыл я на его железе,
И обжигался у его огня.
Я с ним узнал и тишину и грозы.
И от него ни душу, ни глаза,
Как от железа руку мне в морозы,
Без крови оторвать уже нельзя.
1945
«Я ввергнут в жизнь, в волненья, в страсти…»
Н. С. Тихонову
Я ввергнут в жизнь, в волненья, в страсти,
В огонь, и в воду, и в цветы,
В твои, двадцатый век, ненастья,
В твои заботы и труды,
В клубок твоих противоречий,
В слепящий солнечный клубок,
В твои парады, встречи, речи,
В твой страшный атомный рывок,
В ночную пляску тьмы и света,
И все ж подвластен нам твой бег:
Земля — корабль, а не комета.
Я твой матрос, двадцатый век.
1956
Россия
Века считали:
Россия — дали,
Россия — синь,
Россия — сани,
Поля с лесами,
Россия — стынь,
Россия — косность,
Солома в космах,
Россия — сон,
Россия — стон,
Кандальный звон,
Церквей трезвон…
Да, той России
Мы все касались.
От той России
Мы отказались,
От сна и лени,
Пути впотьмах.
Россия — Ленин!
Октябрьский взмах!
Россия — Ленин!
В делах, в умах!
Мы строить стали
Россию стали!
Россию троек —
В Россию строек!
В снега, в морозы —
Лучами брызнь!
Россия — росы!
Россия — розы!
Россия — жизнь!
Народов гордость,
Эпохи зрелость,
Россия — скорость!
Россия — смелость!
Не ООН, не косность,
Не край телег —
Россия — Космос!
Россия — Век!
1961
«Я начал бурно жизнь…»
Я начал бурно жизнь,
как в наступленье.
О, сколько страсти
отдано годам!
Исключено
любое отступленье.
банкротству
не отдам.
Я эту жизнь
не дам на осмеянье —
Ни прожитых
и ни грядущих дней,
И, принимая
с вечностью слиянье,
Я, как с любимой,
распрощаюсь с ней.
1974
РЕВАЗ МАРГИАНИ
(Род. в 1916 г.)
С грузинского
{79}
Куда я ни пойду
Перевод М. Луконина
Повсюду узнаю отчизны ветерок.
Не сразу отличу, но рано или поздно
На небесах собратьев, когда наступит срок,
Я начинаю находить родные звезды.
К товарищам по жизни испытываю любовь,
Гляжу на малышей — близки невыразимо.
Хожу я по земле, всем руки жать готов,
Хожу я по земле с улыбкою грузина.
Друзья мои везде, а там — друзья друзей,
Все понимают речь грузинскую повсюду.
Мать друга называю матерью своей,
Любовью к ней я жить на свете буду.
И где бы ни был я, куда я ни пойду,
Морозна ли земля или жарой палима,
Везде со мной отчизна, сияет на виду,
Она от вечных звезд неотделима.
Песнь братства потому мне наполняет грудь,
И в силах я воспеть красу чужого края.
Я говорю ему: «Благословенен будь!»,
Чтобы и он расцвел, как Грузия родная.
Куда я ни пойду, в моей душе всегда —
Моя земля, и солнце,
И звезды слюдяные,
И если бы я Грузию так не любил, тогда
Как мог бы полюбить края иные!
Соль
Перевод М. Луконина
В стихах моих, быть может, мало соли?
Нет соли там — в Сванетии родной.
А вдруг стихи ни в радости, ни в боли
Не всколыхнут соленою волной?
В стихах моих, быть может, соли мало,
Я костью слаб и не могу расти?
Сванетия родная отдавала
Всегда мне соль последнюю в горсти.
Не знаю. Может быть. Такое горе,
А может, соль, не каждому видна,
Потом в моих стихах проступит вскоре?
Сомнений ночь горька и солона.
Виной происхожденье мое, что ли?
Сванетия! Я у нее в долгу,
Не может быть, чтобы меня без соли
Отправила —
Поверить не могу!
За тридевять земель, пойду, запомни,
За тридевять морей —
В любом краю добуду соль,
Насыплю на ладони,
Чтоб Грузию обрадовать свою.
«Светает! И встал над горами туман…»
Перевод Н. Тихонова
Светает! И встал над горами туман,
Туман над долинами лег,
Тянется в небе белесая тьма,
Над нею — гранита отрог,
И слышится песня, и песне той дан
Границей небесный порог.
Я слышу: вершина Тетнульда гудит,
Где сказочной Дали приют,
Снопами лучей, всей их связкой горит
Природы незыблемый труд.
Сумрак облака локоном Дали развит,
И «Лилео» ветры поют.
Я вижу: в отчизне восходит рассвет,
А горы в седых облаках,
И от солнца на льду капель радужный свет,
Как родинок блеск на щеках.
Чешуею ингурской форели в ответ
Лед сверкает в несчетных тонах.
Светает! И слышатся звуки трубы:
Спасем тебя, родина-мать!
В бой готовятся гор ледяные столпы,
С героями в бой выступать.
Уж светает! Привет вам, герои борьбы,
Привет, гранитная рать!
Светает! С вершин уползает туман,
Гром утра долиною лег,
В небе тает седых облаков караван,
Светлеет скалистый отрог,
И слышится песня, и песне той дан
Границей небесный порог.
Пробуждение
Перевод А. Межирова
Не помню, снился сон или не снился, —
Но поздно я проснулся
И к скале, взглянув на небо,
Трудно прислонился
В глухой послерассветной полумгле.
Взирают хмуро из-под снежных шапок
Вершины гор, и курится очаг,
И сонная Зекари с боку на бок
Ворочается в травах и ручьях.
И, расщепленный на две половины,
Меня окликнул придорожный бук,
И воды Черной речки, как лавины,
Из русла выйдя, разлились вокруг.
Я крепко спал, пока раскатом грома
Насильно не был поднят ото сна.
Я пробудился…
Пробудился!
Дрема от заспанного сердца отошла.
И по стопам природы
Вниз
По скалам
Я ринулся, —
И молнии зигзаг
Запечатлелся светом отраженным
В слезах моих,
в глазах моих,
в слезах.
С тех пор по следу —
За страдой весенней
Иду, превозмогая забытье,
Чтобы постигнуть тайну пробуждений
И пробужденье
странное
мое.
«В Сванетии — в торжественном безмолвии…» Перевод Е. Евтушенко
В Сванетии — в торжественном безмолвии
снегов и гор — я смерти не боюсь!
Руками мощно я ломаю молнии,
и с ветром — равный с равным — я борюсь!
И, наплутавшись по ущельям диким,
ночную непогоду не кляня, я путником,
задумчивым и тихим,
ложусь устало где-то у огня.
И, лежа, я слежу весь вечер длинный,
чтобы огонь до света не погас,
и слушаю я сванский
{80} сказ старинный,
и сон мой после так похож на сказ!
Я сплю над нелюбовью и любовью,
грусть, над тобой и над тобой, вражда.
Мне седловина Ушбы — изголовье,
и мой ночник — усталая звезда.
Днем снова путь… Осыпанный порошей,
средь скал, что так серьезны и строги,
несу с собой хурджин
{81} , почти порожний,
и пол-строки — да,
но какой строки!
Почему-то припомнилось
Перевод Б. Слуцкого
Жизнелюбцы всегда ненавидят беду.
Не люблю я печаль. И с тоской не в ладу.
Знаю цену тоске и печали,
Пули волосы мне опаляли.
Да, стреляли в меня — не раз и не два.
Выбивали меня из окопа — не выбили.
И от вздохов моих колыхалась трава:
Только пядь отделяла меня от погибели.
Благодарный судьбе, я лежал на спине
И сквозь битвенный дым видел солнце огромное.
И полнеба пылало в закатном огне,
Словно уголь в печи, докрасна раскаленное.
Это было и сплыло,
Быльем поросло.
А сегодня в Берлине
Почему-то припомнилось!
Пулеметный огонь. Я дышу тяжело.
Над окопом
горячее солнце приподнялось.
ЭДИ ОГНЕЦВЕТ
(Род. в 1916 г.)
С белорусского
{82}
Мой дом
Перевод Ф. Ефимова
Не обходи порога моего,
Смеясь удаче!
Не обходи порога моего,
Душою плача!
Когда ты весел — посидим
За чаркой с песней,
А в час печали сядем тесно
И помолчим…
Беларуси
Перевод Н. Кислика
Я в сорок первом думала:
не выживу
В разлуке
с твоими соснами,
С твоими
лугами росными,
С вересками лиловыми,
С сентябрьских лесов обновами,
С простором твоего задумчивого неба,
Желанным, как любовь,
как вкус ржаного хлеба…
А ты, словно мать родимая,
Детям необходимая,
Письмом фронтовым приходила.
Я тебя находила
В госпиталях,
сраженьем обожженную,
Но чертом никаким
не побежденную.
Там, на земле друзей,
у пыльного вокзала
Жила я твоими дубравами,
травами…
Пригорками,
речками,
И как я над тобой
в те дни ни горевала,
Мне нынешний твой день
светил за перевалом.
«Полюбил сосну горячий ветер…»
Перевод Ф. Ефимова
Полюбил сосну горячий ветер,
Нежных чувств от леса не скрывал
И любовь свою ко всем на свете,
Ко всему живому ревновал.
Сосенке, беспечной и веселой,
Ревность и свиданья — ни к чему:
Иглами поклонника колола
И во всем перечила ему.
Злился ветер, жадный и упрямый, —
Улетел!.. Еще любил пока,
Молниями часто эпиграммы
Посылал сосне издалека.
У бродяг любви не встретишь вечной:
Скоро ветер позабыл сосну,
А сосне, веселой и беспечной,
Стало скучно слушать тишину.
Не с кем спорить, некому перечить,
И сосне осталось тосковать
По любви, по ревности, по встрече…
ЮСУП ХАППАЛАЕВ
(Род. в 1916 г.)
Переводы Я. Козловского
С лакского
{83}
«Кто лучший воин — даст ответ война…»
Кто лучший воин — даст ответ война,
Разлука скажет, чья верней жена,
А горная неторная дорога
На лучшего укажет скакуна.
Года проверят истинность заслуг,
И выявит беда, кто лучший друг.
И оценить, как жизнь вокруг прекрасна,
Всегда заставит роковой недуг.
О руках и душах
Многих баловней судьбы,
Что в веках не убывают,
Руки мягкими бывают,
Словно губы лошадей.
И тверды в горах всегда
В окружении утесов
Руки всех каменотесов,
Как морщинистый базальт.
Многих баловней судьбы,
Что в веках не убывают,
Души черствыми бывают,
Как морщинистый базальт.
Но мягки в горах всегда
В окружении утесов
Души всех каменотесов,
Словно губы лошадей.
«Прекрасен мир…»
Прекрасен мир,
сменяющий одежды,
Воздевший солнце
на рога быка.
Прекрасна жизнь:
любовь, бои, надежды;
Одно печально:
слишком коротка.
АДАМ ШОГЕНЦУКОВ
(Род. в 1916 г.)
С кабардинского
{84}
«Зерно не пропадает без следа…»
Перевод Н. Гребнева
Зерно не пропадает без следа,
Зерно, упав, дает зеленый всход,
А упадет лучистая звезда —
И никогда уж снова не взойдет.
Зерно твоей любви в душе другой
Когда-нибудь взойдет наверняка,
А все, что было только суетой,
Не принесет ни всхода, ни ростка.
1960
Как пахарь и воин
Перевод С. Липкина
Уже, как тетива, натянута строка,
И жду я, чтоб слова, как стрелы, полетели,
Но твердости еще не обрела рука,
Глаза не отыскали цели.
Уже словесные собрал я семена,
И мысли вспаханы, — для сева все готово,
Но не изведаны и почвы глубина,
И всхожесть зреющего слова.
В тревогах, в поисках, как пахарь и стрелок,
Упорно я тружусь и месяцы и годы,
Чтоб удалось мне в цель направить стрелы строк,
Чтобы взошли слова, как всходы!
1964
Сквозь цепкие кусты…
Перевод М. Петровых
Сквозь цепкие кусты — на склон высокий,
Туда, туда, где вольно дышит грудь!..
Как злые львы, гривастые потоки
Кидаются, чтоб заградить мне путь.
Пусть лютый зной палит меня, как пламя,
Пусть ураган трубит в свой грозный рог,
Пусть ливень хлещет мокрыми бичами,
Пусть буря бьет в лицо и валит с ног, —
Меня дорога не манит иная,
Всегда бы знать лишь этот путь один,
Лишь вверх идти, усталости не зная,
Дышать лишь вольным воздухом вершин!
1964
ХАБИБ ЮСУФИ
(1916–1945)
С таджикского
{85}
Настало время!
Перевод В. Левика
Настало время, мой калам
{86} , отныне стань острей меча!
Настало время, песнь моя, рази и бей, гремя как гром,
Чтобы грозой настичь врага, чтоб уничтожить палача,
Чтобы засох его арык и чтобы рухнул вражий дом.
Любви к отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ.
Пусть вечно родина цветет, неколебима и горда.
Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд,
Чтоб в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда.
Теперь, когда гремит война, когда в огне моя страна,
Я предан родине моей сильнее, чем когда-нибудь.
Теперь, когда иду я в бой и мужества душа полна,
Любимой я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь.
Не дрогнул я! Моя рука пощады не сулит врагам,
Отныне стань острей меча, настало время, мой калам!
22 июня 1941 г .
«…Когда нежданной передышки…»
Перевод М. Фофановой
…Когда нежданной передышки
Пришла короткая пора,
Нам старшина принес две книжки
Из разоренного двора.
Их обожгли огонь и пули,
И были рады души их,
Когда солдаты обернули
Одной шинелью их двоих.
Мы бережно читали знаки
Давно минувших рубежей…
А после снова гул атаки
Нас поднял в бой из блиндажей,
И в наступленье в нашей роте
Бойцами шли Толстой и Гете.
1942
ДЖЕМАЛДИН ЯНДИЕВ
(Род. в 1916 г.)
С ингушского
{87}
Речь горных аулов
Перевод С. Липкина
Я с Пушкиным на скалах снеговых
Присутствовал при заревом пожаре,
Здесь Лермонтовым выкованный стих
Я в юности читал другой Тамаре.
Здесь я узнал аулов горных речь
И соль и сахар языка родного,
И с той поры поклялся я беречь
Звенящее, сияющее слово.
Отсюда в серой предрассветной мгле
Я уходил без бурки и кинжала,
Но и в разлуке сердце продолжало
Свободно биться на родной земле.
Я уходил, чтобы вернуться снова,
Внимательней, суровей стал мой взгляд,
Но соль и сахар языка родного
Я берегу, как много лет назад.
1966
ХАЛИМАТ БАЙРАМУКОВА
(Род. в 1917 г.)
Переводы Н. Матвеевой
С карачаевского
{88}
«Думаешь, с криком «ура!»
Думаешь, с криком «ура!»
Любят и верят сильнее?
Я не кричу «ура!»,
Я молча любить умею.
Молча.
Наверняка.
Вечно и неизменно.
Шум исчезает, как пена,
Но остается река Там,
Где любовь глубока.
Не верю я Крикунам,
В крике пружинящим шею.
Я молча жизнь отдам,
Я молча любить умею.
1962
«Во мне городского…»
Во мне городского
(Того, кабинетного) мало,
Мне вешние пашни
Домов стоэтажных
Милей,
Как жадно теперь
я бы шуму лесному внимала!
В руке бы сжимала
Застенчивый стебель полей…
И, ноги босые в росе леденящей купая,
Простуды не зная,
От зноя
Не пряча лица,
По горным потокам,
По выступам камня ступая,
Все горы обшарить хотела бы я
До конца.
Во мне городского
(Бумажного, книжного) мало,
Мне более сладок тенями завешенный сад…
Крестьянка во мне
Не заснула,
А чуть задремала,
И вот пробудилась,
И тянет, и манит назад…
1966
МИРЗА ГЕЛОВАНИ
(1917–1944)
Переводы Ю. Полухина
С грузинского
{89}
Жди меня
К тебе вернусь я поздно или рано,
Развею и туманы и дожди,
Своей улыбкой залечу все раны,
Ты только жди меня, родная, жди.
Я соберу друзей легко и скоро,
Их выстрелы с ветвей стряхнут росу.
Сниму я небо, раскачаю горы
И в дар тебе, родная, принесу.
И ты услышишь медленные песни
Своих подружек, названых сестер,
О юности, что скрылась в поднебесье,
О витязе, к тебе пришедшем с гор.
Зурна начнет твою улыбку славить,
Ей басом отзовется барабан,
И каждый, кто придет тебя поздравить,
От знойного маджари будет пьян.
…На скатерти небес я справлю свадьбу,
Но чтоб ее не омрачила ложь,
Мне лишь одно вдали хотелось знать бы:
Что ты меня не уставая ждешь.
1942
От Мтацминды до Смоленска
От Мтацминды
{90} до Смоленска путь далек:
Были горы, были степи и болота.
Помнишь ночь?
На минном поле ты залег
Под огнем неумолимых пулеметов.
Помнишь Днепр,
Холодный, мутный, как рассвет?
Осень листьями дороги устилала…
Был я ранен, а остался только след —
Небо Родины, как лекарь, исцеляло.
…Я твой дом своим письмом не огорчил:
Написал, что в битвах всякое бывает,
Что охотник из Пшави не отступил,
Сердце друга на войне не умирает.
Сердце, нет,
не умирает, как боец,
Все мне кажется теперь в огне похода,
Что отныне я
владелец двух сердец,
Что к своим годам
твои прибавил годы.
1943
Не пиши
Ты не пиши мне, что расцвел миндаль,
Что над Мтацминдой небо, как атлас,
Что Грузии приветливая даль
Согрета солнцем ласковым сейчас.
Что Ортачала, как и ты, с утра
Надела платье из степных цветов
И что вздыхает гордая Кура,
Когда Метехи видит средь садов.
С огнем я этой ночью воевал,
И все казалось мне в дыму атак,
Что за спиной Тбилиси мой стоял
И так смотрел!
И улыбался так!
А в Ортачала расцветал миндаль,
Диск солнца плыл по черепицам крыш,
И ты пришла. И только было жаль,
Что вдалеке, любимая, стоишь.
Ты не пиши… Ведь знаю я и сам,
Что весь в цветах лежит проспект Шота
И кто-то ходит ночью по полям,
Их одевая в летние цвета.
И знаю,
знаю, что сиянье дня
Хранишь ты в сердце трепетном своем,
И если пуля обойдет меня,
И если весны встретим мы вдвоем,
Тогда скажу я то, о чем молчал:
Что я навек пришел к глазам твоим,
А тот, кто солнце в битве отстоял,
Имеет право
любоваться им.
1943
СЕМЕН ДАНИЛОВ
(Род. в 1917 г.)
С якутского
{91}
Моя родословная
Перевод А. Николаева
Я родился в крае синеоком,
В этом смысле люди словно реки;
Я сужу о каждом человеке
По его началу,
По истокам.
Синеокий край над речкой Синэ,
Где вода с морозами в разладе,
Где зимой не замерзают пади,
Где снега — как белый пух гусиный.
Воздух напоен настоем свежим,
Солнышко встает над нашим краем,
День и ночь плывет над птичьим раем
В криках уток,
В запахе медвежьем.
Там тайга раздольная.
Однако
Загуляет вьюга-завируха,
Сразу испытает силу духа —
Что в нем больше,
Стали или шлака?
Летом и зимой земля опрятна.
Даже белоснежные сугробы
Там особой,
Самой чистой пробы,
Скрыть нельзя немаленькие пятна.
Там пятно, пусть даже небольшое,
Издали увидишь, как на блюде.
Потому-то, может, даже люди
Там с особо чистою душою.
Добрые хозяюшки на Синэ,
Путника усталого встречая,
Сливок; наливают в чашку чая,
А усталость —
Нет ее в помине.
В год, когда Октябрь гремел в Сибири,
Там родился я в семье якута,
Чтобы стать охотником,
Как будто
Ничего иного нету в мире.
Я бы рассказал еще немного,
Как, ворвавшись буйным половодьем,
Он рванул судьбы моей поводья
И открыл мне новую дорогу.
А о том, насколько интересней
Зазвучали песни по-над Синэ,
От ее волны набравшись силы,
Лучше пусть расскажут сами песни.
1967
Клятва
Перевод М. Львова
Я — твой сын, твой певец,
Твой восторженный гордый горнист.
Твой боец, твой гонец,
Конь мой скачет, и путь мой горист.
От тебя — мой огонь,
От тебя — моя сила и власть.
Я — твой меч, твоя речь,
Твоего вдохновения часть,
Твой боец, твой певец.
Если речь моя станет пуста,
Если я — отступлю Или — лжи уступлю,
Ты закрой мне ладонью уста.
1970
ПЕТРЯ КРУЧЕНЮК
(Род. в 1917 г.)
С молдавского
{92}
Ода России
Перевод В. Фирсова
И победы твои, и утраты —
Все на памяти прожитых лет.
Нет меня —
Без российского брата:
Без России
Молдавии нет.
О Россия,
Россия,
Россия!
Без тебя я — слезинка в пыли,
Ручеек, что в степях обессилел,
След звезды, догоревший вдали,
Словно вынутый кол из забора,
Что ни дышло, ни ручка косы…
Без тебя я, как птица,
Которой
Не клевать на свободе росы.
О Россия,
Россия,
Россия!
Ты дала нам высокий полет.
Без тебя бы
Мой край оросили
Слезы горя — на годы вперед,
Без тебя бы мой край, как хотели,
Так и рвали бы все на куски.
И ни хлеба, ни теплой постели
Не видали б мои земляки.
Без тебя наши светлые зори
Потускнели бы, сгинув во мгле.
И на щедрой молдавской земле
Поселилось бы черное горе.
Стали б наши дороги мертвы.
Помертвели бы чистые реки.
И чернели б леса — без листвы,
И умолкли бы песни навеки.
И пришельцы бы тюрьмы для нас
Повелели бы
Нам же построить.
Забывать нам об этом не стоит.
Так ведь было.
Так было не раз.
О Россия,
Россия,
Россия!
Ты дала нам свободный полет.
Без тебя бы мой край оросили
Слезы горя — на годы вперед.
Ты богата, Россия, богата
Лаской матери, сердцем сестры
И зарей над крестьянскою хатой
В пору праздничной страдной поры.
Годы вечного братства с тобою
Я сегодня считать не берусь.
Мы сроднились с твоею судьбою,
Синеокая, милая Русь.
Ты дороги нам к свету открыла,
Увела от нужды и беды.
Как представить мне птицу
Бескрылой,
Как представить родник
Без воды!
Говорю тебе, —
Снова и снова! —
Бесконечно и вечно любя:
— Как представить язык наш
Без слова,
Как без песен
Представить Молдову,
Как представить себя
Без тебя?!
О Россия,
Россия,
Россия!
Я бессмертен в единстве с тобой.
За тебя
С бескорыстностью сына
Я приму, если надобно, бой.
1966
КАЙСЫН КУЛИЕВ
(Род. в 1917 г.)
С балкарского
{93}
«Ты ночью родилась, холодною зимой…»
Перевод Д. Голубкова
Ты ночью родилась, холодною зимой.
Но мне все кажется — ты родилась весной,
Ты утром родилась. В сады спускался зной.
И яблони в цвету склонялись над тобой.
Девушка с севера
Перевод В. Звягинцевой
Валентине Лебедевой
1
Синие глаза ты подари мне,
Брови, что крылаты, подари мне!
Прядь, светлей пшеницы, подари мне,
Длинные ресницы подари мне!
Подари мне нежность грусти русской,
Тишину лесной тропинки узкой,
Вешних заливных лугов узоры
И степей печальные просторы.
Смеха, песен звуки подари мне,
Тоненькие руки подари мне,
В песнях запах сосен подари мне,
Сердце — краше весен — подари мне!
2
Хочу остаться в памяти твоей
Не длинной повестью — четверостишьем,
Не долготою затяжных дождей,
А горным ливнем, хлещущим по крышам.
И пусть, когда ты вспомнишь про меня,
Услышишь ты не шаг усталой клячи,
А топот кабардинского коня…
Пусть будет так. Я не хочу иначе!
1942
Первой весной после войны
Перевод Д. Голубкова
Детей босоногих возня
В зеленой чаще двора.
Не видя в окне меня,
Звенит во дворе с утра
Играющая детвора.
За облаком-облака,
За годом год плывет.
А эта возня на века,
А этот смех не умрет,
Ничто его не убьет!..
1945
Ночью в ущелье
Перевод Н. Тихонова
Наши кони устали совсем,
Никакого не видно пути.
Тьма такая, хоть выколи глаз!
В этой тьме как дорогу найти?
О, измучены кони вконец,
Темноту горный ливень сечет,
Как из тысячи бурдюков,
Небо воду на землю льет…
Как найдем мы дорогу вперед?
И назад мы вернуться должны!
— Нет, мужайся, мужайся и знай:
Не для трусости мы рождены!
— В дым измучены кони в пути!
— Нет, они еще могут идти!
— Ничего не видать впереди!
— Лишь вперед, хоть среди облаков!
— Впереди только бездны, гляди!
— Так проходят пути храбрецов!
— Даже гриву коня своего
Я не вижу. Назад повернем!
— Нет, пускай не видать ничего,
Мы дойдем, мы дорогу найдем!
— Я намокших ресниц приподнять
Не могу. Впереди не пройти!
— Но мужи ведь не могут стоять,
Испугавшись, на полпути!
— В дым измучены кони. Кругом
Только тьма, что назад нас зовет!
— Нет, мы, тьму разрезая, идем
Без тропы и под ливнем вперед!..
1950
«Если цените вы и январь и апрель…»
Перевод Я. Козловского
Если цените вы и январь и апрель,
Если хлеб выпекаете вы,
Если ночью качаете вы колыбель,
Если слышите шелест листвы,
Если женщиной вы очарованы так,
Что в снегах закипают ручьи,
Я дарю вам на счастье, как верный кунак,
Белоснежную веточку алычи!..
1960
«Кремень-кремень, и только…»
Перевод Н. Гребнева
Кремень — кремень, и только.
Но, встретясь, два кремня
Становятся надолго
Источником огня.
Что наше сердце, если
Другого рядом нет?
Сердца лишь только вместе
Несут огонь и свет.
1960
«Где-то стонет женщина вдали…»
Перевод Н. Гребнева
Где-то стонет женщина вдали,
Напевает песню колыбельную.
Вечный страх, тревога всей земли
Проникают в песню колыбельную.
Первой пулей на войне любой
Поражает сердце материнское.
Кто б ни выиграл последний бой,
А страдает сердце материнское!..
1960
«Я знаю вкус меда и соли твоей…»
Перевод Н. Гребнева
Я знаю вкус меда и соли твоей,
Земля моя дорогая.
Снег твоих гор и травы степей
Я мял, к тебе припадая.
Я кланяюсь горным твоим снегам
И травам твоей равнины,
Твоим плугам, к чьим лемехам
Прилипли комочки глины.
1960
«Не я ль ревел подранком-туром…»
Перевод Н. Гребнева
Не я ль ревел подранком-туром
В твоем безбрежье бурых скал?
Не я ль в твоем заснежье хмуром
Голодным волком завывал?
То смертником, в крови застылой,
Лежал на снежной целине,
То ласточкой в степи унылой
Летел я с вестью о весне.
Но все ж я ни теперь, ни прежде
Тебя, земля моя, не клял,
И в час беды, и в час надежды,
Как знамя, край твоей одежды
Я целовал!..
1960
Старинная заповедь
Перевод Н. Гребнева
Скажут: «Меньше тебя нет никого!» —
Ты не гневись.
Скажут: «Больше тебя нет никого!» —
Ты не гордись.
Будь стоек, как камни эти, молчащие
И в бурю и в снегопад,
Будь щедр, как деревья, тень приносящие
Всем, кто прохладе рад.
Учись, как потоки эти упорные,
Себе прокладывать путь.
Чтоб ни стряслось, как снега эти горные,
Чистым и светлым будь!
1960
«Право же, трудно и мне»…»
Перевод С. Липкина
«Право же, трудно и мне», —
Раненый камень об этом
С кем говорил в тишине?
С сумраком, что ли, с рассветом?
Мне ли помог в тот миг,
Раненый и одинокий?
Камня язык я постиг,
Камня я понял уроки!
«Вынес я все в трудный час», —
Камня услышал я слово,
И по земле своей снова
Шел я, у камня учась…
1960
«В мой легкий день я буду вспоминать…»
Перевод С. Липкина
В мой легкий день я буду вспоминать
Пиры, где я плясал, и песен звуки,
В мой трудный день я буду вспоминать
Твое лицо и руки.
В мой легкий день я буду вспоминать
Вином пиров наполненные чаши,
В мой трудный день я вспомню только мать
И горы, горы наши.
1961
«Ветер кажется мне белым…»
Перевод С. Липкина
Ветер кажется мне белым:
Он летел по снежным пределам.
Ветер кажется мне зеленым:
Он летел по лесистым склонам.
В нем — дыханье свежих платанов,
В нем — дыханье свежих становий,
В нем — дыханье древних туманов,
Запах меда и запах крови…
1962
«Растет ребенок, плача»…»
Перевод С. Липкина
«Растет ребенок, плача» — есть пословица.
Но если плач ребенка слышу вдруг,
Так больно сердцу моему становится,
Как будто горы в трауре вокруг.
Я помню, как детей беда военная
Гнала в крови, средь выжженных путей.
Мне кажется — рыдает вся Вселенная,
Когда я слышу плачущих детей.
1962
«Будь я живописцем, там, на скалах…»
Перевод С. Липкина
Будь я живописцем, там, на скалах,
Как бы я тропинки рисовал!
Это мысли путников усталых.
Вот они, уйдя за перевал,
Тянутся в тени чинар зеленых,
Это матери моей печаль,
Как печаль тех сумерек бессонных,
Что уходит по тропинкам вдаль,
То печаль балкарок, кабардинок,
Матерей… О, кто бы написал
Горскую задумчивость тропинок
На вершинах и в теснинах скал!..
1962
«Нет, не зря в огне костра пылало…»
Перевод Н. Гребнева
Нет, не зря в огне костра пылало
Дерево-краса и гордость гор,
И зола не зря золою стала:
Зимним днем нас обогрел костер.
Снег, что шел зимой, весной растает,
Но не зря зимою снег идет:
Хоть растает он, но пропитает
Поле, где весною хлеб взойдет.
Не бесследно то, что преходяще,
Служит в мире все добру иль злу.
Вот и вспомнил я огонь гудящий,
Глядя на остывшую золу!..
1964
Женщина купается в реке
Перевод Н. Гребнева
Женщина купается в реке,
Солнце замирает вдалеке,
Нежно положив на плечи ей
Руки золотых своих лучей.
Рядом с ней, касаясь головы,
Мокнет тень береговой листвы.
Затихают травы на лугу,
Камни мокрые на берегу.
Плещется купальщица в воде, —
Нету зла, и смерти нет нигде.
В мире нет ни вьюги, ни зимы,
Нет тюрьмы на свете, нет сумы,
Войн ни на одном материке:
Женщина купается в реке!..
1964
«Спасибо вам, мои учителя…»
Перевод Н. Гребнева
Спасибо вам, мои учителя,
Вам, горцам, мудрым, как сама земля!
Я ваш закон перенимал с любовью,
Учился вашему немногословью.
Учился я молчанью вашей боли,
Учился речи доброй в час застолья.
1965
«Среди миров огромных и светил…»
Перевод Н. Гребнева
Среди миров огромных и светил
Пусть я всего песчинкой малой был,
Но и песчинкой малой — и таким,
Наверное, я был необходим.
Моя была мгновенна с жизнью связь.
Но жизнь и без меня не обошлась.
1965
«Я спал в траве однажды…»
Перевод Н. Гребнева
Я спал в траве однажды. И под утро
Необычайный сон приснился мне,
Мне снился чудный сон — мне снилось, будто
Все беды мира были лишь во сне.
А наяву мир не будили трубы,
Не строились во фронт ефрейтора
И венский обыватель Шикльгрубер —
По-прежнему подручный маляра.
И не было ни пламени, ни дыма,
И нету крови ни на чьей душе,
И в прах не превращалась Хиросима,
И друг мой не погиб на Сиваше.
Я спал в траве. Мне снилось этой ночью,
Что счастлив мир, нет ни на ком вины,
Что мать меня встречала в доме отчем
В тот день, когда вернулся я с войны;
Что нету истин правильных, но стертых,
Что время не было вовек таким,
Когда мы дружно проклинали мертвых
И памятники ставили живым!..
Мне снилось, что прошли все беды мимо,
Я тихо спал в траве, и снилось мне:
Прах Хиросимы, печи Освенцима —
Все это с миром было лишь во сне!..
1965
Волы под дождем
Перевод Б. Ахмадулиной
На зеленой лужайке два черных вола,
И на серых рогах дождевая вода.
Мирен отдых волов. Их сюда привели
Грязь и камни дорог, где устали волы.
Перед ними — трава. И забыта арба,
На которую грузят зерно и дрова.
На зеленой лужайке два черных вола,
И на серых рогах — дождевая вода.
1965
Говорю с чинарой и колосьями
Перевод Б. Ахмадулиной
— Чинара! Тихий дождь идет.
Ты счастлива, чинара?
— Да.
— А мне зелености твоей
Вполне достаточно для счастья,
И тень твоя во всю длину
Лежит на глади сновиденья.
— Колосья! Тихий дождь прошел.
Вы рады ли, колосья?
— Да.
— А мне для радости довольно
Того, что солнцу рады вы.
И длится жизнь, и хлеб печется,
И дети игры затевают,
И не хотят остановиться
Веселых мельниц жернова.
1968
Сон зимней ночью
Перевод Б. Ахмадулиной
Шел снег. И при медленном снеге,
При стуже небес и земли,
Чем глубже я спал, тем краснее
Тюльпаны Чегема
{94} цвели.
Шел снег. Но душа ночевала
Вдали от его белизны.
Шел снег. Зеленела чинара.
Как зелены зимние сны!..
1968
«Что б ни делалось на свете…»
Перевод Б. Ахмадулиной
Что б ни делалось на свете,
Всегда желавшем новизны,
Какой бы новый способ смерти
Ни вызнал старый бог войны, —
Опять, как при слепом Гомере,
Лоза лелеет плод вина,
Шум трав и розы багровенье —
Все как в иные времена.
И слез о смерти так же много,
И счастлив, кто рожден уже,
И так свежо, так старомодно
Бессмертья хочется душе!..
1969
«Деревья, вы — братья мои…»
Перевод Б. Ахмадулиной
Деревья, вы — братья мои.
Темнело, но все же могли
Глаза мои видеть при звездах,
Что впали вы в дрему и отдых,
Как путник, как пахарь, как кто-то,
Кого утомила работа.
Деревья, я раньше уйду.
Я
И снег, и рассвет, и пространство,
К которому сердце пристрастно.
Спасибо вам, братья мои,
За то, что метели мели,
За тень и за шорох листвы,
За то, что я — раньше, чем вы…
1973
Д. Кожахметов. В отряд к Фрунзе. 1958
ГРИГОРИЙ ЛАЗАРЕВ
(Род. в 1917 г.)
С хантыйского
{95}
Девушка из тайги
Перевод И. Фонякова
Знаю, в тесной избенке, вдали от селений,
Среди заячьих «строчек» она родилась.
Знаю, ползать училась — на шкуре оленьей,
А ходить — за подол материнский держась.
Подрастала — зимы не боялась морозной,
Новой жизни высокий закон поняла.
И пошла по счастливой дороге колхозной,
Свою силу — с народною силой слила!
А народная сила не знает преграды:
Перед ней расступилась глухая тайга.
Вот — проходит деревнею тучное стадо,
Электрический свет отражают снега…
Ясным утром, сощурясь от яркого света,
На крыльцо она выйдет — и скажет народ:
«Наша дочь, Александра Ивановна это,
Вместе с солнышком встала, на ферму идет!..»
«Поднимайтесь, красавицы, время на дойку!..»
Гладит морды коровам, халатом шуршит,
И поводит ушами любимица Зорька,
Узнавая хозяйку, подняться спешит.
Белой шапкой молочная пена клубится,
И ведра не хватает — еще подставляй!
Так по капле богатство народа творится,
Серебристою струйкой стекая за край.
А деревня — что город, большой и прекрасный,
Свет зари отражается в каждом стекле…
Александра Ивановна! Здравствуй и властвуй,
Будь счастливой всегда
На счастливой земле!
1958
ПИМЕН ПАНЧЕНКО
(Род. в 1917 г.)
С белорусского
{96}
Партизанская весна
Перевод Н. Асеева
Будут вечно сады расцветать,
Воздух ласточки резать крылами.
Будут девичьи ноги ступать
Луговин коврами.
Только прошлой весне не зацвесть
Беспечальною синью,
Холодна ее светлая весть
И горчит полынью.
Росы падают с тихих трав
На сапог, пропыленный в скитаньях,
Растревожив, расколыхав,
Словно ветви, воспоминанья.
Думал: только кровь и война,
Только грозные думы и речи, —
А припомнилась снова она,
Ее косы, и губы, и плечи.
Так и кажется: рядом шла б,
Улыбалась взглядом лучистым.
«Глянь — с березой целуется граб».
Или: «Сбей мне звезду на монисто».
Нет, она не пройдет сквозь леса.
Там, за фронтом, заветная хата.
Обрывает птиц голоса
Рокот пушечного раската.
1942
Герой
Перевод А. Прокофьева
Он крикнул гневно: «Вставай, пехота,
Мы не на пляже, а на войне!»
И лег на колючку, обвившую доты,
И сотня солдатских сапог — пол-роты —
Прошла по его спине.
Не он, а другие ушли в атаку,
Глушили гранатами блиндажи,
Кололи врагов и сжигали танки,
Чтоб знамя победы поднять спозаранку,
Чтоб ринуться снова на рубежи!
А он свое тело со ржавой колючки
Снял молча, без стона, и сразу тогда
Упал на траву, и стала горючей
Боль этой травы, и росы, и летучих
Ветров, что с Валдая примчались сюда.
1943
На родной земле
Перевод М. Светлова
Мы шагали на запад за огненной, дымной стеной,
Наши губы потрескались, лица пожар обагрил.
Беспощадно стучался в ворота железные бой:
«Беларусь, отвори!»
И когда вековые леса расступились кругом,
Мы увидели — роют песок на полянках,
Как быки перед смертным концом,
Вздыбив пушек рога,
С черной свастикой танки…
Не про это совсем написать я сегодня хочу,
Я к руинам родным всю дорогу свою уже знаю!
Я давно присягнул, что приду, обниму, залечу
Каждый милый вершок моего белорусского края.
Я не знаю, что чувствует аист или скворец,
Над деревней родной
Пролетая весенней порою,
И что чувствует травка, пробившись сквозь тьму наконец
Под горячее солнце
Весною.
Я навеки прославлю
Восторженным словом своим,
Дважды, трижды прославлю
Возвращения радостный срок!..
То ли теплый плач, то ли горький дым
Мне глаза заволок?…
Счастье есть!
Посмотрите туда,
Где плодов урожай собирают садовников руки.
Наша родина-мать собирает свои города
После тяжких боев,
После долгой и горькой разлуки.
Счастье есть!
Поглядите — над нашей Москвой
Золотые созвездья цветут и несутся победные марши!
Это — пот наш и кровь,
Это — наш урожай боевой,
Это — слава народа,
Это — праздник на улице нашей!
1944
Вечные слова
Перевод Б. Слуцкого
Нету фантастичнее преданий
Нашей фантастической земли…
В старину, седую, стародавнюю,
Жили скифы, мяли ковыли.
По степям они укоренились
И осели там давным-давно.
Бранью позабытою бранились.
Пили больше нашего вино.
Вечером, когда под небом мутным
Волчьих стай страшилися стада,
Разговаривали
мудрый с мудрым.
Дураки дурили, как всегда.
Слов рои под облака взлетали,
Гасли, словно на ветру костер.
Их пространства дикие глотали.
Их глушил немереный простор.
Говорят: слова не исчезают,
Языки, что род забыл людской,
В небесах по-прежнему витают,
Над тобой кружат и надо мной.
Говорят, что иногда в пустыне,
Там, где только тишина да ты,
В мертвенной и беспредельной стыни
Вдруг слова услышишь с высоты.
Слышишь: девушки поют, а кони
Долго ржут и скачут во всю прыть.
Если слышанное ты запомнишь,
Сможешь не открытое открыть.
И клочок уловленного сказа
Превратят твой разум и чутье В правду.
Пред тобой предстанет сразу
Скифов легендарное житье.
1946
Край поэтов
Перевод Я. Хелемского
С малолетства всем известно это:
На Смоленщине рождаются поэты,
У подножья Арарата, и в Сибири,
И на землях Руставели и Сабира
{97} ,
У Днепра, на Балтике, в Рязани,
На вершинах горных в Дагестане.
А еще я знаю край озер и сосен,
Где поэтов — как в лесу грибов под осень.
Там зозулями зовутся все кукушки.
Той землей из Кишинева ехал Пушкин.
Там цвела любовь Мицкевича
{98} к Марыле,
Там цари поэтов многих загубили,
И Тараса
{99} в Петербург вели березы
Той дорогой, что впитала боль и слезы.
Оттого певцов рождается немало
На земле, где столько славных побывало.
Там стихи слагались в хате, и в окопе,
И в чащобе, где ломались молний копья.
Там черемухе и вереску просторно,
Там и критики ведут себя пристойно.
Там сонеты дятел пишет на бересте
И поют всю ночь хозяева и гости.
В соответственной сердечной обстановке
Не чураются и чарочки «Зубровки».
А закусывают бульбой да грибками —
Подберезовиками, боровиками.
Там, где с бором дружат новые поселки,
На асфальт ложатся хвойные иголки.
Пляшут в озере угри, в реке — уклейки,
Соловей всю ночь играет на жалейке.
Земляничные, черничные полянки
Спозаранку говорят стихами Янки.
Где ж тот край, льняной, игольчатый, былинный,
Зов торжественный лосиный, звон пчелиный!
Там, где Беседь, там, где Припять, там, где Свитязь,
Приезжайте, поглядите, убедитесь.
Там на свадьбах неустанны цимбалисты,
Там невесты хороши и голосисты.
Там одна, голубоглазая и ласковая,
Завлекла меня припевками и плясками.
1963
«Небо журавлиное, холодное…»
Перевод Я. Хелемского
Небо журавлиное, холодное,
Мокрая осенняя земля.
Жизнь у птиц болотная, отлетная…
Вы вблизи видали журавля?
Выглядит он сирым горемыкою,
Чуть смешным… Нелегок топкий быт.
Но вдали прощальное курлыканье
Скорбно и возвышенно звучит.
1972
Даты
Перевод Я. Хелемского
Что даты? Это только вехи
Истории.
А для солдат,
Чьи навсегда закрылись веки,
Нет и не будет больше дат.
За той чертой — безмолвно, пусто.
Мы на кладбищах фронтовых
Возводим бронзовые бюсты
Не для погибших — для живых.
И для детей, чтоб не блуждали
Среди иных никчемных дат,
Чтоб песни в памяти звучали
И воскрешали тех солдат.
1973
БАГРАТ ШИНКУБА
(Род. в 1917 г.)
Переводы Я. Козловского
С абхазского
{100}
«Когда прервется дыханье…»
Когда прервется дыханье
И гаснуть мой станет взгляд,
Когда земные страданья,
Как вороны, отлетят,
Коснись, дневное светило,
Ты лба, что высок и бел,
Напомни, сколь надо было
Еще мне окончить дел.
Хоть слух мой ослаб жестоко,
Напомни, как пела мать,
И вспененного потока
Дай клекот мне услыхать,
Звучанье «Уари-дада»,
Свист плети и бег коня.
И это будет отрада
Последняя для меня.
Мой орех
Какой он, помню, был красавец —
Столетний дедовский орех,
Полой листвы ворот касаясь,
Гостей встречал он раньше всех.
Легко брал облако в охапку
Он, недоступный воронью,
И домотканую мою
Ловил рукой зеленой шапку.
Придя с водой,
под ним устало
Снимала мать с плеча кувшин.
И под орехом дед немало
Сплел на веку своем корзин.
И, к родовой причастный доле,
Орех слыхал с былых времен
Веселье свадеб в нашем доме
И причитанья похорон.
Разбуженный грозою в детстве,
Невольно думал я о том,
Что заслонит орех от бедствий
Под злыми сполохами дом.
Боролись ветки с ветром шалым
В косматом сумраке ночном.
И я дрожал под одеялом,
Шум листьев слыша за окном.
На гребнях гор закаты рдели,
С годами старился орех.
Его ровесники редели,
И пережить сумел он всех.
Но одряхлел, склонились ветки,
В морщинах старческих кора,
И листья кроны стали редки,
Пришла печальная пора.
Он, красовавшийся державно,
Лихих ветров встречал набег.
Мне жаль, коль будет он бесславно
В мученьях доживать свой век.
Полуживым, изнеможенным
Ему легко ль встречать беду?
Не лучше ль молнией сраженным
У мира рухнуть на виду?!
Капли
Дождь то пуще, то тише.
Вот уж сутки почти
Капли падают с крыши:
«Кули-чли», «кули-чли».
Солнца вешнего сабли
Туч распорют гряду,
Чтобы вспыхнули капли
За окошком в саду,
Чтоб туман поседелый
Ветру на спину лег,
Словно газовый, белый,
Невесомый платок.
Стебли с ветками зябли,
Это, видно, учли
Напевавшие капли:
«Кули-чли», «кули-чли».
Знаю: рано иль поздно,
Зазвенев на ветру,
Капли в стужу — замерзнут,
Испарятся — в жару.
Не желаю я песне
Этой участи, друг,
Не желаю, но если
Станет капелькой вдруг,
Упадет пусть на сердце
Человеку в пути,
И поможет согреться,
И поможет дойти.
ЛЮБОВЬ ЗАБАШТА
(Род. в 1918 г.)
С украинского
{101}
Освободители
Перевод Б. Кежуна
На шаг от смерти я была с сестрою.
Мы косы расчесали на заре,
Умылись теплой, мутною водою —
Из лужи в освенцимовском дворе.
Зачем умылись — и сама не знаю…
Уже сказали нам, что здесь, средь тьмы,
В печах, что до рассвета полыхают,
Все в черный пепел превратимся мы.
Сняла я с плеч косынку с васильками
По голубому полю, отдала
Красивой белоруске, что меж нами
Подружкой самой юною была.
Сняла сестренка туфельки — подарок
Любимой матери в недавний, добрый час,
Обула пару чьих-то рваных, старых
И молвила: «Для смерти в самый раз!»
И наши думы, как подстреленные птицы,
Поникли: мы почувствовали тут,
Что никогда нам даже не приснится
Овеянный мечтами институт.
И повели нас… Нас жара томила.
Паленым пахло. Смрад стоял кругом…
И вдруг издалека, весенним, милым,
На нас пахнуло свежим ветерком,
Цветущею черешней молодою
И клеем, что свисает, как янтарь,
На веточках… И все пережитое
Нам показалось сном…
И вспомнился «Кобзарь»,
Раскрытый на столе, весь освещенный
Простой крестьянской лампой со стеклом,
Родной отец, усталостью согбенный,
И мать, сидящая с вязаньем за столом…
А я то плачу, то светлею,
Читая в поздний час
Про атамана Гамалею,
Про гайдамаков и Кавказ.
Воспоминания мои
Вдруг залпы пушек оборвали:
Уже за лагерем бои…
Все ближе,
ближе…
Разбивали
Замки, засовы и кричали
Со всех концов:
— Свои!.. Свои!..
И хлопцы-москвичи вошли к нам спозаранок!
И отступила смерть, черна, как мгла.
Объятья… радость… слезы полонянок…
За нами жизнь с полей родных пришла…
Нам показалось, что с кремлевских башен
Незримо звезды алые сошли
На шапки воинов, защитой стали нашей,
Чтоб в край родной вернуться мы смогли.
А утром вновь мы в бой их провожали,
Туда, где даль в зарницах огневых.
Они «хохлушками» нас нежно называли,
Мы в шутку «москалями» звали их.
И, где бы ни была, пускай всегда мне светит
Любовь большая к братьям из Москвы…
Давно бы пепел наш развеял ветер,
Когда б не вы!
Казацкая
Перевод А. Прокофьева
Паруса подняли
Казаки на чайках,
В море выплывали,
От Днепра седого до Босфора
Мигом долетали.
Ой, летит расплата,
Месть за Украину,
Вспомнишь, враг проклятый,
День, когда в неволю гнал девчину,
Сжег родную хату.
Казацкая сила,
Казацкая правда —
Сабля как зарница!
Не дадим мы, турок бесноватый,
Над собой глумиться.
Заревело море,
Разгулялись волны,
Басурманы, бойтесь!
Вызволяло из неволи братьев
Казацкое войско.
Кровью турки платят,
Волны заревели,
Затрещали кости,
Стаи легких чаек на Царьград летели,
Прямо к туркам в гости.
Из гаремов душных
Пленниц вызволяли,
Из тюрьмы постылой.
Ждали вы, девчата, и дождались
Чаек быстрокрылых.
МИКЛАЙ КАЗАКОВ
(Род. в 1918 г.)
С марийского
{102}
Я иду по столице…
Перевод М. Матусовского
Я иду по столице, я снова и снова
Весь охвачен потоком московского дня, —
Москвичи понимают меня с полуслова,
Москвичи принимают, как брата, меня.
Мне рассказывал прадед, как, полон заботы,
Он бродил по Москве, поднимаясь чуть свет.
И когда его кто-нибудь спрашивал: — Кто ты?
— Черемис, инородец! — говорил он в ответ.
«Инородец» — я слова страшнее не знаю,
В нем растоптаны были людские права…
Как нам дышится вольно, столица родная,
Как легко мне с тобою сегодня, Москва!
Я иду по Москве, москвичи мне навстречу,
Наши думы едины, и путь наш един.
— Кто ты? — спросят меня, и тогда я отвечу:
— Я мариец, Советской страны гражданин!
1949
КАСТУСЬ КИРЕЕНКО
(Род. в 1918 г.)
С белорусского
{103}
Живу
Перевод Н. Сидоренко
Удивляешься ты,
Что я громом, бывает, гремлю
И что сам на себя
Вызываю огонь наяву.
Удивляешься ты,
Что бессилия я не терплю, —
Я живой, ты пойми,
Я живу.
Удивляться не надо
Ни строчкам суровым моим,
Ни тому, что тревога
Врывается в песен канву.
Мы с тобой на земле
На живой и горячей стоим, —
И для жизни, пойми,
Я живу.
Я для счастья живу,
Для веселого смеха живу,
Отдал душу свою
И друзьям, и нелегким делам.
Удивляться не надо,
Что, может, струну разорву,
А однажды и сердце свое
Разорву пополам.
Одного только я не смогу
Никогда и нигде:
В жизни плыть,
Как песок наплывает в траву,
И отсвечивать тускло,
Как лист пожелтелый в воде.
Не смогу… не смогу…
Я — живу…
Жажда
Перевод Я. Хелемского
Была у нас походная баклага —
Бесценное наследие отца.
В июльский день какое это благо —
Испить, избыть всю жажду до конца!
И с новой силой до изнеможенья
Косою нержавеющей махать,
Но сохнут губы, нарастает жженье,
И ты к баклаге тянешься опять.
Я брал с собой баклагу не однажды
На летний луг. И все ж не смог понять,
Зачем она — чтобы спасать от жажды
Или затем, чтоб жажду вновь рождать?
Я в этой жизни трав скосил немало,
Я знаю силу зноя и огня.
Нередко жажда за душу хватала
И жгла меня, и мучила меня.
Все дело в том, что даже капля влаги
Из недр не проступила бы вовек,
Не зазвенела бы на дне баклаги,
Когда бы так не жаждал человек.
Должно быть, жизнь всего дороже людям
Не оттого, что нам легко в пути,
А оттого, что путь горяч и труден
И мужество непросто обрести.
Иначе мир не мыслю. Жаждой новой
Переполняюсь я. И вновь и вновь
Меня влекут к баклаге той отцовой
Дни жарких дел, сыновняя любовь.
«Лес в ярко-пламенной цвете…»
Перевод А. Корчагина
Лес в ярко-пламенном цвете,
Золота он золотей.
Крикнешь — и эхо ответит,
Сыплются листья с ветвей.
Сыплются, опадают,
И я говорю в тишине:
— Какая ты молодая,
Земля, в осеннем огне!
Мой мир ушел за березки.
Широкий! Концы не видны!
Идет — и шагов отголоски
За небосклоном слышны.
Слышны — и не затихают…
Тебе присягаю вновь:
Какая ты дорогая,
Земля моих дум и снов!
На стежках былых
Перевод Н. Сидоренко
На стежках былых
пересыпала смолка траву.
— Травинки и смолка!
Растите! Я вас не сорву.
Она у другого,
и прошлые дни далеки.
А я только ей
заплетал полевые венки. —
Травинки и смолка
сбежались в кружок золотой
И вдруг засмеялись:
— Чудак же ты, право, какой!
Ей было носить
так же трудно веночки твои,
Как было легко
лгать о верной и вечной любви.
Ты иль не ты?
Перевод Я. Хелемского
Ты иль не ты мне приснилась рябиной
В яркой косыночке? Ты иль не ты
Заполыхала на фоне осенней
Сквозной красоты?
Ты иль не ты, как заря, отгорая,
С днем разлучаешься? Ты иль не ты
Отблеск бросаешь на лозы у плеса
С крутой высоты?
Ты иль не ты пролегла над землею
Звездной дорогою? Ты иль не ты
Стала в ночи утешеньем и светом
Для каждой версты?
Ты иль не ты? Отзовись издалёка
В горе и в радости. Ты иль не ты?
Где ты? Зачем изнывать заставляешь
От неизвестности и немоты?
Милый край, моя отчизна
Перевод Н. Сидоренко
Милый край, моя отчизна…
Песенка родимой над колыскою,
И над хатой неба синь свободная.
Милый край, моя отчизна…
С каждой памяткой своею близкою
Ты — звезда, навеки путеводная.
Милый край, моя отчизна…
Говор ветра с пущей вековечною,
И мечты, и юность дерзновенная.
Милый край, моя отчизна…
С солнечною ласкою сердечною
Навсегда ты радость неизменная.
Милый край, моя отчизна…
Сердце с сердцем дружески встречается.
В жизнь влечет, зовет дорога торная.
Милый край, моя отчизна…
Что с тобой сравнится-поравняется?
Ты одна на свете, неповторная.
Я не в силах остаться один…
Перевод Н. Сидоренко
Я не в силах остаться один,
Без людей,
Без надежд и мечтаний,
Без локтя друзей,
Без их веры в судьбу,
Без открытых сердец,
Без их песен и смеха,
Без слез, наконец…
Люди, в сердце моем
Ток живого огня.
Он живой потому,
Что есть вы у меня.
И, покуда я с вами,
Не тронет беда.
Все отдам я за счастье —
Быть вместе всегда!
ПАВЕЛ КОГАН
(1918–1942)
{104}
Гроза
Косым,
стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,
Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну.
И вниз. К обрыву. Под уклон. К воде.
К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло.
Далеко,
может быть, в края,
Где девушка живет моя.
Но, сосен мирные ряды
Высокой силой раскачав,
Вдруг задохнулась
и в кусты
Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
И снова тишь.
И снова мир,
Как равнодушье, как овал.
Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!
1936
Бригантина
(Песня)
Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем море
Бригантина поднимает паруса…
Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас…
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.
Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют.
Так прощаемся мы с серебристою,
Самою заветною мечтой,
Флибустьеры и авантюристы
По крови, упругой и густой.
И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза,
В флибустьерском, в дальнем море
Бригантина поднимает паруса.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют,
И, звеня бокалами, мы тоже
Запеваем песенку свою.
Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем море
Бригантина поднимает паруса…
1937
«Нам лечь, где лечь…»
Нам лечь, где лечь,
И там не встать, где лечь.
………………….
И, задохнувшись «Интернационалом»,
Упасть лицом на высохшие травы.
И уж не встать, и не попасть в анналы,
И даже близким славы не сыскать.
Апрель 1941 г.
МИХАИЛ ЛУКОНИН
(1918–1976)
{105}
Приду к тебе
Ты думаешь:
принесу с собой
усталое тело свое.
Сумею ли быть тогда с тобой
целый день вдвоем?
Захочу рассказать о смертном дожде,
как горела трава,
а ты —
и ты жила в беде,
тебе не нужны слова.
Про то, как чудом выжил, начну,
как смерть меня обожгла,
а ты, ты в ночь роковую одну
Волгу переплыла.
Спеть попрошу,
а ты сама
забыла, как поют.
Потом
меня
сведет с ума
непривычный уют.
Будешь к завтраку накрывать,
а я усядусь в углу.
Начнешь,
как прежде,
стелить кровать,
а я
усну
на полу.
Потом покоя тебя лишу,
вырою щель у ворот,
ночью,
вздрогнув,
тебя спрошу:
— Стой! Кто идет?!
Нет, не думай, что так приду.
В этой большой войне
мы научились ломать беду,
работать и жить вдвойне.
Не так вернемся мы!
Если так,
то лучше не приходить.
Придем — работать,
курить табак,
В комнате начадить.
Не за благодарностью я бегу —
благодарить лечу.
Все, что хотел, я сказал врагу.
Теперь работать хочу.
Не за утешением —
утешать
переступлю порог.
То, что я сделал,
к тебе спеша,
не одолженье, а долг.
Друзей увидеть,
в гостях побывать
и трудно
и жадно
жить.
Работать — в кузницу,
спать — в кровать.
Слова про любовь сложить.
В этом зареве ветровом
выбор был небольшой.
Но лучше прийти
с пустым рукавом,
чем с пустой душой.
1944
Пришедшим с войны
Нам не речи хвалебные,
нам не лавры нужны,
не цветы под ногами,
нам, пришедшим с войны.
Нет, не это.
Нам надо,
чтоб ступила нога
на хлебные степи,
на цветные луга.
Не жалейте,
не жалуйте отдыхом нас,
мы совсем не устали.
Нам — в дорогу как раз!
Не глядите на нас с умилением,
не
удивляйтесь
живым.
Жили мы на войне.
Нам не отдыха надо и не тишины.
Не ласкайте нас званьем:
«Участник войны»!
Нам —
трудом обновить
ордена и почет!
Жажда трудной работы
нам ладони сечет.
Мы окопами землю изрыли,
пора
нам точить лемехи
и водить трактора.
Нам пора —
звон оружья
на звон топора,
посвист пуль —
на шипенье пилы
и пера.
Ты прости меня, милая.
Ты мне жить помоги.
Сам шинель я повешу,
сам сниму сапоги.
Сам тебя поведу,
где дома и гроза.
Пальцы в пальцы вплету,
и глазами — в глаза.
Я вернулся к тебе,
но кольцо твоих рук —
не замок,
не венок,
не спасательный круг.
1945
Товарищам
Я живу на Песчаной,
приходите ко мне!
Снег и снег величавый
кружится в вышине.
Снег и снег, снег и снег…
Товарищи,
приходите скорей.
Снег оттопайте тающий,
веник есть у дверей.
Я прошел по дорогам
из Москвы в Сталинград,
и теперь я о многом
побеседовать рад.
Нам, товарищи, вместе
надо быть в этот час.
Я дорогою вести
встретил —
вести от вас.
Вести важные плыли
через лес, через степь,
в тех вагонах, что были
с меткой:
«Годен под хлеб».
Грейдер вытерт до лоска,
кони шли и быки,
от вестей на повозках
распирало мешки.
ЗИСы встречные пели,
было весело им,
и рессоры терпели
под зерном молодым.
Проводил меня снова
Сталинград на заре.
Мне не надо иного,
чем земля в сентябре!
Я живу…
Вы запомните.
Приходите, друзья.
Мне без вас в этой комнате
больше просто нельзя.
Я зову вас надолго —
до конца моих дней,
как зовет меня Волга
и поэма о ней.
Собирайтесь от Волги,
от речонки любой,
чистый ветер тревоги
захватите с собой.
Отогрева, обдува
жду от ветра того.
Очень надо обдумать
мне себя самого.
Снег, товарищи.
В инее
стекла окон моих.
Что-то очень уж зимнее
нанесло на двоих.
Где сегодня летаете?
Приходите ко мне,
отдышите, оттайте
иней тот на окне!
1955
«Нет памяти у счастья…»
Нет памяти у счастья.
Просто нету.
Я проверял недавно
и давно.
Любая боль оставит сразу мету,
а счастье — нет.
Беспамятно оно.
Оно как воздух — чувствуем и знаем,
естественно, как воздух и вода.
Вот почему
и не запоминаем,
и к бедам не готовы никогда.
О счастье говорить —
и то излишне.
Как сердце — полагается в груди,
пока не стиснет боль, оно неслышно
и кажется — столетья впереди.
Удивлена ты:
я смеюсь, не плачу,
проститься с белым светом не спешу.
А я любую боль переиначу,
я памятью обид не дорожу.
Беспамятное счастье я не выдам,
мы — вдох и выдох,
связаны в одно.
Нас перессорить
бедам и обидам —
меня и счастье —
просто не дано.
1962
«Из глины он тебя лепил…»
Из глины он тебя лепил,
податливую, словно глина.
А я тогда еще любил
легко,
доверчиво,
старинно.
Он убеждал тебя, что ты
не то, что есть.
Ты замирала.
Свои кудряшки подбирала,
меняла детские черты.
Он поправлял рукою позу,
корпел, неловкий ученик,
и из поэзии на прозу
переводил тебя в тот миг.
Ты в восхищении застыла.
Лепил он, лестью заманя.
Ты незаметно уходила
и от себя
и от меня.
Хотела крикнуть,
но смолчала.
Была сладка тебе беда.
Ты все тончала и мельчала —
и растворилась без следа.
Вот выставлена.
Ну и что же?
Да это вовсе не она.
Изображенье у окна
с той, выдуманной мной, не схоже.
Ни в чем ее не нахожу,
легко смеюсь стряпне бездарной
и мимо кошечки базарной
так равнодушно прохожу.
Та, что любил, — в моей судьбе,
я выдумал ее, как сказку.
А эту
гипсовую маску
посмертную —
возьми себе.
1962
ДЖОРДЖЕ МЕНЮК
(Род. в 1918 г.)
С молдавского
{106}
Очарование
Перевод К. Ковальджи
Милая, не знаю, что это со мною,
Сколько солнца в мире! Кружат птичьи стаи…
Все по тем же тропкам я брожу с тобою,
Ты глядишь лукаво. Любишь ли — не знаю.
Отчего страдаю — долго, молчаливо?
Слов в душе так много непроизнесенных.
К золотым кувшинкам поманила ива,
Подмигнули маки на полях зеленых.
Я целую руку, как листок полыни,
Руку, что ласкает, может, без значенья.
Смотришь — и не видишь. В этой легкой стыни
Есть очарованье свежести вечерней.
Я тебя, родная, крепко обнимаю.
Все боюсь, что в буре вдруг да потеряю.
1946
По тропинкам степным
Перевод В. Кочеткова
Много раз воспевал я родные просторы,
Синеву небосвода, морскую стихию,
И озерную гладь, и зубчатые горы,
И поляны в цвету, и чащобы глухие.
По тропинкам степным мое детство бродило,
По зеленым холмам с их красою неброской.
И печаль по душе моей юной скользила,
Словно облака тень по крестьянской полоске.
Дорог мне и поныне край юности милый,
Рад я небу родному и полю родному,
Только нынче открылись в нем новые силы
И знакомая песня звенит по-иному.
Стал я зорче глазами и сердцем моложе,
Предо мной распахнулись бескрайние дали.
И родные напевы теперь мне дороже,
И родные просторы роднее мне стали.
1954
НАЗАР НАДЖМИ
(Род. в 1918 г.)
С башкирского
{107}
Родной деревне
Перевод Е. Николаевской
Я видел страны… Но, мой край родной,
Как сын с отцом, с тобою мы похожи.
Ты — мой отец. И ты — учитель мой.
Певец я… Но и сам певец ты тоже.
Пою я песни. Но они — твои,
Ты подарил их мне. Пел мне их в детстве.
«Бери, — сказал, — и далее твори,
И огласи, и не страшись последствий!»
Я видел страны… За горой — гора.
И песни там задумчивы, как горы,
И вместе с тем в них горных рек игра,
Скал вознесенных строгие узоры…
Я видывал бескрайние поля,
Где медленные реки русла рыли.
Не там ли над раздольем ковыля
Широких песен распластались крылья?
А ты, мой край, ты обладаешь сам
Полями — но они не так широки,
Горами — но они не так высоки,
Не ровня тем, что рвутся к небесам!..
Есть реки — но они бегут не с гор,
Кончаются, едва дойдя до луга:
Весь путь легко охватывает взор…
Да, мы с тобой похожи друг на друга,
И о тебе молва, вовсю трубя,
Вовек не разносила громкой славы,
Мой край! Во всем похож я на тебя,
И сыном я твоим зовусь по праву.
Капельки
Перевод Е. Аксельрод
С гор Уральских днем и ночью
Капельки — кап-кап…
Днем и ночью камень точат
Капельки — кап-кап…
Скольких жизней след на свете
Навсегда пропал!
Сколько снес деревьев ветер
И разрушил скал!
И сменялись весны, зимы,
Шли и шли года,
Но — кап-кап — неутомимо
Капала вода.
Продолбили капли камень,
И — чудесный миг! —
Вдруг, таившийся веками,
Зазвенел родник.
Песенка звучит простая
Меж высоких круч —
Труд, упорство прославляя,
Бьет веселый ключ.
ИОСИФ НОНЕШВИЛИ
(Род. в 1918 г.)
С грузинского
{108}
Город мечты и поэтов
Перевод В. Соколова
Тбилиси, ты город мечты и поэтов,
Ты сказочный город волшебного края.
Когда, в голубую рубашку одетый,
Лежал у ворот твоих я, умирая,
Нашли меня. Может, Вахтанга стрела
Попала в меня, хоть в фазана он метился.
А может быть, сабля мне в сердце вошла,
Когда я с врагом у ворот твоих встретился.
Я сын твоих далей, легенд и заветов…
Тбилиси, ты город мечты и поэтов.
«Ночь поднялась…»
Перевод Н. Тихонова
Ночь поднялась
Над горной грядою,
В тьму опрокинув корзину алмазов.
Старый Сигнахи
Встал тамадою,
Ширь озирая сверкающим глазом.
Словно проносится
Ласточек стая,
Тонко шуршат алазанские травы,
И серебрится
Гомбори крутая
Гривой лесов на камнях величавых.
Юноши давят
Сок виноградный,
Свет золотистый в марани струится.
Жаждет гортань
Маджари отрадного,
Тихою песней жаждет напиться.
Грязные арбы
Тянутся с лязгом,
Сладостен запах плодов урожая.
Звездные четки
Висят над Кавказом,
Как в зеркалах, в ледниках отражаясь.
«Когда мы руки обовьем…»
Перевод А. Вознесенского
Когда мы руки обовьем,
И рядом локоны твои,
И сердце ходит ходуном, —
Сердцебиение земли
В сердцебиении твоем!
В нем бури голос обрели,
В нем бьет разбуженный прибой,
Стучат колеса вразнобой,
«Тамтамов» танец огневой
И сборища бушуют в нем,
И я с тобой и — не с тобой —
Со всеми —
и совсем вдвоем!
Когда я с музою вдвоем,
Я, от волненья онемев,
Пишу под аккомпанемент
Деревьев, птиц. И горный гром
В оконный ломится проем.
Поэзия — как водоем,
Питается из родников,
Ручьев и горных ледников.
Стихи диктует жизнь сама.
И девочка из Самоа,
Как будто искорка, смела,
Бежит по проволоке строк.
И ты, египетский стрелок,
И ты, горийский агроном,
И вы, Бенгалии огни,
Вы — строки в творчестве моем.
О, сколько у меня родни!
О нет, мы с музой не одни —
Со всеми
и совсем вдвоем!
Когда передо мною зал,
Огромное полукольцо,
И сумрак крылья разметал,
И сотни глаз со всех концов,
И, как на белизне страниц
Из букв сливаются слова,
Так сотни люстр и сотни лиц
В одно сливаются лицо —
В твое лицо, в его овал.
И тает мрак, и зал пропал.
Я снова говорю с тобой,
С твоей любовью и судьбой,
С твоим застенчивым огнем.
И мы с тобой, с одной тобой —
Со всеми —
и совсем вдвоем!
«Вот я смотрю на косы твои грузные…»
Перевод Б. Ахмадулиной
Вот я смотрю на косы твои грузные,
как падают,
как вьются тяжело…
О, если б ты была царицей Грузии, —
о, как бы тебе это подошло!
О, как бы подошло тебе приказывать!
Недаром твои помыслы чисты.
Ты говоришь —
и го рода прекрасного
в пустыне
намечаются
черты.
Вот ты выходишь в бархате лиловом,
печальная и бледная слегка,
и, умудренные твоим прощальным словом,
к победе
устремляются войска.
Хатгайский шелк пошел бы твоей коже,
о, как бы этот шелк тебе пошел,
чтоб в белой башне из слоновой кости
ступени целовали твой подол.
Ты молишься —
и скорбь молитвы этой
так недоступна нам и так светла,
и нежно посвящает Кашуэта
тебе одной свои колокола.
Орбелиани пред тобой,
как в храме,
молчит по мановению бровей.
Потупился седой Амилахвари
пред царственной надменностью твоей.
Старинная ты,
но не устарели
твои черты… Светло твое чело.
Тебе пошла бы нежность Руставели…
О, как тебе бы это подошло!
Как я прошу…
Тебе не до прошений,
не до прощений
и не до меня…
Ты отблеск славы вечной и прошедшей
и озаренье нынешнего дня!
Светляки
Перевод Е. Евтушенко
Ночь такая сегодня долгая.
Мы с тобой молчим у реки.
Над тобою, как звездочки добрые,
Тихо кружатся светляки.
Твои черные очи задумались.
Но о ком? Не о нас ли двоих?
Светляки в твоих косах запутались.
Не сожгут ли нечаянно их?
Снова мне в душу весна ворвалась
Перевод Б. Окуджавы
Маковых колоколов перезвон.
Снова весна, как танцовщица, вертится.
День так просторен и так обнажен,
что в кратковременность жизни не верится.
Снова мне в душу весна ворвалась.
Да неужели морозы нас мучали?!
Первая почка в саду взорвалась,
и затрещали разрывы над сучьями.
Сердце мое, не поддайся, гляди,
майской сумятицей перевоплощено.
Дай мне собрать воедино в груди
все, что весной предо мною разложено.
Суша и небо взрастили меня.
Разве с годами их страсть уменьшится!
Мир, состоящий из роз и огня,
весь до краев в мое сердце вместится.
Снова над полем пчелиный басок.
Хочется щедростью с маем помериться.
День так просторен и так он высок,
что в кратковременность жизни не верится.
НИКОЛАЙ ОТРАДА
(1918–1940)
{109}
Футбол
И ты войдешь. И голос твой потонет
В толпе людей, кричащих вразнобой.
Ты сядешь. И, как будто на ладони,
Большое поле ляжет пред тобой.
И то мгновенье, верь, неуловимо,
Когда замрет восторженный народ, —
Удар в ворота! Мяч стрелой и… мимо.
Мяч пролетит стрелой мимо ворот.
И, на трибунах крик души исторгнув,
Вновь ход игры необычайно строг…
Я сам не раз бывал в таком восторге,
Что у соседа пропадал восторг,
Но на футбол меня влекло другое,
Иные чувства были у меня:
Футбол не миг, не зрелище благое,
Футбол другое мне напоминал.
Он был похож на то, как ходят тени
По стенам изб вечерней тишиной,
На быстрое движение растений,
Сцепление дерев, переплетенье
Ветвей и листьев с беглою луной.
Я находил в нем маленькое сходство
С тем в жизни человеческой, когда
Идет борьба прекрасного с уродством
И мыслящего здраво
с сумасбродством.
Борьба меня волнует, как всегда.
Она живет настойчиво и грубо
В полете птиц, в журчании ручья,
Определенна,
как игра на кубок,
Где никогда не может быть ничья.
1939
Мир
Он такой,
Что не опишешь сразу,
Потому что сразу не поймешь!
Дождь идет…
Мы говорим: ни разу
Не был этим летом сильный дождь.
Стоит только далям озариться —
Вспоминаем
Молодость свою.
Утром
Заиграют шумно птицы…
Говорим: по-новому поют.
Всё:
Мои поля,
Долины, чащи,
Солнца небывалые лучи —
Это мир,
Зеленый и журчащий,
Пахнущий цветами и речистый.
Он живет
В листве густых акаций,
В птичьем свисте,
В говоре ручья.
Только нам
Нельзя в нем забываться
Так,
Чтоб ничего не различать.
……………….
Чтоб цвела земля во всей красе,
Чтобы жизнь цвела,
Гудела лавой,
Старое сметая на пути.
Ну, а что касается до славы —
Слава не замедлит к нам прийти.
1939
НИКОЛАЙ ТРЯПКИН
(Род. в 1918 г.)
{110}
«Я уйду за красные туманы…»
Я уйду за красные туманы
Через те закатные мосты.
За далеким полем, у бурьяна,
Жди меня до поздней темноты.
Говорят, что там, за гранью алой,
Где садится солнце на шесток,
Зацветает силой небывалой
Огнекрылый сказочный цветок;
Что едва, мол, тронь его рукою —
И земля в таинственном саду,
И восходят звезды над тобою
На великом песенном ходу…
Дай же мне веселые заклятья
От глухой и скучной слепоты,
И пускай той верой на закате
Загорятся дальние кусты.
Жди меня, раздольная, у края,
За полями гаснущего дня…
Загорюсь тем светом, не сгорая,
И цветок достану из огня.
И пускай идет себе прохожий,
Ничего не думая про нас,
Превратись ты в камень придорожный,
Чтобы скрыться от ненужных глаз.
Ну, а если вещие зарницы
Все же крикнут о конце моем, —
Ты сама на этой вот странице
Распустись негаданным цветком.
И пускай он — вечный и желанный
Зазвенит гармошкой у крыльца,
И зажгутся тайной несказанной
И земля, и воздух, и леса.
И никто вовек не перестанет
Забываться в песне, как во сне.
А цветок в глаза ему заглянет
И расскажет сказку обо мне.
1962
Скрип моей колыбели
Скрип моей колыбели!
Скрип моей колыбели!
Смутная греза жизни,
Зимний покой в избе.
Слышу тебя издалёка,
Скрип моей колыбели,
Помню тебя из глубока,
Песню пою тебе.
Сколько прошло морозов!
Сколько снегов промчалось!
Сколько в полях сменилось
Пахарей и гонцов!
Скрип моей колыбели!
Жизни моей начало!
Скрип моей колыбели!
Думка моих отцов.
То ли гудок пастуший,
То ли поход вчерашний,
То ли моих кормилиц
Голос в ушах стоит…
Скрип моей колыбели!
Вымах отцовской шашки.
Скрип моей колыбели!
Звон боевых копыт.
Сколько снегов промчалось!
Сколько дождей пролилось!
Сколько опять — в коренья,
Сколько опять — в зерно!
Грозы прошли над миром,
Древо отцов свалилось —
И на сыновние плечи
Прямо упало оно.
Пусть же на тех погостах
Грустно поют свирели,
Пусть говорят на струнах
Ветры со всех сторон.
Пусть же послышится в песне
Скрип моей колыбели —
Жизни моей человечьей
Благословенный сон.
Скрип моей колыбели!
Скрип моей колыбели!
Древняя сказка прялки,
Зимний покой в избе.
Слышу тебя издалёка,
Скрип моей колыбели,
Помню тебя из глубока,
Песню пою тебе.
1966
«Суматошные скрипы ракит…»
Суматошные скрипы ракит,
Снеговая метель-хлопотушка.
Не на курьих ли ножках стоит
У тебя твоя вдовья избушка?
Ни двора, ни крыльца, ни сеней.
Только снег, что бельмо, на окошке.
Да на крыше концы от жердей —
Как у ведьмы надбровные рожки.
Да сермягой обитая дверь,
Да за вьюгой ни зги в переулке…
Уж не ты ли тут скачешь теперь
На какой-то подмазанной втулке?
Только ворон — кричи не кричи,
Да и ты не страшна мне, колдунья.
И всю ночь мы с тобой на печи
Да под шубкой твоей, да под куньей.
Пусть рыдает метель, как сова,
Пусть грохочут в лесах буреломы.
В нас такие пылают дрова,
Что сгорят все другие хоромы.
Только ночь, да крутель, да сверчок,
Только волчья грызня за избою.
Да заглохшая дверь — на крючок,
Да сиянье твое надо мною.
И всю ночь, как шальная, летит
Грозовая под нами подушка,
И с питьем недопитым стоит
За трубою волшебная кружка.
1970
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ
(Род. в 1918 г.)
{111}
«Имел бы я…»
Имел бы я
Всевещий ум пророка,
Я б заглянул
В грядущие года:
Куда меня,
Взметенная высоко,
Пригонит жизни
Быстрая волна?
Имел бы я
Магические призмы,
Я подсмотрел бы
Вопреки годам,
Что даст мне мир,
В который был я призван,
И что я сам
За это миру дам.
Хотя б на миг
Из тех далеких далей
Единый миг
Приблизился ко мне,
Чтобы понять,
Зачем меня призвали,
Что должен я
Исполнить на земле.
Рабская кровь
Вместе с той,
Что в борьбе проливалась,
Пробивалась из мрака веков,
Нам, свободным,
В наследство досталась
Заржавелая рабская кровь.
Вместе с кровью
Мятежных,
Горячих,
Совершавших большие дела,
Мутноватая жижица стряпчих,
Стремянных
В нашу жизнь затекла.
Не ходил на проверку к врачу я,
Здесь проверка врача не нужна,
Подчиненного робость почуяв,
Я сказал себе:
Это она!
Рос я крепким,
Под ветром не гнулся,
Не хмелел от чужого вина,
Но пришлось —
Подлецу улыбнулся
И почувствовал:
Это она!
Кровь раба,
Презиравшая верность,
Рядом с той,
Что горит на бегу, —
Как предатель,
Пробравшийся в крепость,
Открывает ворота врагу,
Как лазутчик,
Что силе бойцовой
Прививает трусливую дрожь.
Не убьешь ее пулей свинцовой
И за горло ее не возьмешь.
Но борюсь я,
Не днями — годами
Напряженная длится борьба.
Год за годом,
Воюя с врагами,
Я в себе
Добиваю раба.
Совесть
Упадет голова —
Не на плаху,
На стол упадет,
И уже зашумят,
Загалдят,
Завздыхают.
Дескать, этот устал,
Он уже не дойдет…
Между тем
Голова отдыхает.
В темноте головы моей
Тихая всходит луна,
Всходит, светит она,
Как волшебное око,
Вот и ночь сметена,
Вот и жизнь мне видна,
А по ней
Голубая дорога.
И по той,
Голубой,
Как бывало,
Спешит налегке,
Пыль метя подолом,
Пригибая березки,
Моя мама…
О, мама!
В мужском пиджаке,
Что когда-то старшой
Посылал ей из Томска.
Через тысячи верст,
Через реки,
Откосы и рвы
Моя мама идет,
Из могилы восставши,
До Москвы,
До косматой моей головы,
Под веселый шумок
На ладони упавшей.
Моя мама идет
Приласкать,
Поругать,
Побранить,
Прошуметь надо мной
Вековыми лесами.
Только мама
Не может уже говорить,
Мама что-то кричит мне
Большими глазами.
Что ты, мама?
Зачем ты надела
Тот старый пиджак?
Ах, не то говорю!
Раз из тьмы непроглядной
Вышла ты,
Значит, делаю что-то не так,
Значит, что-то
Со мною неладно.
Счастья нет.
Да и что оно!
Мне бы хватило его,
Порасчетливей будь я
Да будь терпеливей.
Горько мне оттого,
Что еще никого
На земле я
Не сделал
Счастливей.
Никого!
Ни тебя
За большую твою доброту,
И ни тех, что любил я
Любовью земною,
И ни тех, что несли мне
Свою красоту,
И ни ту,
Что мне стала
Женою.
Никого!
А ведь сердце веселое
Миру я нес,
И душой не кривил,
И ходил только прямо.
Ну, а если я мир
Не избавил от слез,
Не избавил родных,
То зачем же я,
Мама?…
А стихи!
Что стихи?!
Нынче многие
Пишут стихи,
Пишут слишком легко,
Пишут слишком уж складно…
Слышишь, мама,
В Сибири поют петухи,
А тебе далеко
Возвращаться
Обратно…
Упадет голова —
Не на плаху,
На тихую грусть…
И пока отшумят,
Отгалдят,
Отвздыхают, —
Нагрущусь,
Настыжусь,
Во весь рост поднимусь,
Отряхнусь
И опять зашагаю!
«Наше время такое…»
Наше время такое:
Живем от борьбы
До борьбы.
Мы не знаем покоя, —
То в поту.
То в крови наши лбы.
Ну, а если
Нам до ста
Не придется дожить,
Значит, было не просто
В мире
Первыми быть.
«О Русь моя!..»
О Русь моя!..
Огонь и дым,
Законы вкривь и вкось.
О, сколько именем твоим
Страдальческим клялось!
От Мономаховой зари
Тобой — сочти пойди! —
Клялись цари и лжецари,
Вожди и лжевожди.
Ручьи кровавые лились,
Потоки слов лились.
Все, все — и левые клялись,
И правые клялись.
Быть справедливой
Власть клялась,
Не своевольничать в приказе.
О, скольких возвышала власть,
О, скольких разрушала власть
И опрокидывала наземь!
У ложных клятв
Бескрыл полет,
Народ — всему судья.
Лишь клятва Ленина живет,
Лишь клятва Ленина ведет,
Все клятвы перейдя.
Народ,
Извечный, как земля,
Кто б ни играл судьбой,
Все вековые векселя
Оплачены тобой.
Не подомнет тебя напасть,
Не пошатнешься ты,
Пока над властью
Будет власть
Твоей земной мечты.
«Знакомо, как старинный сказ…»
Знакомо,
Как старинный сказ,
Уходят женщины от нас.
Они уходят
И уносят
Холодный блеск
Холодных глаз.
Была нежна
И влюблена,
Была так долго
Мной пьяна.
Так не ужель
В ней не осталось
Ни капли
Моего вина?
Зачем любить?
Зачем гореть?
Зачем в глаза
Другой глядеть?
Увы! Уму непостижимы
Две тайны:
Женщина и смерть!
СИЛЬВА КАПУТИКЯН
(Род. в 1919 г.)
С армянского
{112}
«Нет! Я видеть тебя не хочу!..»
Перевод Л. Мартынова
Нет! Я видеть тебя не хочу!
Если очи станут искать —
Веки темные опущу.
А язык мой тебя назовет —
Я зубами его прикушу:
«Замолчи, не шепчи, сумасброд!»
Ну а если из сердца — крик?
Если сердце начнет тебя звать,
Как мне сердца унять язык,
Как язык мне сердца унять?
1945
«В дыму горючем горького прощанья…»
Перевод М. Алигер
В дыму горючем горького прощанья
Твоей вины огонь гасила я.
Как часто ревность мучила меня.
Ее душила я без содроганья
В дыму горючем горького прощанья.
И этот дым клубился столько раз,
Что в нем огонь любви моей погас…
1946
«В хрустальной вазе на столе твоем…»
Перевод М. Алигер
В хрустальной вазе на столе твоем
Стоят цветы, подаренные мною.
Ты не меняешь воду. День за днем
Они все ниже никнут головою.
И падают, как слезы, лепестки,
Касаясь чуть твоей сухой руки…
1946
«Не подарила жизнь мне стройности…»
Перевод Е. Евтушенко
Не подарила жизнь мне стройности
Своих армянских дочерей,
Их черт печальности и строгости,
Очей, которых нет черней.
Но, чтобы мучилась и пела я,
А не ждала одних цветов,
Она дала мне очи пепельные —
Останки пламени веков…
1946
Любовь к родине
Перевод Б. Окуджавы
Бездонны любви материнской глуби,
И ею не зря дорожат.
Но и медведица тоже любит
Глупых своих медвежат.
Ярок огонь сердец влюбленных,
И горек им ветер разлук.
Но ведь и голуби головы клонят,
Теряя своих подруг.
Но есть любовь в человечьих душах,
Которой в природе нет.
Это — родины свет зовущий,
Отчего дома свет.
Нет, не инстинкт и не сила крови
К высотам ее привели.
Долго пришлось за этой любовью
Странствовать детям земли…
1946
«Наверное, меня поймет лишь мать…»
Перевод В. Звягинцевой
Наверное, меня поймет лишь мать:
У материнских душ один язык.
Ступая тихо, чтоб не расплескать,
Стакан воды принес мне Араик.
Благословен труд материнский мой!
Всю жажду долгих лет в короткий миг
Я утолила этою водой,
Которую принес мне Араик…
1946
Прошлое моего народа
Перевод В. Звягинцевой
Армянам за рубежом
Мой древний народ, мой мудрый народ,
С ореховым деревом ты сравним:
Ты в мира саду, средь горных высот,
Рос в самом конце, под ветром сухим.
Так мало земли под стволом твоим
И так распростерты руки ветвей,
Что падали век за веком вдали
Плоды, вскормленные кровью твоей,
На пыльные тропы чужой земли.
1946
«Смеюсь несдержанно и бойко…»
Перевод Б. Окуджавы
Смеюсь несдержанно и бойко,
Чтоб ты не видел, как мне горько.
Смеюсь, и больше ничего.
Смеюсь, чтоб ты за смехом этим
Не распознал и не заметил
Тревоги сердца моего.
Я легкомысленной девчонкой
Шепчу, шепчу себе о чем-то
И что-то вздорное пою.
Чтоб слез моих не мог ты видеть,
Чтоб невзначай тебе не выдать
Любовь мою!..
1948
Земля
Перевод М. Петровых
Здесь, в дремучей чаще, в сердце леса,
Землю изувечила война.
Но истлело ржавое железо,
Темная воронка чуть видна,
Вся позаросла травою нежной,
Старый дуб раскинул корни в ней,
И уютно, мирно, безмятежно
Белый гриб уселся меж корней.
Ель широколапая над краем
Прикрывает трещины земли.
Всюду, всюду, всюду — нет числа им,
Незабудки ярко расцвели.
Нет, мы не забыли, не забудем
Даже в этом полдне голубом,
Что земля цветет на радость людям.
Что земля цветет не ради бомб!
1952
«Да, я сказала: «Уходи»…»
Перевод М. Петровых
Да, я сказала: «Уходи», —
Но почему ты не остался?
Сказала я: «Прощай, не жди», —
Но как же ты со мной расстался?
Моим словам наперекор,
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
1953
«Ты писем от меня не жди…»
Перевод М. Петровых
Ты писем от меня не жди.
Мне трудно в письмах жить душою.
Огонь, бушующий в груди,
В них меркнет, слово в них чужое.
Как будто кто-то за меня
Писал их, избежав признаний.
Сердечного стыжусь огня,
Стыжусь рассказанных страданий.
Но таинство, но волшебство —
Поэзия — преград ей нету:
В ней, скрытое от одного,
Звучит, всему открыто свету.
«От своей же силы я устала…»
Перевод И. Лиснянской
От своей же силы я устала,
Так устала — больше не могу, —
И от славы, словно от обвала,
Я бегу.
Ты, как сын природы, простодушный…
Мне б горянкой робкой прикорнуть
У тебя под мышкою послушно
И всплакнуть…
«Что ж, торжествуй! Ты одержал победу…»
Перевод И. Лиснянской
Что ж, торжествуй! Ты одержал победу,
Зови меня послушною рабой,
Но ненадолго поддалась я бреду —
Безумью стать вдруг не самой собой.
Гляжу в твои глаза, — в них ночь беззвездна,
Я заплуталась в этой гиблой тьме,
Но выбраться мне из нее не поздно, —
Покамест я еще в своем уме!
Вот на лице твоем победы скука, —
Предшествовала ей всего игра, —
А на моем лице, ты видишь, — мука.
Что ж, торжествуй! Но как близка пора,
Когда я на тебя совсем бесслезно,
Не любящая, гордая, взгляну
И медленно пойду туда, где звездно
И мрак не застилает вышину.
Ассирийка
Перевод Б. Ахмадулиной
На миг замедлив деловитый шаг,
Огромный город, вспыльчивый и властны,
К ее лицу подносит свой башмак,
Что чистила и украшала ваксой.
Как шаль ее старинная бедна,
Как пристально лицо над башмаками,
И чернота ее труда — бела
В сравнении с двумя ее зрачками.
О, те зрачки — в чаду иной поры
Повелевали властелинам мира,
И длились ниневийские пиры,
И в семь цветов цвела Семирамида.
Увы, чрезмерна роскошь этих глаз
Для созерцанья суетной дороги,
Где мечутся и попирают грязь
Бесчисленные ноги, ноги, ноги…
Что слава ей, что счастье, что судьба?
Пред обувью, замаранной жестоко,
Она склоняет совершенство лба
В гордыне или кротости Востока.
«Я слабой была, но я сильной была…»
Перевод Б. Ахмадулиной
Я слабой была, но я сильной была,
Я зла не творила, а каялась долго,
Небрежно, небрежно жизнь прожила —
Подобно ребенку, царице подобно.
Мне надобно было воскликнуть: «Постой!
Продли мою жизнь! Дай побыть молодою!»
Сказала: «Ступай! Этой ночью пустой
Дай мне посмеяться над нашей бедою!»
Я верила чаду речей и лица,
Когда же мне в них обмануться случилось,
Сама отвела я глаза от лжеца,
И это была моя месть или милость.
Вовек не искала того, что нашла,
А то, что нашла, потеряла навеки.
Богатством утрат возгордилась душа,
Надменно отринув хвалу и наветы.
Я слабой была, но я сильной была,
Я зла не творила, а каялась долго,
Небрежно, небрежно жизнь прошла —
Подобно ребенку, царице подобно.
Остановись, человек!
Перевод Б. Ахмадулиной
Та женщина, неведомая мне,
И по причине, неизвестной мне,
Так плакала, припав лицом к стене,
Беду свою всем телом принимая.
Внимала плачу женщины стена.
Я торопилась — дальняя страна
Меня ждала. Мой поезд был — «стрела».
Шла в даль свою толпа глухонемая.
Взлетел гудок. Стакан пустился в пляс.
Как бледный мим, витал во тьме мой плащ.
И вдруг огромный безутешный плач
Меня настиг средь мчащегося леса.
Печальный поезд сострадал ему —
Колесами, считающими тьму,
Он так звучал, внушая боль уму,
Как будто это плакало железо.
Болтался плащ. Приплясывал стакан.
О, спешка мира! Как рвануть стоп-кран?
Плач, как палач, меня казнил стократ.
Подушка сна была груба, как плаха.
Остановитесь, поезда земли!
Не рвитесь, самолеты, в высь зари!
Мотор столетья, выключись, замри!
Виновны мы в беде чужого плача.
Повремени, мой непреклонный век,
С движением твоим — вперед и вверх.
Стой, человек! Там брат твой — человек
Рыдает перед каменной стеною
И бьется лбом в затворенный Сезам.
Люби его! Внемли его слезам!
Не торопись! Пусть ждет тебя вокзал
Прогулок меж Землею и Луною.
МУСТАЙ КАРИМ
(Род. в 1919 г.)
С башкирского
{113}
Берега остаются
Перевод И. Снеговой
По Белой, басистый и гордый,
Смешной пароходик чадит.
В лаптях,
В тюбетейке потертой,
На палубе мальчик сидит.
Куда он — с тряпичной котомкой?
К чему направляет свой путь?
Лишь берега дымная кромка
Да Белой молочная муть
Вдали. И на воду большую
Глядит он и все не поймет:
— Совсем неподвижно сижу я,
А круча, а берег плывет!..
Я — мальчик тот, я! И сквозь годы
Кричу ему: — Милый, не верь!
Плывем это мы, а не горы,
А берег все там и теперь!..
Кричу… А в лицо мое ветер,
А палубу набок кренит,
Корабль мой почти незаметен —
Вокруг него море кипит!
Стою… Волны мимо и мимо
Наскоком, галопом, подряд…
Стою… Словно кем-то гонимы,
Дни, месяцы, годы летят…
— Сто-ой, дяденька! — вдруг через темень,
Сквозь воды, мне — с палубы той: —
Плывем-то ведь мы, а не время,
А время, как берег крутой,
За нами осталось, за нами,
Другим — я не знаю кому…
А сам ты, влекомый волнами,
Что времени дал своему?
И эхо сквозь грохот и тьму
Все вторит и вторит ему:
«Вре-ме-ни-и сво-е-му-у,
Времени своему…»
1964
«Душа бунтует, видя черноту…»
Перевод Е. Николаевской
Душа бунтует, видя черноту
Замерзших трав. Душа моя терзается,
Когда звезда, сгорая на лету,
В насыпанный могильный холм вонзается.
В чем смысл? Где милосердие найти?
Зачем так беспощадно расточается
Все сущее?… Приходят — чтоб уйти.
Ушедший — никогда не возвращается…
Душа бунтует: отчего все бренно,
Что беспредельной создано Вселенной?…
А разум мой спокоен. Все — в пути.
Что домыслы?… Все движется, вращается.
Не вечен мир. Приходят — чтоб уйти.
Ушедший никогда не возвращается.
Спокоен разум… Бесполезен спор.
И все мне ясно: непреклонно-строгий
Давным-давно объявлен приговор
И истекли обжалованья сроки.
1968
«Я белый лист кладу перед собой…»
Перевод Е. Николаевской
Я белый лист кладу перед собой
Бумаги чистой
И черный карандаш, что к ней судьбой
Навек причислен.
Карандаши придется очинить,
Берясь за дело.
Но не спеши, рука моя, чернить
Лист этот белый!
Бумага белая! Огонь ли, лед —
Что в ней таится?
Она — судьба ребенка, что вот-вот,
Сейчас родится…
На белом — черный карандаш подряд
Чего не чертит!..
Недаром — все на свете, говорят,
Бумага стерпит.
И радостную весть, и всякий вздор,
И труд ученый…
На белом пишет смертный приговор
Тот стержень черный.
Мольбу о снисхожденье пишут здесь,
Отмену срока:
Помилованье в этом мире есть —
Не так жесток он…
Указ о мире. О войне приказ —
Все черным, тем же,
И смотрит мир, не отрывая глаз,
На кончик стержня…
Любимая!.. Здесь белый снег в тиши
Замел все снова…
По белому ты черным напиши
Одно лишь слово:
«Люблю…»
1969
«Давай, дорогая, уложим скарб и одежду…»
Перевод И. Снеговой
Давай, дорогая, уложим скарб и одежду,
Оставим наш город и этот ветшающий дом,
Где в красный наш угол уже не мечта и надежда —
Все чаще садится тоска и печаль о былом.
И время, как тень, все длиннее у нас за спиною,
Вся прошлая жизнь, где забот и обид — без конца,
Где столько могил за кладбищенской длинной стеною
И столько утрат захоронено в наши сердца.
Чем день истомленней, чем сумерки к вечеру ближе
И тени заметней — тем глуше и тише река,
Ведь к ночи и волны
ленивей и медленней лижут
Прибрежный песок, не стремясь сокрушить берега.
Давай соберемся чуть свет и уедем отсюда
В какой-нибудь сказочный город — ведь есть города!
Клянусь, я веселым, я праздничным спутником буду,
Скажу: посмотри, нам сияет другая звезда!..
У нового города памяти нет и не будет,
Той памяти горькой, впитавшейся в вещи, в черты…
Пусть здесь остается без нас и о нас позабудет
То время, когда обо мне так печалилась ты.
Останется наше далекое, доброе детство
На кончике тропки лесной, где и солнце и тень.
И молодость наша останется с ним по соседству,
У старых ворот, там, где встретилась ты мне в тот день
Послушай! Постой! Повтори, мне покуда не ясно —
Как ты говоришь? Мы уедем, и сменим жилье,
И молодость бросим, и в городе новом, прекрасном
Останемся жить? Только как же нам жить без нее?
Как жить без нее?… Повторил я последнюю фразу,
И стало мне грустно, и стало мне холодно сразу.
Нет-нет, не теперь, мы еще поразмыслим над этим…
Наверное, мы никогда никуда не уедем.
1969
«Под ногами земли ты не чуешь…»
Перевод Е. Николаевской
Под ногами земли ты не чуешь,
Мир от взгляда цветет твоего…
О юнец, отчего ты ликуешь,
Отчего так горишь, отчего
Не найти твоей радости края?…
«От любви я сгораю, сгораю…»
Муж почтенный с седыми висками,
На исходе вечерней зари
Что грустишь? Что за тайное пламя
Опалило тебя изнутри,
Одолела тревога какая?…
«От любви я сгораю, сгораю…»
1970
«Я умному тайну открыл…»
Перевод Е. Николаевской
Я умному тайну открыл,
Доверил ему свои боли,
И тут же по собственной воле
Он в сына меня превратил.
Я глупому тайну открыл,
Доверил я глупому тайну,
И он меня сразу случайно,
Невольно в раба превратил.
1970
«Я знал успех, с удачею водился…»
Перевод Е. Николаевской
Я знал успех, с удачею водился,
Видал почет, победы торопил…
На иноходца славы не садился,
Но золотую гриву теребил.
Не таял я пред радостью бегущей —
Не поддаваясь чарам, верил я,
Что счастье — впереди, оно — в грядущем,
Что сказочная за морем земля.
Но вот случилось как-то на рассвете:
От счастья обмер, как в волшебном сне…
— Я самая счастливая на свете! —
Любимая тогда сказала мне.
1970
Птиц выпускаю…
Перевод Е. Николаевской
Все завершил. Покончил с мелочами,
И суета осталась позади…
И вот сейчас с рассветными лучами
Птиц выпускаю из своей груди.
Идущие на бой во имя чести!
Вам — первый дар, всем прочим не в укор:
Для вас, взгляните, в дальнем поднебесье
Орел могучий крылья распростер.
Те, кто в пути! Вам — бодрым и усталым —
Шлю журавля сквозь ветер в ранний час…
Кукушку, чтобы долго куковала,
Больные, выпускаю я для вас.
Влюбленные! К вам соловей, неистов,
Рванулся — петь все ночи напролет.
Томящиеся врозь! Вам голубь чистый
К надеждам старым новые несет.
Отчаянных, и робких, и недужных —
Всех одарю я, всех вас птицы ждут…
Нет только ничего для равнодушных,
Пускай без птиц — как знают, так живут…
Все завершил. Покончил с мелочами,
И суета осталась позади…
И каждый день с рассветными лучами
Птиц выпускаю из своей груди.
1970
«Была моя жизнь непрерывной игрой…»
Перевод И. Снеговой
Чингизу Айтматову
Была моя жизнь непрерывной игрой,
Я сам — то огромен, то мал.
То нечет, то чет, то отлив, то прибой,
Успех набегал на провал.
К находке была мне потеря дана,
К добру — своя толика зла…
Любовь никогда не являлась одна,
Печаль по пятам ее шла.
Едва благочестье меня усмирит,
Как бес уже шепчет свой вздор,
Чем громче хвала надо мною гремит,
Тем в сто раз страшнее позор.
Наверно, рубеж через сердце идет,
Чтоб с полднем не спуталась мгла,
Чтоб радость, достигшая самых высот,
До счастья дойти не могла.
Была моя жизнь непрерывной игрой,
Был жребий и странен и шал:
То нечет, то чет, то отлив, то прибой,
Успех набегал на провал.
Сквозь легкость удач я джигитом летел
В исканьях я к мужеству шел,
Но лишь от печалей, от слез и потерь
Я голос поэта обрел.
1971
«Ты в этот раз вдоль моря шла ко мне…»
Перевод Е. Николаевской
Ты в этот раз вдоль моря шла ко мне.
Пустынный берег будто не кончался.
Ты по песку ступала в тишине —
И в золото он тут же превращался.
И чайки свои сизые крыла
В тумане золотом в тот час купали.
Едва ракушки в руки ты брала,
Как сразу в них жемчужины сверкали.
Ты гривы волн движеньем легких рук
Ласкала тихо, наклонясь к прибою…
Вот ты коснулась их — и море вдруг
Все золотом зажглось перед тобою.
И солнце украшеньем золотым
Не в небе — на груди твоей горело…
Один лишь раз я видел мир таким.
Сон или явь?… Кому какое дело!
От моря лесом уходила ты,
Вилась тропинка золотая следом…
Зажглись тоскою золота кусты…
Да, это осень… Нет сомненья в этом…
1971
«Не блещу я…»
Перевод Е. Николаевской
Не блещу я… Жизнь меня изрядно
Потрепала, но не обкатала,
Тень моя длинней в луче закатном,
Правда, робость душу не сковала.
Светят мне по-прежнему маняще
Зори всех надежд и ожиданий.
Правда, озаряюсь я все чаще
И закатами воспоминаний.
«Доброго пути!» — ветрам кричу я,
Детскою доверчивостью движим,
На гору взберусь — и уж лечу я,
Сам в седле — лишь всадника увижу.
В небе птица песнею зальется,
Кажется, мгновенья нет прекрасней!
На земле вдруг кто-то улыбнется —
Кажется мне, в целом мире праздник!
…Я тревожусь, хоть и все в порядке,
Нет запретов — сам преграды строю.
Всем слезам я верю без оглядки,
В клятвах сомневаюсь я порою.
Солнцу я кричу: «Ровесник, встань же!»
Дерзко?… От себя куда я денусь!
Просто я доверчив, как и раньше,
Медленно седеющий младенец…
Что ж, и впредь мне, если живы будем,
Разума, как видно, не набраться!..
Подлинной цены вещам и людям
Так и не узнаю, может статься.
1971
Минувшему — благословенье
Перевод Е. Николаевской
На прошлое свое я не в обиде:
Я больше радости, чем горя, видел,
Благодарили больше, чем ругали,
Друзьями был богаче, чем врагами.
Нужда — как приходила — проходила,
Она меня насквозь не прохватила.
За мною не бежала черной тенью, —
Минувшему я шлю благословенье!
Мгновения мне наносили раны,
Но годы даровали излеченье,
И я забыл те раны, как ни странно, —
Минувшему я шлю благословенье!
Коль виноват был раз — не обессудьте:
Сто раз добро творил во искупленье…
Простите прегрешения мне, люди! —
Минувшему я шлю благословенье!
Настанет час — я вам махну рукою,
Немея… И поймете вы в мгновенье:
В минувшее я ухожу, в былое…
Оставшимся я шлю благословенье…
Грядущему кладу земной поклон.
1974
«Я немало тайн природы знаю…»
Перевод Е. Николаевской
Я немало тайн природы знаю:
Как родится туча грозовая,
Как зерно, набухнув, прорастает,
Как металл к металлу прирастает…
Отчего синице не поется
За морем — не скрыто от меня,
Отчего влюбленным удается
Видеть звезды среди бела дня…
И поэтому с природой вместе
Плачу я и вместе с ней смеюсь…
Тайнами — по совести и чести —
Я делюсь со всеми, не таюсь…
Но особой тайною отмечен
Человек… Я знаю, отчего
Род людской непреходящ и вечен,
В чем секрет бессмертия его,
И делюсь той тайной в тишине
Лишь с одной. И лишь наедине.
1974
А. Кастеев. Турксиб. 1932
МИХАИЛ КИЛЬЧИЧАКОВ
(Род. в 1919 г.)
С хакасского
{114}
Баллада о бревнах
Перевод М. Светлова
1
В тайге живут деревья ста пород,
И ста характеров здесь люди проживают.
А бурелом охотника встречает
Такой, что даже лошадь не пройдет.
Народам, племенам здесь счету нет,
Их различают лишь язык да кожи цвет.
Но чистота и цвет один у крови,
Завидно всем сибирское здоровье.
Вот перевала стройные стволы.
Здесь кедр лежит упавшим обелиском.
Упал он, даже каплею смолы
Своих соседей-кедров не забрызгав.
И молодая поросль так стремится
Увидеть солнце на спине бревна,
И, с черноглазою черемухой равна,
Стоит березка рядом, белолица.
Здесь папоротник без границ,
Как некая зеленая блокада,
И скопища разнообразных птиц
В нем выводить птенцов счастливо рады.
На месте том, где кедр могучий пал,
Встал молодняк разноплеменный —
Кедр молодости место уступал,
Хоть был силен он необыкновенно.
Потомок мой придет за мною вслед,
Народа ввек не оскорбит другого…
О ты, мое взволнованное слово,
Могучим будь, как тот таежный кедр!
2
Гора нависла каменным ребром,
И над прозрачным горным ручейком
Тропинка узкая, что здесь жила-была,
Погибла жертвой старого ствола.
Копытным не пройти, не пересечь
Здесь царствующей грязной, топкой глины —
Упало дерево, как ржавый старый меч,
И весь ручей отравлен ржавой тиной.
Влача существование свое,
Без пользы жило дерево, и ныне
Сто тысяч гадов обрели жилье
В его прогнившей сердцевине.
На нем зеленой плесени наряд,
Поганка за поганкой нарастали,
Рога сохатого из-под земли торчат,
Их время и дожди отшлифовали.
И кажется, что солнце не взойдет,
Не осветит места глухие эти…
Давным-давно, уже который год,
Клок шерсти на суку колышет ветер.
И, обойдя тот ствол издалека,
Тропинка малая уходит в гору,
И даже помутневшая река
Изменит русло скоро.
Все зло в бревне на жизненном пути,
Знакомо каждому оно, пожалуй.
Я так хочу всю жизнь свою пройти,
Чтоб на него не походить нимало.
Любовь моя, мое стремленье к людям,
Давай с тобой тропинкой к счастью будем!
3
У подножья белого Тасхыла
Многоцветный мир тайга укрыла.
Все в объятьях знойной тишины,
Только птицы изредка слышны.
Босоногий кедр повздорил с елью.
— Кто выше? — он затеял спор,
А смородины кусты успели
Первыми взбежать на косогор.
Одному лишь дереву в долине
Никогда не в радость солнца свет:
На корню иссохшая лесина
Трет его и точит много лет.
Оттого горбатая, кривая
У него спина давным-давно,
Потому, смолою истекая,
Сверстникам завидует оно.
А с Тасхыла ветры налетят,
Весело деревья зашумят,
И умоет майская гроза
Черные смородины глаза.
Дерево, поникшее от груза,
Стонет, не находит утешенья:
«Ты не будь мне вечною обузой,
Жизнь моя, беда моя с рожденья!»
4
Как замороженная туша,
Что топором расколота была,
Над бурною рекою, камни руша,
Скала высоко гребни подняла.
То красные, то сизо-голубые,
Как радуга, горят ее бока,
Кипя айраном
{115} , мчась в края глухие,
Бурлит неугомонная река.
Она летит, она несется в пене…
Таких отважных не было и нет,
Чтоб реку переплыли! Но спасеньем,
Мостом сосна служила много лет.
Когда она погибла? Вам и мне
Никто не сможет толком рассказать.
Как на рогах быка, на том бревне
Не держится ни снег и ни роса.
Какая б сила вас ни догоняла,
Вас дерево упавшее спасет —
Оно, как мост уставшему маралу,
На помощь обязательно придет.
И пусть мой стих спасенья путь укажет,
Пусть он стволом над бурной речкой ляжет,
Пусть по глухим местам непроходимым
Уляжется мостом неколебимым!
{116}
«Самое страшное в мире…»
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю Котовского разум,
Который за час перед казнью
Тело свое граненое
Японской гимнастикой мучил.
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю мальчишек смелых,
Которые в чужом городе
Пишут поэмы под утро,
Запивая водой ломозубой,
Закусывая синим дымом.
Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю солдат революции,
Мечтающих над строфою,
Распиливающих деревья,
Падающих на пулемет!
Октябрь 1939 г.
«Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!..»
Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
Вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: лейтенант
Звучит «налейте нам»,
И, зная топографию,
Он топает по гравию.
Война ж совсем не фейерверк,
А просто — трудная работа,
Когда —
черна от пота —
вверх
Скользит по пахоте пехота.
Марш!
И глина в чавкающем топоте
До мозга костей промерзших ног
Наворачивается на чоботы
Весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино.
26 декабря 1942 г.
Хлебниково — Москва
НИКОЛАЙ МАЙОРОВ
(1919–1942)
{117}
Август
Я полюбил весомые слова,
Просторный август, бабочку на раме
И сон в саду, где падает трава
К моим ногам неровными рядами.
Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь, где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды.
Не потому ль, что тени не хватало,
Казалось мне, Вселенная мала?
Движения замедленны и вялы,
Во рту иссохло. Губы как зола.
Куда девать сгорающее тело?
Ближайший омут светел и глубок.
Пока трава на солнце не сгорела,
Войти в него всем телом до предела
И ощутить подошвами песок!
И в первый раз почувствовать так близко
Прохладное спасительное дно.
Вот так, храня стремление одно,
Вползают в землю щупальцами корни,
Питая щедро алчные плоды, —
А жизнь идет, — все глубже и упорней
Стремление пробиться до воды,
До тех границ соседнего оврага,
Где в изобилье, с запахами вин,
Как древний сок, живительная влага
Ключами бьет из почвенных глубин.
Полдневный зной под яблонями тает,
На сизых листьях теплой лебеды.
И слышу я, как мир произрастает
Из первозданной матери — воды.
1939
Творчество
Есть жажда творчества,
Уменье созидать,
На камень камень класть,
Вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать,
Вставать до звезд и падать на колени.
Остаться нищим и глухим навек,
Идти с собой, с своей эпохой вровень
И воду пить из тех целебных рек,
К которым прикоснулся сам Бетховен.
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
Весь мир вместить в дыхание одно,
Одним мазком весь этот лес и камни
Живыми положить на полотно.
Не дописав,
Оставить кисти сыну,
Так передать цвета своей земли,
Чтоб век спустя всё так же мяли глину
И лучшего придумать не смогли.
1939
Мы
Это время
трудновато для пера.
В. Маяковский
Есть в голосе моем звучание металла,
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жен!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображен.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли недолюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперед, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатого плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх — и небо стало чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.
Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжел, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.
Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.
И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!
1940
«Нам не дано спокойно сгнить в могиле…»
Нам не дано спокойно сгнить в могиле —
Лежать навытяжку, — и, приоткрыв гробы,
Мы слышим гром предутренней пальбы,
Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше,
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС
(Род. в 1919 г.)
С литовского
{118}
Человек
Перевод Б. Слуцкого
В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
Так стою, меж двумя шарами —
Солнечным и земным.
Недра мозга, пласты мозга
Глубоки, словно рудные недра.
Я из них вырубаю, как уголь,
Выплавляю из них, как железо,
Корабли, бороздящие море,
Поезда, обвившие сушу,
Продолжение птиц — самолеты
И развитие молний — ракеты.
Это все я добыл из круглой,
Словно шар земной, головы.
Голова моя — шар солнца,
Излучающий свет и счастье,
Оживляющий все земное,
Заселяющий землю людьми.
Что земля без меня?
Неживой,
Сплюснутый и морщинистый шар
Заблудился в бескрайних просторах
И в луне, словно в зеркале, видел,
Как он мертв
И как некрасив.
Я был создан землею — с тоски.
А в минуту печали земля
Подарила мне шар головы,
Так похожий на землю и солнце.
Подчинилась земля мне, и я
Одарил ее красотой.
Земля сотворила меня,
Я же землю пересотворил —
Новой, лучшей, прекрасной, — такой
Никогда она не была!
В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
Я — как мост меж землею и солнцем,
И по мне
Солнце сходит на землю,
А земля поднимается к солнцу.
Обращаются вкруг меня
Ярко-пестрою каруселью
Все творения, произведения,
Изваяния рук моих:
Города вкруг меня кружатся,
И громады домов,
И асфальт площадей,
И мосты, что полны машин и людей.
Самолеты и лайнеры — вкруг меня,
Трактора и станки — вкруг меня,
И ракеты вращаются вкруг меня…
Так стою:
Прекрасный, мудрый, твердый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю до самого солнца
И бросаю на землю
Улыбки солнца.
На восток, на запад,
На север, на юг.
Так стою:
Я, человек,
Я, коммунист.
Мысли
Перевод М. Светлова
Мои мысли,
словно птицы, поднялись,
С каждым днем быстрее их движенье,
Звездную преодолели высь
И земное победили притяженье.
Мы отвергли царства тьмы приход,
В нем поэзия давно заглохла б наша!
Мы обогатили небосвод
Звездами
кремлевских башен.
Я смотрю на наших звезд огни,
Это мы отправили в полет их,
Не на землю падают они,
Ярче разгораются в высотах.
Не обгонит время
мысль мою,
Всадника такого нет на свете!
Вот я победителем стою
У подножия тысячелетий.
Мысль моя
Преодолела горы,
Вырвалась
В бескрайние просторы.
Мои мысли раз и навсегда
Между звезд высоких гнезда свили,
Но грустят, бывает, иногда
И в тоске заламывают крылья.
На земле далекой все сродни,
Бесконечно дорог день вчерашний!
Тихо опускаются они,
Чтоб идти за трактором по пашне.
Вот они над заводским двором,
Вот они летят над каждой кровлей
И садятся на руки потом
Той, что я зову своей любовью.
По траве густой они идут,
Клювики в речушке умывают,
Ягодки пунцовые клюют
И в стихотворенье собирают.
Отдыхают ночью меж ветвей,
Чтобы утром к звездам устремиться,
Снятся сны им на земле своей,
Отдыхают мои мысли-птицы…
Утром — снова в путь далеких странствий!
И соединяется вдали
Притяженье звездного пространства
С древним притяжением земли.
Распутье
Перевод Р. Казаковой
Талый лед засветился по-мартовски матово,
но еще я могу поскользнуться на льду…
Ты любишь меня. И в стихах, как Ахматова,
пишешь грустные письма себе на беду.
Глаза твои не тосковать не могут —
два блуждающих, два болотных огня…
Ты меня не люби —
только щеки намокнут,
будешь плакать из-за меня.
Когда-то под липами, на улице,
с проклятьем скрестился мой путь.
И осталось мне только сумрачно хмуриться.
И ты обо мне позабудь.
Ты меня не люби ни сегодня, ни завтра.
Не люби, не люби, затверди одно!
Хуже будет, когда потом внезапно
разочаруешься все равно…
Не хочу, чтобы жизнь моя послужила
ни женщине, ни просто жизни.
Только поэзия раскроет мои жилы
или кровь, которая клокочет в жилах.
Ты вернись в свой полдень с терпкостью сосен,
с крепким запахом табака и кофе.
А я уйду в свою осень,
к березе, что силы на весну копит…
Но, может, я все же поскользнусь на льду
и светлым из черных ночей приду…
«Я буду любить тебя, как Ахматова…»
«Не люби…»
«Поцелуешь?»
«Ах, ты!..»
Лира
Перевод С. Куняева
В море, где Сафо
{119} давным-давно
утопила лиру,
из бокала вылил я вино.
Утопила лиру, а потом
упорхнула с бурей,
словно чайка, трепеща крылом.
За ее любовную строфу
кровь земли дарую морю,
по которому плыву.
И густое красное вино,
как большая роза,
выросшая в море, расцвело.
Красной розой расцвело
оно над ее могилой
и над лирой, канувшей на дно.
Афины
Камни
Перевод А. Передреева
Камни, камни… Где их нету?!
Начиная от Литвы,
Как пойдешь по белу свету —
Не приклонишь головы.
Щеку к камню бы прижал,
Если б камень утешал.
Но имеет ли он душу,
Прорасти ль на нем цветку,
Может видеть он и слушать,
Понимать мою тоску?!
На камнях цветут, как розы,
Кровь и слезы, кровь и слезы…
Тяжело, лишившись крова,
По чужой земле идти,
Как судьба тогда сурова —
Камни, камни на пути!
А чужую воду пить —
Лишь бы жажду утолить.
И, испытывая муку,
Из-под черных смотрит век
И протягивает руку
К человеку человек.
Не по камню, глыбе серой,
Истомился он — по сердцу!
Рим
На темы М. К. Чюрлёниса
Его инициалы
Перевод Ю. Левитанского
«…я как вольная птица
(без крыльев)».
М. К. Чюрлёнис{120}
МКЧ —
как странная птица,
из тех, что мы не видали,
из тех, несомненно, живущих в сказочных рощах,
летит и летит, пробиваясь к солнечной дали,
этот резкий причудливый росчерк.
МКЧ —
эти волны
набегающего прилива,
где чайка четко очерчена лучом заката,
или реющая над раскрытым роялем грива
за роялем сидящего гениального музыканта.
МКЧ —
это в сумерках,
когда очертанья туманны
и звезды так странны над розовыми куполами,
рядом с легкой летящей готикой святой Анны
черная его крылатка бьет на ветру крылами.
МКЧ —
это башня и гений, простирающий руку
к месяцу или к птице, что над ним летает:
гений — вольная птица, понимающая эту муку
быть вольной птицей, когда ей крыл не хватает.
МКЧ —
это мера гения,
что, как собственные владенья,
небеса перекраивает и каждый этот отрезок
превращает потом в удивительные виденья,
фантастические цветные виденья фресок.
МКЧ — это подпись
на полотнах, отмеченных вечностью,
это волшебный ключик от затворенных
башен, наполненных доброй его человечностью,
от бесконечных галактик, им сотворенных.
Сонет
Перевод Л. Мартынова
Покачивается птица утешенья на алом камне длани святой Анны,
Но, муча грудь, как будто в сердце прямо
Вклеваться хочет орлий клюв Адама.
А мне как быть? Сонета странны раны.
Но одиночество компрессы ли? Теряя
Все не свое, свое найду я, как Гоген
{123} свей ветров красок!
Но не устал ли, по нему тоскуя?
О нет. Моне
{124} поймет меня: в тумане, не в мерцанье
Неоновом, моих (его Руана!) Анне
Хватает красок… Слез микрокристаллы
Горят… «и кохаць без надзеи муше…»
[1] Черно, Адам
{125} , мне утешает душу
Твой том! Но вдруг и верно час настал?
А?…
Зимняя ночь. Полнолуние
Перевод П. Карпа
На черных стеклах белые сверкают иглы,
Под крышами горят гирлянды белых свеч,
И белых лип аллитерируются циклы,
И льется «эл» — елейная лелюмок речь.
И ловит лунный луч взволнованные лица,
И длится вереница ангельских имен,
И плещут крылья белых плеч, и длится-длится
Прилив беспамятства и белопенный сон…
Они белее лебедей в мгновенья эти,
Они белее первой замети сейчас.
Нет ничего белее их на белом свете,
Когда стоит в оконной раме светлый час.
Тициан
Перевод Г. Ефремова
Спокойно мое лицо — как у того, кто вкусил сладчайшего зелья,
Бородача, — как у большой и лохматой собаки, которая, навсегда
С гитарой пикассовской сросшись, глядит, как у стен Колизея
Любопытных туристских овец прогуливаются стада…
Ясно мое лицо, как мраморный факел, которому имя
Рим, — в полдень, когда восставшим улицам нет числа
И солнце палит и палит, желая, чтоб сердце Рима
Потухло навеки или сгорело дотла.
Спокойно мое лицо, как та, в зрачке телескопа, оранжевая
Звезда. Ну и что же, что ты наблюдаешь за мной, меня ослепив?
Кто первым на мрамор легенды ногою ступил? Кто был раньше
Кого? Мне пока неизвестно. Но важен ли этот миф?
Спокойно мое лицо, словно холст живописца. Я знаю
Судьбу свою. И да сбудется… Ты свою участь постиг?
Что ж ты улыбаешься, как заведенный? Почуял — уже начинают
Те тридцать сребреников гореть на ладонях твоих?
Поцеловать меня тянешься, словно пьяница, в щеку?
Ну что ж, я готов, я знаю, знаю ее,
Судьбу свою: если мыслящему на Голгофу
{126} дорога,
Твоя же — до первой сосны… Так делай дело свое!
Спокойно мое лицо, как ягненка, дрожащего еле-еле,
Которого седовласый пастырь подносит к губам своим.
Я глубоко вздохну. И прошепчу, глаза закрывая: «Eli,
Eli, lama azabtani!»
[2] И затихну — как мраморный Рим.
Рим
Нарцисс
Перевод Л. Миля
Жил-был Нарцисс
{127} . Имел он приятнейшую внешность.
Жил без любви, не зная, что без любви — нельзя.
И вдруг объяли разом его и страсть, и нежность:
Узрел он два алмаза — в ручье свои глаза.
Но отличили боги его не только ликом, —
И торс был прям, и ноги на диво хороши.
И вот он, бесподобный, воспламенившись мигом,
Горстьми бросает воду в костер своей души.
К себе он вожделеет, и жадными руками
Он рвет остервенело свой образ из ручья,
И, точно мост, до ночи висит меж берегами,
И плюхается в воду, от ярости крича…
Но можно ли такою любовью насладиться?
Нет повести печальней, чем эта, о Нарциссе.
Рим
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ
(Род. в 1919 г.)
{128}
Облака кричат
По земле поземкой жаркий чад.
Стонет небо, стон проходит небом!
Облака, как лебеди, кричат
Над сожженным хлебом.
Хлеб дотла, и все село дотла.
Горе? Нет… Какое ж это горе…
Пол-плетня осталось от села,
Пол-плетня на взгорье.
Облака кричат. Кричат весь день!..
И один под теми облаками
Я трясу, трясу, трясу плетень
Черными руками.
1941
В те годы
Я проходил, скрипя зубами, мимо
Сожженных сел, казненных городов,
По горестной, по русской, по родимой,
Завещанной от дедов и отцов.
Запоминал над деревнями пламя,
И ветер, разносивший жаркий прах,
И девушек, библейскими гвоздями
Распятых на райкомовских дверях.
И воронье кружилось без боязни,
И коршун рвал добычу на глазах,
И метил все бесчинства и все казни
Паучий извивающийся знак.
В своей печали древним песням равный,
Я сёла, словно летопись, листал
И в каждой бабе видел Ярославну,
Во всех ручьях Непрядву узнавал.
Крови своей, своим святыням верный,
Слова старинные я повторял, скорбя:
— Россия, мати! Свете мой безмерный,
Которой местью мстить мне за тебя?
1941
Костер
Прошло с тех пор немало дней,
С тех стародавних пор,
Когда мы встретились с тобой
Вблизи Саксонских гор,
Когда над Эльбой полыхал
Солдатский наш костер.
Хватало хвороста в ту ночь,
Сухой травы и дров,
Дрова мы вместе разожгли,
Солдаты двух полков,
Полков разноименных стран
И разных языков.
Неплохо было нам с тобой
Встречать тогда рассвет
И рассуждать под треск ветвей,
Что мы на сотни лет,
На сотни лет весь белый свет
Избавили от бед.
И наш костер светил в ночи
Светлей ночных светил,
Со всех пяти материков
Он людям виден был,
Его и дождь тогда не брал,
И ветер не гасил.
И тьма ночная, отступив,
Не смела спорить с ним,
И верил я, и верил ты,
Что он неугасим,
И это было, Джонни Смит,
Понятно нам двоим.
Но вот через столбцы газет
Косая тень скользит,
И снова застит белый свет,
И свету тьмой грозит.
Я рассекаю эту тень:
— Где ты, Джонни Смит?!
В уэльской шахте ли гремит
Гром твоей кирки,
Иль слышит сонный Бирмингем
Глухие каблуки,
Когда ты ночью без жилья
Бродишь вдоль реки?
Но уж в одном ручаюсь я,
Ручаюсь головой,
Что ни в одной из двух палат
Не слышен голос твой
И что в Париж тебя министр
Не захватил с собой.
Но я спрошу тебя в упор:
Как можешь ты молчать,
Как можешь верить в тишь, да гладь,
Да божью благодать,
Когда грозятся наш костер
Смести и растоптать?
Костер, что никогда не гас
В сердцах простых людей,
Не погасить, не разметать
Штыками патрулей,
С полос подкупленных газет,
С парламентских скамей.
Мы скажем это, Джонни Смит,
Товарищ давний мой,
От имени простых людей,
Большой семьи земной,
Всем тем, кто смеет нам грозить
Войной!
Мы скажем это, чтоб умолк
Вой продажных свор,
Чтоб ярче, чем в далекий день
Вблизи Саксонских гор,
Над целым миром полыхал
Бессмертный наш костер!
Октябрь 1946 г.
Москва
Пес, девчонка и поэт
Я шел из места, что мне так знакомо,
Где цепкий хмель удерживает взгляд,
За что меня от дочки до парткома
По праву все безгрешные корят.
Я знал, что плохо поступил сегодня,
Раскаянья проснулись голоса,
Но тут-то я в январской подворотне
Увидел замерзающего пса.
Был грязен пес. И шерсть свалялась в клочья.
От голода теряя крохи сил,
Он, присужденный к смерти этой ночью,
На лапы буйну голову склонил.
Как в горести своей он был печален!
Слезился взгляд, молящий и немой…
Я во хмелю всегда сентиментален:
«Вставай-ка, пес! Пошли ко мне домой!»
Соседям, отказав в сутяжном иске,
Сказал я: «Безопасен этот зверь.
К тому ж он не нуждается в прописке!»
И с торжеством захлопнул нашу дверь.
В аду от злости подыхали черти,
Пускались в пляс апостолы в раю,
Узнав, что друга верного до смерти
Я наконец нашел в родном краю.
Пес потучнел. И стала шерсть лосниться.
Поджатый хвост задрал он вверх трубой,
И кошки пса старались сторониться,
Кошачьей дорожа своей судьбой.
Когда ж на лоно матери-природы
Его я выводил в вечерний час,
Моей породы и его породы
Оглядывались женщины на нас.
Своей мечте ходили мы вдогонку
И как-то раз, не зря и неспроста,
Случайную заметили девчонку
Под четкой аркой черного моста.
Девчонка над перилами застыла,
Сложивши руки тонкие крестом,
И вдруг рывком оставила перила
И расплескала реку под мостом.
Но я не дал девице утопиться
И приказал послушливому псу:
«Я спас тебя, а ты спасай девицу», —
И умный пес в ответ сказал: «Спасу!»
Когда ж девчонку, словно хворостинку,
В зубах принес он, лапами гребя,
Пришлось ей в глотку вылить четвертинку,
Которую берег я для себя.
И дева повела вокруг очами,
Классически спросила: «Что со мной?»
«Посмей еще топиться здесь ночами!
Вставай-ка, брат, пошли ко мне домой!»
И мы девчонку бедную под руки
Тотчас же подхватили с верным псом
И привели от муки и разлуки
В открытый, сострадательный наш дом.
С утопленницей вышли неполадки:
Вода гостеприимнее земли —
Девицу вдруг предродовые схватки
Едва-едва в могилу не свели.
Что ж! На руки мы приняли мужчину,
Моих судеб преемником он стал,
А я, как и положено по чину,
Его наутро в паспорт записал.
Младенец рос, как в поле рожь густая,
За десять дней в сажень поднялся он,
Меня, и мать, и пса перерастая, —
Ни дать ни взять, как сказочный Гвидон.
В три месяца, не говоря ни слова,
Узнал он все земные языки,
И, постигая мудрости основы,
Упрямые сжимал он кулаки.
Когда б я знал, перед какой пучиной
Меня поставят добрые дела:
Перемешалось следствие с причиной,
А мышь взяла да гору родила!
В моем рассказе можно усомниться
Не потому, что ирреален он,
Но потому, что водка не водица,
А я давно уж ввел сухой закон.
И в этот вечер я не встал со стула.
История мне не простит вовек,
Что пес замерз, девчонка утонула,
Великий не родился человек!
Январь 1959 г .
Зеленые дворы
На улицах Москвы разлук не видят встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.
Со всех сторон я слышал ровный шорох,
Угрюмый шум забвений и утрат.
И было им, как мне, давно за сорок,
И был я им давным-давно не рад.
Июльский день был жарок, бел и гулок,
Дышали тяжко окна и дворы.
На Пятницкой свернул я в переулок,
Толпу разлук оставив до поры.
Лишь тень моя составила мне пару,
Чуть наискось и впереди меня,
Шурша, бежала тень по тротуару,
Спасаясь от губительного дня.
Шаги пошли уже за третью сотню,
Мы миновали каменный забор,
Как вдруг она метнулась в подворотню,
И я за ней прошел в зеленый двор.
Шумели во дворе густые липы,
Старинный терем прятался в листве,
И тихие послышались мне всхлипы,
И кто-то молвил: — Тяжко на Москве…
Умчишь по государеву указу,
Намучили меня дурные сны.
В Орде не вспомнишь обо мне ни разу,
Мне ждать невмочь до будущей весны.
Ливмя лились любовные реченья,
Но был давно составлен приговор
Прообразам любви и приключенья,
И молча я прошел в соседний двор.
На том дворе опять шумели липы,
Дом с мезонином прятался в листве,
И ломкий голос: — Вы понять могли бы,
Без аматёра
{129} тяжко на Москве.
Сейчас вы снова скачете в Тавриду,
Меня томят затейливые сны.
Я не могу таить от вас обиду,
Мне ждать нельзя до будущей весны.
Нет, я не взял к развитию интригу,
Не возразил полслова на укор,
Как дверь, закрыл раскрывшуюся книгу
И медленно пошел на третий двор.
На нем опять вовсю шумели липы,
Знакомый флигель прятался в листве,
И ты сказала: — Как мы несчастливы,
В сороковые тяжко на Москве.
Вернулся с финской — и опять в дорогу,
Меня тревожат тягостные сны.
Безбожница, начну молиться богу,
Вся изведусь до будущей весны.
А за тобой, как будто в зазеркалье,
Куда пройти пока еще нельзя,
Из окон мне смеялись и кивали
Давным-давно погибшие друзья.
Меня за опоздание ругали,
Пророчили веселье до утра…
Закрыв лицо тяжелыми руками,
Пошел я прочь с последнего двора.
Не потому ли шел я без оглядки,
Что самого себя узнал меж них,
Что были все разгаданы загадки,
Что узнан был слагающийся стих?
Не будет лип, склонившихся навстречу,
Ни теремов, ни флигелей в листве,
Никто не встанет с беспокойной речью,
Никто не скажет: — Тяжко на Москве.
Вы умерли, любовные
Нас на цветной встречавшие тропе.
В поступке не увидеть приключенья,
Не прикоснуться, молодость, к тебе.
Бесчинная, ты грохотала градом,
Брала в полон сердца и города…
Как далека ты! Не достанешь взглядом…
Как Финский, как Таврида и Орда.
Захлопнулись ворот глухие вежды,
И я спросил у зноя и жары:
— Вы верите в зеленые надежды,
Вы верите в зеленые дворы?
Но тут с небес спустился ангел божий
И, став юнцом сегодняшнего дня,
Прошел во двор — имущий власть прохожий, —
Меня легко от входа отстраня.
Ему идти зелеными дворами,
Живой тропой земного бытия,
Не увидать увиденного нами,
Увидеть то, что не увижу я.
На улицах Москвы разлук не видят встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.
1966
О главном
Не будет ничего тошнее, —
Живи еще хоть сотню лет, —
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.
Стою в намокшей плащ-палатке,
Надвинув каску на глаза,
Ругая всласть и без оглядки
Все то, что можно и нельзя.
Сегодня лопнуло терпенье,
Осточертел проклятый дождь, —
Пока поднимут в наступленье,
До ручки, кажется, дойдешь.
Ведь как-никак мы в сорок пятом,
Победа — вот она! Видна!
Выходит срок служить солдатам,
А лишь окончится война,
Тогда — то, главное, случится!..
И мне, мальчишке, невдомек,
Что ничего не приключится,
Чего б я лучше делать смог.
Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.
1970
РАЧИЯ ОВАНЕСЯН
(Род. в 1919 г.)
Переводы Е. Николаевской
С армянского
{130}
«И силой, и волей, и честью…»
И силой, и волей, и честью
Тебе я обязан одной.
Улыбкою — счастья предвестьем —
Тебе я обязан одной.
Хоть лето мое — за горами,
Все яростней ветер сквозной,
Но осени щедрой дарами
Тебе я обязан одной:
И таинством мудрой печали,
И слитностью с миром живым —
Обязан и пылким молчаньем,
И юным бунтарством своим.
Тебе я обязан всем ходом
Событий и дел — всякий миг, —
И этим письмом — переводом
Сердечных мечтаний моих.
«О, если трудом ли, уменьем своим…»
О, если трудом ли, уменьем своим,
Умом, дарованьем, удачей
Успеха и славы добьюсь и друзья
Одарят безмерной любовью,
Клянусь, обойдусь без похвал и наград,
И верь мне, не будет иначе —
Победы плоды предоставлю тебе:
Вкушай без меня на здоровье!..
Но если когда-нибудь я потерплю
В открытом бою пораженье
Иль замертво рухну от козней врагов,
О, будь, заклинаю, со мною!..
Меня не покинь — и останусь я цел,
Из пепла восстану в сраженье…
И только тогда мне — конец, если ты
Пройдешь, не взглянув, стороною.
«Засушенный красный цветок…»
Засушенный красный цветок
Увлек меня к волнам Севана —
Все сказочно было и странно,
Все в золоте было тогда:
Надежды, года и вода…
И, с солнцем делясь новостями
И взяв себе в помощь луну,
Я звонкие звезды горстями
В тугую бросал глубину.
Засушенный красный цветок…
Рассветной росой напоенный,
Сам в солнце когда-то влюбленный,
Он сказку сплетал о любви,
Рождая волненье в крови…
Немою слезой, без стенаний,
Упал он на память-гранит,
На мраморе воспоминаний
Он каплею крови горит…
«В цветении белой метели…»
В цветении белой метели,
В метельной сплошной белизне
Звучали и гомон и пенье,
Дрожал несмолкающий звон…
В соцветиях пчелы гудели,
И воздух пел славу весне,
Пел взбухший ручей и растенья,
Пел голубь, лучом осенен…
Колышется волнами пашен
Даль в полупрозрачном дыму…
Мой голубь добрался б до моря,
Когда б отпустил я его…
Ах, как он был нужен и важен,
Тот полдень, — хотя б для того,
Чтоб честь и хвалу на просторе
Я детству воздал своему!
«О друзья, когда меня не будет…»
О друзья, когда меня не будет
На пиру, вы за меня не пейте
Так — как пьют обычно за ушедших,
За сошедших со стези земной:
Вы, друзья, друг друга не касайтесь
Тыльной стороной своих ладоней,
Пальцами, держащими бокалы,
А со звоном чокайтесь со мной!
Чокайтесь со звоном, громогласно,
Вы с моим наполненным бокалом:
Знайте, тосты — утвержденье жизни!
Не скупитесь на слова, прошу!..
Если с вами будет мое имя,
Мои песни, страсть моя и радость,
В строках воплотившиеся, знайте:
Я еще живу, еще дышу…
«Горы, горы, тоска моя…»
Горы, горы, тоска моя,
Горы, праздников моих свет!
Я на склонах ваших сейчас
Плачу над невозвратностью лет.
Возвратите беспечность мне,
Возродите и цвет и звук,
Дайте снова мне ощутить
Теплоту материнских рук!
Дайте легкость моим ногам,
Пригласите меня на пир,
Чтоб цветов аромат я пил
И опять набирался сил…
Озарите надеждой мир,
Что печален сейчас и сир…
Горы, горы, в нелегкий час
Как смогу я покинуть вас?…
«Солнце к небу льнет майским жуком…»
Солнце к небу льнет майским жуком
И сосет синевы аромат, —
О закате как будто забыло…
Гром в горах прогремел и исчез…
Неподвижно и тихо кругом,
Воздух, озеро, куст — все подряд
Неподвижно, притихло, застыло…
Над горами — безбрежность небес…
И меня будто обволокло
Тишиною — ни звуков, ни слов…
О, покой, неподвижность, нирвана!..
И в душе усмиренной моей
Так блаженно, покойно, светло…
Не болят застарелые раны,
Но рождается рокот морей
В моем сердце — и грохот боев…
А. Иохани. Демонстрация рабочих 21 мая 1940 в Тарту. 1940
РАЛЬФ ПАРВЕ
(Род. в 1919 г.)
С эстонского
{131}
На перекрестке
Перевод Л. Тоома
Тот из вас, кто с нами шел когда-то
Тем путем, которым шла война,
Верно, видел этот дом дощатый
И шлагбаум из бревна.
И в пилотке выцветшей девчонку
Вам встречать случалось где-нибудь,
Легковым машинам и трехтонкам
Открывающую путь.
Этот скромный боевой участок
Мы на фронте видели не раз —
У него задерживался часто
ЗИС дивизионный или ГАЗ.
Удавалось втиснуться, бывало,
В переполненный грузовичок.
В часть свою тащиться пешкодралом
Может лишь отважный новичок.
Для бывалого фронтовика
Есть места на всех грузовиках.
А застрявший путник был утешен
Дружеской беседой у костра.
В котелке, что над огнем повешен,
Булькает какой-то концентрат.
Отмахать весь путь пешком — не шутки,
Не дойдешь, пожалуй, и за сутки.
Остановимся. Присядем тут.
Может, на машине подвезут.
Тут, на КПП, столпотворенье
Начинается порой с утра.
Сколько задушевных откровений
Ты услышишь за день у костра!
Ты узнаешь, каково в пехоте,
Кто работал на какой работе,
Где изведал, что такое бой,
Почему махорка стала злее,
Что кому дороже, что милее —
Край любимый или город свой.
Тут сказал мне русский пехотинец,
Развязав свой вышитый кисет
(Девушки какой-нибудь гостинец):
«Закури-ка нашего, сосед!»
И, затягиваясь понемногу,
Не спеша поведал нам о том,
Как растет подсолнух у порога,
Как шумят березы за окном,
Как у них поют там и как пляшет
Девушка с тяжелою косой —
Есть такая…
И как счастье наше
Было прервано войной.
Продолжай, приятель, свой рассказ —
Он найдет дорогу в наши души.
Отвоюем мы — настанет час —
Все, что враг безжалостно разрушил.
Дом твой где-то далеко-далёко,
Ждет тебя там девушка-краса…
У другого — на горах высоких,
У другого, может быть, — в лесах.
Он теплом своим нас греет снова,
Словно рядом здесь родимый кров.
Дом! Нам всем понятно это слово
На любом из наших языков.
Мы из разных собрались дивизий.
Вот латыш — Москву он защищал,
Смуглый уроженец Кутаиси,
Русский, что махоркой угощал,
Белорус и украинец рядом,
Сибиряк, что шел от Сталинграда,
И эстонец…
Мы пришли затем,
Чтобы счастье улыбнулось всем!
Мы храним о доме память свято.
Пусть к нему дорога далека,
Каждому советскому солдату Родина
в любом краю близка!
1945
Памяти героев
Перевод Вс, Азарова
Дети по известняковым плитам
Медленно проходят чередою, —
Там, где опечаленно стоит он,
Богатырь из бронзы, храбрый воин.
Часто, часто навещают дети
Тех, кто жизнь для их спасенья отдал,
Каждый оставляет ясный цветик —
От себя и от всего народа.
Снова тех, кого они не знают,
Имена читают на могиле,
Тех, кто завещали, погибая,
Чтобы мы и наши дети жили.
Думают с душевной теплотою
О народе русском, добром, смелом:
Ведь среди других в годину боя
Горя больше всех перетерпел он.
Тихо всходят дети по ступеням,
И горит любовь к погибшим в муке
В каждом ясном цветике весеннем,
Что сорвали маленькие руки.
1954
ЛЕОНИД ПОПОВ
(Род. в 1919 г.)
Переводы А. Преловского
С якутского
{132}
Преданья
В моей земле, среди лесов и вод,
оставшись нам от предков наших давних,
немало сказок и легенд живет —
любой якут воспитан на преданьях.
Когда порой седой олонхосут
заводит сказ о древности былинной,
сердца людей восторженно поют
в лад этой песне, темной и старинной.
И неразрывна временная связь
между ушедшим и пришедшим людом.
Так туча, что на землю пролилась,
восходит ввысь туманным белым чудом.
О, будьте впредь и людям и векам,
как мне сегодня, вы необходимы, —
преданья! — наша ненависть к врагам
и наша нежность к родине любимой.
1965
Прощание
Прощай, любовь! Дорога — в два конца,
поездка без обратного билета.
И не вернуть утраченного лета,
как не поднять поникшего лица.
Я снова выбрал свой негладкий путь.
Я громко жил. Я молча собираюсь:
как можно незаметней постараюсь
уйти… А ты — прощай! Счастливой будь!
Но все-таки, как следует живым,
над мертвою любовью встанем оба.
Последний долг ей отдадим у гроба —
как родственники, молча постоим.
Последний поцелуй. Холодный лоб.
И в этом доме холодно и сиро.
Нарушь обычай — прибери квартиру
и даже память вымети в сугроб!
1965
БОРИС СЛУЦКИЙ
(Род. в 1919 г.)
{133}
Госпиталь
Еще скребут по сердцу «мессера»,
еще
вот здесь
безумствуют стрелки,
еще в ушах работает «ура»,
русское «ура-рарара-рарара!» —
на двадцать
слогов
строки.
Здесь
ставший клубом
бывший сельский храм, —
лежим
под диаграммами труда,
но прелым богом пахнет по углам —
попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы лядащего сюда!
Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
Здесь
ад
ревмя
ревет!
На глиняном не топленном полу
томится пленный,
раненный в живот.
Под фресками в не топленном углу
лежит подбитый унтер на полу.
Напротив,
на приземистом топчане,
кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!
(Шепотом — как мертвые кричат.)
Он требует как офицер, как русский,
как человек, чтоб в этот крайний час
зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский
не помирал меж нас!
Он гладит, гладит, гладит ордена,
оглаживает,
гладит гимнастерку
и плачет,
плачет,
плачет
горько,
что эта просьба не соблюдена.
А в двух шагах, в не топленном углу,
лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
уносит прочь, в какой-то дальний зал,
чтобы он
своею смертью черной
нашей светлой смерти
не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют
воины:
— Так вот оно
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
попробуй
перевоевать
по-своему!
Лошади в океане
И. Эренбургу
Лошади умеют плавать,
но — не хорошо. Недалеко.
«Глория» — по-русски — значит «Слава», —
это вам запомнится легко.
Шел корабль, своим названьем гордый,
океан стараясь превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
тыща лошадей топталась день и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
далеко-далеко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.
Что ж им было делать, бедным,
если нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось — плавать просто,
океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил
вдруг заржали кони, возражая
тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно, и ржали, ржали,
все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их —
рыжих, не увидевших земли.
Голос друга
Памяти поэта
Михаила Кульчицкого
Давайте после драки
помашем кулаками:
не только пиво-раки
мы ели и лакали,
нет, назначались сроки,
готовились бои,
готовились в пророки
товарищи мои.
Сейчас все это странно,
звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
фанерный монумент —
венчанье тех талантов,
развязка тех легенд.
За наши судьбы (личные),
за нашу славу (общую),
за ту строку отличную,
что мы искали ощупью,
за то, что не испортили
ни песню мы, ни стих,
давайте выпьем, мертвые,
во здравие живых!
Памяти товарища
Перед войной я написал подвал
про книжицу поэта-ленинградца
и доказал, что, если разобраться,
певец довольно скучно напевал.
Я сдал статью и позабыл об этом,
за новую статью был взяться рад.
Но через день бомбили Ленинград —
и автор книжки сделался поэтом.
Все то, что он в балладах обещал,
чему в стихах своих трескучих клялся,
он выполнил — боролся, и сражался,
и смертью храбрых,
как предвидел, пал.
Как хорошо, что был редактор зол
и мой подвал крестами переметил
и что товарищ,
павший,
перед смертью
его,
скрипя зубами,
не прочел.
Сон
Утро брезжит,
а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале
в углу.
Я еще молодой и рыжий,
Мне легко
на твердом полу.
Еще волосы не поседели
И товарищей милых
ряды
Не стеснились, не поредели
От победы
и от беды.
Засыпаю, а это значит:
Засыпает меня, как песок,
Сон, который вчера был
начат,
Но остался большой кусок.
Вот я вижу себя в каптерке,
А над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают!
Девятнадцатый год рожденья —
Двадцать два
в сорок первом году —
Принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду.
Выхожу, двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный,
и последний,
И предсказанный песней бой.
Привокзальный Ленин мне
снится:
С пьедестала он сходит в тиши
И, протягивая десницу,
Пожимает мою от души.
Старухи без стариков
Вл. Сякину
Старух было много, стариков было мало:
то, что гнуло старух, стариков ломало.
Старики умирали, хватаясь за сердце,
а старухи, рванув гардеробные дверцы,
доставали костюм выходной, суконный,
покупали гроб дорогой, дубовый
и глядели в последний, как лежит законный,
прижимая лацкан рукой пудовой.
Постепенно образовались квартиры,
а потом из них слепились кварталы,
где одни старухи молитвы твердили,
боялись воров, о смерти болтали.
Они болтали о смерти, словно
она с ними чай пила ежедневно,
такая же тощая, как Анна Петровна,
такая же грустная, как Марья Андревна.
Вставали рано, словно матросы,
и долго, темные, словно индусы,
чесали гребнем редкие косы,
катали в пальцах старые бусы.
Ложились рано, словно солдаты,
а спать не спали долго-долго,
катая в мыслях какие-то даты,
какие-то вехи любви и долга.
И вся их длинная, вся горевая,
вся их радостная, вся трудовая —
вставала в звонах ночного трамвая,
на миг
бессонницы не прерывая.
Физики и лирики
Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
наши сладенькие ямбы,
и в пегасовом полете
не взлетают наши кони…
То-то физики в почете,
то-то лирики в загоне.
Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
а скорее интересно
наблюдать, как, словно пена,
опадают наши рифмы
и величие степенно
отступает в логарифмы.
Сбрасывая силу страха
Силу тяготения земли
первыми открыли пехотинцы —
поняли, нашли, изобрели,
а Ньютон позднее подкатился.
Как он мог, оторванный от практики,
кабинетный деятель, понять
первое из требований тактики:
что солдата надобно поднять.
Что солдат, который страхом мается,
ужасом, как будто животом,
в землю всей душой своей вжимается,
должен всей душой забыть о том.
Должен эту силу, силу страха,
ту, что силы все его берет,
сбросить, словно грязную рубаху.
Встать.
Вскричать «ура».
Шагнуть вперед.
Последнее поколение
Г. Дашковской
Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспрозванные, Непрошеные и Случайные.
Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые ночки,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.
Выходят на сцену не те, кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.
Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: «Живи!» —
в сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок четвертом.
Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.
ГЕОРГИЙ СУВОРОВ
(1919–1944)
{134}
Первый снег
Веет, веет и кружится,
Словно сон лебедей,
Вяжет белое кружево
Над воронкой моей.
Улетает и молнией
Окрыляет, слепит…
Может, милая вспомнила,
Может, тоже не спит.
Может, смотрит сквозь кружево
На равнину полей,
Где летает и кружится
Белый сон лебедей.
1943(?)
Косач
Заря над лесом разлилась устало,
Бой отгремел, с огрызком сухаря
Я сел у пня, винтовка отдыхала
У ног моих, в лучах зари горя.
Я ждал друзей, идущих с поля боя…
И вдруг… Где трав серебряная мгла,
В пятнадцати шагах перед собою
Я увидал два черные крыла.
Потом кривая радужная шея
Мне показалась из сухой травы…
Рука — к винтовке, но стрелять не смею…
Ведь он один на берегах Невы…
Земляк! И предо мною голубые
Встают папахи горных кедрачей,
Как бы сквозь сон, сквозь шорохи лесные
Я слышу ранний хохот косачей.
Так, вспоминаю, в голубом томленье
Глаз не сводил я с полулунных крыл…
Легла винтовка на мои колени,
Поднять ее я не имел уж сил.
Да и зачем? Мой выстрел, знаю, меток,
Но птица пусть свершает свой полет.
Охотник я. Я знаю толк в приметах:
«Кто птицу бьет, тот зверя не убьет».
1943
«Еще утрами черный дым клубится…»
Еще утрами черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.
Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.
Еще война. Номы упрямо верим,
Что будет день, — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.
В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней, —
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей.
1944
АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ
(1919–1959)
{135}
Соловьи
Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна —
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят…
Но что война для соловья —
У соловья ведь жизнь своя.
Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.
Ведь завтра снова будет бой,
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам уйти, недолюбив,
От наших жен, от наших нив.
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят,
Немного пусть поспят…
Где же вы теперь, друзья-однополчане?
Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои…
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
Я хожу в хороший час заката
У тесовых новеньких ворот,
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесет?
Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным верстам счет.
За победу б мы по полной осушили,
За друзей добавили б еще.
Если ты случайно не женатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи:
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.
Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы было видно по всему, —
Здесь живет семья советского героя,
Грудью защитившего страну.
Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои…
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
1946
ГЕВОРГ ЭМИН
(Род. в 1919 г.)
С армянского
{136}
«Я в детстве шел и палкою в пыли…»
Перевод Н. Гребнева
Я в детстве шел и палкою в пыли
вел длинный след до своего порога,
а после люди шли, стада брели,
и след мой исчезал, прожив немного.
Как этот след, след детства замела
седая аштаракская дорога.
1940
Первая книга
Перевод Л. Мартынова
Юнец, впервые девушку целуя,
Что думает? Спросите у него.
Он думает, что, кроме поцелуя,
Не существует в мире ничего.
Юнцу такому может показаться,
Что даже старцы, бабки, бобыли
Спешат куда-то в парки целоваться
Иль со свиданья только что пришли.
Вот так я с первой книжкою под мышкой
Иду сейчас по улице, — поэт! —
Воображая, что над этой книжкой
Уже склонился чуть не целый свет.
1940
«Я сам не знаю, что это такое…»
Перевод Б. Слуцкого
Я сам не знаю, что это такое
Меня столкнуло с торного пути,
Но я забыл о счастье и покое,
Чтобы путем поэзии пойти.
Любою болью времени болея,
Я беды мира на плечи взвалил.
Все, что достойно жалости, —
жалею,
Все, что любви достойно, —
полюбил.
Безоблачно счастливым был пролог,
За белым мотыльком мечты
я гнался,
А он предупредить меня не мог!
Он знал, куда летит, —
и не признался!
Куда меня все это завело?
Служение поэзии похоже,
Алхимики,
на ваше ремесло!
Ненастной ночью
или днем погожим
Глядишь в окно,
глотаешь серный дым,
Тяжелым инструментом руки трудишь, —
Так ты сидел когда-то молодым
И в старости
сидеть все так же будешь!
А золота все нет.
И нет покоя.
Ищу. Ищу. Ищу —
не нахожу.
И, словно серный дым,
от глаз
рукою
Мечты о тихом счастье отвожу.
1940
Погибшему другу
Перевод Ю. Левитанского
Мы с тобою дружили светло и гордо,
как река с рекою, рука с рукою.
Но одно припомнить мне нынче горько,
Но одно никак не дает покою.
Мы в тот день поссорились.
Если б завтра
мы опять взглянули друг другу
в лица!..
Но уже для тебя не настало «завтра».
До сих пор эта глупая ссора длится.
1942–1943
«Ты бы в гости ко мне пришла…»
Перевод В. Звягинцевой
Ты бы в гости ко мне пришла,
Не была давно у меня.
Горе песней бы прогнала —
Прижилось оно у меня.
Вьется горлица в тишине
Над оконницей у меня.
Я б увидел тебя во сне,
Да бессонница у меня.
1944
«Тот, кого ты так любишь…»
Перевод Ю. Левитанского
Тот,
кого ты так любишь во мне давно,
вовсе иные имеет черты
и склонности.
Мне,
на него похожему,
не дано
его доброты,
его чистоты
и скромности.
Как я порой ревную тебя
к нему,
хоть он и носит имя мое
и отчество!
Если ты догадаешься,
почему —
холодом обоймет тебя
одиночество.
Так не гаси же
в окнах своих
огня!
Крылья мои оставь мне
как утешение.
Чем лучше ты думаешь
про меня —
тем становлюсь и вправду я
совершеннее.
1956
«Я не могу. С меня довольно!..»
Перевод Е. Евтушенко
Я не могу.
С меня довольно!
За что мне эта боль дана?
И нет любви,
а больно,
больно,
Как будто есть еще она.
Любовь,
ты мстишь мне за утрату!
Так, через много-много лет,
Болит ночами у солдата —
Болит рука,
которой нет.
1956
Грядущему
Перевод Б. Слуцкого
Помоги же мне не ошибаться:
Если сплю — пораньше просыпаться,
Если делом занят — не лениться,
Если дверь открыта — не ломиться!
Помоги не сделанное дело
Не принять за счастье без предела.
Помоги мне! Дай большое право
Не кричать о славе прежде славы.
Если в сердце я стиха не выносил,
Ты не дай, чтоб на бумаге выписал.
Если камня из скалы не выломал —
Не хвалился бы, что стены выложил…
Помоги не показаться правым,
Если был я глупым и лукавым.
Дай мне не возжаждать награжденья
За ошибки или преступленья.
Помоги мне не казаться —
Быть!
Помоги мне правильно прожить.
1962
«Будь начеку вблизи высот!..»
Перевод Д. Самойлова
Будь начеку вблизи высот!
Запомни, каждый разговор
Подхватит эхо наших гор
И по долинам разнесет.
Коль скажешь добрые слова,
Горы седая голова
Почтит тебя приветом, —
Не забывай об этом.
А скажешь что-нибудь во зло —
Горы нахмурится чело
И древний кратер оживет, —
Будь начеку вблизи высот!
Будь начеку вблизи высот!
И знай: опасна эта высь.
Узка тропа, что к ней ведет, —
Двум путникам не разойтись.
И быстро превратится в прах,
Кто злобу на сердце несет…
Тропинки узкие в горах, —
Будь начеку вблизи высот!
Будь начеку вблизи высот!
Мы здесь не ведали корон,
Здесь каждый сам себя венчал,
Не знали войсковых колонн,
Зато здесь каждый — генерал.
Здесь каждый горд, как вышина,
И каждый каждому собрат,
Здесь каждый сам себе — страна,
Пускай отторгнут и разъят,
Один — со всеми он един,
Когда непрошеных гостей
Манит страна седых вершин
И неприступных крепостей,
Страна, что он своей зовет…
Будь начеку вблизи высот!
1962
«Я написать хочу слова…»
Перевод М. Петровых
Я написать хочу слова на музыку дождя,
Зарифмовать порывы ветра,
Найти мелодию легчайших дуновений,
Что слышатся в лесах порой осенней,
И вслух читать речитатив ручья.
Я рисовать хочу, как тополь тонкой кистью
Рисует в небе все, что скажут листья,
Хочу лепить движение и трепет,
Лепить, как ветер встречных женщин лепит,
Хочу понять все то, что после стольких дней,
и стольких слов,
и стольких слез
Неясно для меня в душе твоей.
В твоей душе, которой я объят,
Как этим небом, ветром и дождями,
И рощами, что тихо шелестят,
И речками, что шепчут меж камнями,
И прихотью тропинок, что всегда
Меня к тебе ведут как бы случайно,
К тебе, чья речь близка мне и чужда,
Как речь природы, простотой и тайной.
1962
«Я предчувствую…»
Перевод Б. Окуджавы
Я предчувствую:
во мне назревают стихи.
Я предчувствую это,
как час любви,
когда, еще не видны и тихи,
уже плывут
ее корабли.
Я предчувствую это,
как в голосе дрожь,
как запах цветка,
как крик коня,
как дверь, в которую не был вхож,
но уже распахнутую для меня.
Пересыхает моя гортань.
Я словно зверь в голубом лесу,
внезапно почуявший:
где-то лань
робкая,
рога на весу.
И я замираю.
И меня уже нет.
Я весь — ожидание, трепет, боль…
Где моей лани тревожный след?
Что меня ждет:
тишина или бой?
Я разобраться в этом стремлюсь:
все ближе оно,
вот оно — в груди,
оно захватило…
И я молюсь:
только не выдай, не подведи!
Чтоб в кажущейся тишине
не обратилась любовь в игру,
не показался бы ланью мне
суслик,
прячущийся в нору,
чтоб не пришлось мне, оторопев,
выдохнуть искаженным ртом
вместо песни —
скучный напев
и раскаиваться потом.
1962
ВИКТОР ГОНЧАРОВ
(Род. в 1920 г.)
{137}
«Мне ворон черный смерти не пророчил…»
Мне ворон черный смерти не пророчил.
Но ночь была,
И я упал в бою.
Свинцовых пуль трассирующий росчерк
Окончил биографию мою.
Сквозь грудь прошли
Расплавленные пули.
Последний стон зажав тисками скул,
Я чувствовал, как веки затянули
Открытую солдатскую тоску,
И как закат, отброшенный за хаты,
Швырнул в глаза кровавые круги,
И как с меня угрюмые солдаты
Неосторожно сняли сапоги…
Но я друзей не оскорбил упреком.
Мне все равно. Мне не топтать дорог.
А им — вперед. А им в бою жестоком
Не обойтись без кирзовых сапог.
1944
«Я скажу, мы не напрасно жили…»
Я скажу, мы не напрасно жили,
В пене стружек, в пыли кирпича,
Наспех стеганки и бескозырки шили,
Из консервных банок пили чай.
Кто скрывает, было очень туго,
Но мечтами каждый был богат.
Мы умели понимать друг друга,
С полувзгляда узнавать врага.
Свист осколков, волчий вой метели,
Амбразур холодные зрачки…
Время! Вместе с нами бронзовели
Наши комсомольские значки.
Да, когда нас встретит новый ветер
Поколений выросших, других, —
Я скажу, что мы на этом свете
Не напрасно били сапоги!
1949
«Дыши огнем, живи огнем…»
Дыши огнем, живи огнем,
Пусть правды убоится тайна.
Случайно мы с тобой умрем,
Все остальное — не случайно.
Смотри, как, напрягая слух,
Над Дикой балкой месяц вызрел.
Не говори: «случайный друг»,
«Случайный день»,
«Случайный выстрел»…
Я вижу, над твоим крыльцом
Гнездится час твой черной птицей.
Не лги, а то умрешь лжецом!
Не убивай — умрешь убийцей!
Нет, не случайно, боль тая,
Идет ко мне тропой печальной
На кладбище любовь моя,
Которую я звал случайной.
1958
«Опять пришла пора дождей…»
Опять пришла пора дождей,
Листвы, летящей в воду,
Когда спокойней, но острей
Мы чувствуем природу.
И сожаленья нет во мне,
Что лето миновало,
Оно расплавилось в огне
И чем-то прошлым стало.
Во мне осеннею порой
Спокойно зреют чувства,
И это ближе к
Где властвует искусство.
И этот моросящий дождь,
И лес в рассвете раннем
На полотно легли, как дрожь
Пред вечным увяданьем.
1973
«— Эй ты, — мне кричат, — Подорожник!..»
— Эй ты, — мне кричат, — Подорожник! —
Но я улыбаюсь в ответ,
Я — это усталый художник,
Завьюженный жизнью поэт.
Я знал, что недолго я буду
Земную вдыхать благодать,
И мне, как ребенку, повсюду
Хотелось скорей побывать.
И все я изъездил, что можно,
Куда невозможно — летал.
И сам вдруг травой придорожной,
Сухим подорожником стал.
На этих горластых, зеленых
Гляжу я с печалью живой.
Какою для ран воспаленных
Их жизнь обернется травой?
1975
«Вот Перховское озеро…»
Вот Перховское озеро,
В нем темная вода.
На самом дне его дрожит
Печальная звезда.
Вот-вот
Она уже всплывет,
Вот-вот
Со дна взовьется.
Взлетит
И с млечной тишиной
И вечностью сольется
Давно она
На темном дне
Одна дрожать устала.
Взлетит!
А люди скажут, что
Звезда на дно упала…
1975
ЯАН КРОСС
(Род. в 1920 г.)
С эстонского
{138}
«Я — дом пустой…»
Перевод Л. Тоома
Я — дом пустой:
Входи хозяйкой в двери,
Я — парусник,
А ты — желанный берег.
Я — муки жажды,
Я — беззвучный крик
Потрескавшихся губ,
А ты — родник.
1942
«Тот, кто перевидел тыщи…»
Перевод Д. Самойлова
Тот, кто перевидел тыщи
И еще раз тыщи разных лиц,
Может не узнать кого-нибудь из близких
И пройти мимо.
А в чужие лица вдруг проникнет
И узнает,
Кто они.
1960
Старый блиндаж
Перевод Л. Тоома
Застрял ячмень в кукушкиной гортани,
Застыло в оторопи на поляне
Стволов кольцо…
Блиндаж… Как страшен он в лесном
покое —
Страшней безумного рисунка Гойи
{139} !
Как мертвенно безглазое такое,
Бетонное лицо!
Инициалов, тут переплетенных,
Сердец, амуровой стрелой пронзенных,
Не обнаружишь, сколько ни смотри,
Блиндаж безжизненный в песке утоплен,
И рот его застыл в квадратном вопле.
И мрак внутри…
Тут больше пулемет не застрекочет
И миномет в ответ не загрохочет,
Тут еле слышен тихий шепот почек,
Однако — чу!
Ты различаешь этот крик безгласный.
— Я мертв, я мертв! —
кричит блиндаж
безглазый. —
Но быть живым хочу!
Но быть как лес хочу!..
1960
«Паутинок в воздухе паренье…»
Перевод Д. Самойлова
Паутинок в воздухе паренье.
Лет тончайших ниток или прядок.
Это словно мыслей сотворенье —
В воздухе летает их зачаток.
Горы валунов серы и мшисты.
Камень. Корень. И лесной шиповник.
Тишина. И так надежды чисты
На полях, и оттого светло в них.
Капелька росы в сосновых иглах.
Тишина. Безветрие. Мгновенье.
И весь мир вот в этой капле, в мигах, —
Мир и миллион стихотворений.
Капелька трепещет на иголке.
В трещину песок скользнул и замер.
Взвыл на взлете, пригибая елки,
Реактивный ястреб.
Вновь земля, пропитанная хвоей,
Тишины ненарушимой хочет.
Тишину мы охраняем с воем,
Если невозможно — молча.
1962
Все-таки она вертится
Перевод Б. Слуцкого
«Мир неподвижен!» — клир провозгласил.
«Аминь!» — орало верующих стадо.
И Галилей, уже лишенный сил,
из пыточного взятый каземата,
пробормотал, что правду говорят,
не вертится… Но вдруг остатки крови
прихлынули к лицу, и вспыхнул взгляд,
и заявил он: «Эппур си муове!»
[3] …Теперь еретикам пришла пора кричать
о неподвижности планеты.
Толпа смеется. Клир кричит: «Ура!
В полете мир! Ему предела нету!»
Властителем мыслитель не судим —
тиранов вывели из обращенья,
но все же Галилей необходим,
чтобы напомнить про Земли вращенье.
1965
Дождь творит чудеса
Перевод Б. Слуцкого
Дождь закроет цветы,
а зонты раскроет,
дождь умоет лица пожилых каменотесов.
Дождь сплетет волосинки
на моей груди обнаженной
с хохолками мха на стене городской.
Дождь в рояль превращает
крышу и во флейту желоб.
Дождь не пропустит и церковь.
Дождь с травой перешепчется: тсс…
Похохочет с асфальтом.
Дождь — эстет,
дождь заставит женщин
приподнять свои юбки,
чем красивей колени,
тем выше.
Дождь глупцу отольет: тсс…
На макушку.
Дождь характеры завершает.
Дождь печальней печального, злого злее,
а веселого сделает веселее.
Дождь готовит людей для поэтов,
шелуху с них смывает.
1966
ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ
(Род. в 1920 г.)
Переводы В. Савельева
С казахского
{140}
«С казахского нелегок перевод…»
С казахского нелегок перевод…
Но в нем самой эпохи назначенье.
С казахского нелегок перевод…
Но он рождает мысли и горенье.
Любуйся, мир, бездонностью слезы!
Какой другой язык постигнет это?
Простор наш дал Баян и дал Козы
Задолго до Ромео и Джульетты.
Простые предки, песнями горя,
Овец отары торопили в дали.
В груди носили синие моря
И жажду из наперстка утоляли.
А гении в минувшие века
Не видели, как шло богатство прахом.
Казахского не знали языка,
А значит, и самой души казаха.
Нам всюду внемлют ныне
Млад и стар,
Хоть край наш для поэзии не тесен.
Созвездьями над родниками песен.
С казахского нелегок перевод…
Но смог и он на знаниях сказаться.
С казахского нелегок перевод…
Но есть казах, и есть язык казахский!
Да, есть язык — горам подобен он,
Цветам, и солнцу, и небесной сини.
Вам, языки друзей, земной поклон —
За перевод с казахского спасибо.
Прославить имя друга я готов:
Ведь два поэта, правды не нарушив,
Звучат как доноры прекрасных слов,
Мешая с кровью кровь, с душою душу.
О русский наш язык!
Живи в веках:
Как сад — плоды, ты щедро даришь славу.
Теперь звучат на многих языках
Прозренья наших песен величавых.
Ты — океан, не знающий оков,
Готовый с другом поделиться тайной.
И, внемля шуму мелких ручейков,
Я от стыда сгораю не случайно.
Ты выгоды не ищешь хмурым днем,
Не видишь в криках о себе резона.
Ты чтишь язык — пусть говорят на нем
Хоть тысяча людей, хоть миллионы.
Ты сам не языком ли Октября
Проник в надежды, в знания и в дали?
Не будь тебя, по правде говоря,
Мои б стихи над степью лишь звучали.
С казахского нелегок перевод…
Но верит гордость языку-батыру!
С казахского нелегок перевод…
Но есть и нам о чем поведать миру!
Плоды раздумий — дети всех живых.
И я стихи, исполненные света,
С других — перевожу на свой язык,
На мой, казахский, на язык поэтов.
Голос во мне
Я, друзья, на досуге и в честной работе,
Как влюбленный, счастливых часов не таю:
Все мне кажется, я не из клеточек плоти,
А из клеточек долга теперь состою.
Я в долгу перед Евой, Адамом, планетой,
Перед плеском воды и дыханьем огня.
Перед высью и глубью, зимою и летом,
Перед соком эпохи, вспоившим меня.
Я в долгу перед солнцем, цветами и небом,
Перед полднем и ночью, зовущей ко сну.
Долг кумысу, и соли, и черному хлебу —
Как, друзья, и когда этот долг я верну?
Все, что светлого есть у меня и со мною,
Я другим отдаю и судьбу не корю.
Но какою же будет оплачен ценою
Долг народа и долг моему Октябрю!
Новый миг начинается в новой заботе,
Предвещая и правду, и долг, и борьбу.
Если скажет мне время:
«С тобой мы в расчете!» —
Я верну ему жизнь, обрывая судьбу.
День за днем убывают года постепенно.
Увядая, отходят цветы в забытье.
И звучит во мне,
Кровь разгоняя по венам,
Голос долга, как гулкое сердце мое.
Стих
Ты не у горной ли реки
Берешь характер одичало?
Твои глаза — что огоньки,
Во тьме горящие ночами.
В себе и молнию сведя,
И гром над нашей стороною,
Ты — плодородие дождя,
К земле спешащего весною.
Таишь ты в тихие часы
Сердец разбуженных волненье
И шелка девичьей косы
Тревожное прикосновенье.
Ты счастьем проникаешь в грудь.
Как смерть, слепишь слезой горячей.
Но чтоб зарнице полыхнуть,
Должны столкнуться туча с тучей.
Печали, радости, тоска
Должны излиться откровеньем,
Чтоб стихотворная строка
Вдруг забурлила вдохновеньем.
Ты в сложном мире — как боец,
Возвышенность дарящий веку.
Не от горящих ли сердец
Огонь достался человеку?…
«Колдунья ты моя…»
Хоть прошла моя оспа, все жаждет спина,
Чтоб ее почесала девчонка одна…
Из шуточной песни
Колдунья ты моя,
Мой врач и сладость меда,
И воздух мой,
И яд, разящий наповал!..
Рыдать или шутить я должен в эти годы,
С успехом одолев опасный перевал?
«Все юные сердца в одном порыве слиты…»
Чтоб сон не отпугнуть холодною рукой,
Я шелковым платком нарушил твой покой…
Из народной песни
Все юные сердца в одном порыве слиты,
Тая в себе и страсть,
И чувств орлиный взлет.
Где благородство душ,
Там рыцарю-джигиту
Красавица и жизнь, как сердце, отдает.
«Верность клятве и руки, сплетенные туго…»
Забудешь ли меня когда-нибудь?
Тогда, мой друг, и бога позабудь!..
Из народной песни
Верность клятве и руки, сплетенные туго,
Для казахов священны.
Недаром у нас Не хулили жених и невеста
Друг друга,
Даже если размолвка случалась подчас.
Верность клятве и руки, сплетенные туго,
Были святы.
Не зря оскорбленье и страсть
Лишь законами чести судили
Друг друга,
Почитая любовь, словно высшую власть.
АЛЕКСЕЙ ПЫСИН
(Род. в 1920 г.)
Авторизованный перевод Глеба Пагирева
С белорусского
{143}
В наступлении
Передний край. Чужой. Пустынный, странный,
Как полюс мерзлоты, как мерзлота.
На серый снег легли меридианы —
Армейские прямые провода.
А в них — фронтов неровное дыханье,
Бессонные командные басы,
Слова приказа, что на завтра станет
Дыханьем ураганной полосы.
Сегодня небу жарко… В наступленье
Весна и мы — в колоннах штурмовых.
На горизонте вздыбленные тени
Убийц вчерашних — мертвых и живых…
Звенели птицы где-то на опушке,
Чуть зеленел оттаявший курган,
И наш связист с наполненной катушки
Наращивал земной меридиан.
Иван-чай
Манит незнакомая дорога,
И себе ты скажешь: примечай.
А когда дорог на свете много,
Друг мой иван-чай?
Я своих смоленских не забуду —
Снег и слякоть, мокрое жнивье.
Трижды брали мы деревню Буду,
Трижды умирали за нее.
А под Будой — братские курганы,
А под Будой многие легли
Алексеи, Викторы, Иваны —
В глину, на сырую грудь земли.
Поднялись травой и горицветом —
То ли в сказке, то ли наяву?
Вот Иван стоит по-над кюветом,
Головой кивает мне: «Живу!
Не дивись, мои услышав стоны:
Восемь ран — я кровью весь истек…
Скоро осень. Каркают вороны.
Желтый возле ног лежит листок.
Угощу, коль хочешь, нашим чаем,
Я ж теперь навеки водохлеб».
Нет, Иван, мы с чаем заскучаем,
Закурить сейчас — вот хорошо б!
Мы цигарку скрутим по-былому,
Пустим сизый дым на провода.
Первая затяжка мне, живому, —
Столько в сердце горечи — беда.
…………………
Цвет багровый — смелость, правота.
Позывные
Расщебетались птицы не ко дню.
Вновь ожило забытое до срока.
Друзьям-товарищам я позвоню,
Товарищам, что от меня далеко.
Перед глазами все, я вижу их,
Как на снегу, — и призрачно, и ярко.
Я не забыл давнишних позывных:
«Сосна» и «Сокол», «Буря» и «Фиалка».
Я ожидаю, вызов повторив,
А даль молчит, а тишина немеет.
Ищи же вновь на линии обрыв,
Зови — кто два конца срастить сумеет.
«Гул вокзалов. Облака в зените…»
Гул вокзалов. Облака в зените.
Бесконечность рельсов познаю.
Поезда ночные, покажите
Маленькую станцию мою.
За окном берез густое коло
{144} С громом, с дымом кружится — взгляни.
В кутерьме лесного частокола
Гулкие проносятся огни.
И меня березовой весною
Подхватила эта карусель.
Тысяча земель передо мною,
И за мною тысяча земель.
Вот гляжу я со своей площадки
На дожди, на рощи под дождем.
Сколько лет забрали пересадки
С неким бесполезным багажом!
Мне б туда, где осень на полянах
Жжет воспоминаний листопад.
Память, греешь ты в своих карманах
Две руки, простертые назад.
До зари чего-то ожидаю,
До зари кого-то все молю.
Под щекой, сдается, ощущаю
Маленькую станцию мою.
«В сизой мгле над поймою днепровской…»
В сизой мгле над поймою днепровской
Промелькнуло платьице твое…
Начинать весну совсем не просто,
Как не просто выдумать ее.
Над водой играют переправы,
Бьет вода в немые берега.
Вновь дымятся летошние травы,
Летом не попавшие в стога.
Давнее с сегодняшним сплелося,
След над следом…
И сдается мне:
Это все со мною, все сбылося —
Вплоть до белой ласточки в окне.
Зимнее
Зимний ветер — парус полотняный
Вновь поет, трепещет над стрехой.
На окне сибирские лианы
День рисует смелою рукой.
Все ясней, рельефней с каждым часом
Свет зимы над сгорбленным мостком.
Я в давнишней дружбе с ясноглазым
Живописцем, с этим мастаком.
Может, будет холод небывалый, —
Утешаю сам себя всерьез:
Вот отсюда только два привала
До высокой зелени берез.
«Вечерний сад. Под небом сонным…»
Вечерний сад.
Под небом сонным
Плывет высокое окно.
Огнем березовым, зеленым
Меня к себе влечет оно.
Там гомон голосов ребячьих.
Но стихло все. Из дома в сад
Веселый юный барабанщик
Выводит с песней свой отряд.
С дороги отступают тени,
Светлеют контуры дерев…
Я долго слышал в отдаленье
Неугасающий напев.
Густая медь с ветвей стекает.
Покой садам. Покой борам.
А в сердце эхо не стихает —
Гремит тревожный барабан.
«Ветра мои, друзья мои!..»
Шумите, вейте что есть мочи,
Пусть только гул, пусть только свист;
Смывайте с неба темень ночи,
Сметайте пожелтевший лист,
Чтоб очи были голубыми,
Чтоб настежь мир под сквозняком.
Стою под ветрами — любыми —
Не флюгером, не ветряком.
Пускай на каторге бессменной
Былое мелют ветряки, —
Я слышу — дышат во Вселенной
Скуластые материки.
О ветры! Вы меня водили
Дорогами глухой поры,
Как самовары, не чадили, —
А разгорались, как костры.
Костров и листьев полыханье…
Наплыв озерной синевы…
Мое последнее дыханье
С собою понесете вы,
ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ
(Род. в 1920 г.)
{145}
Ночная атака
Прожектор, холодный и резкий,
Как меч, извлеченный из тьмы,
Сверкнул над чертой перелеска,
Помедлил и пал на холмы.
И в свете его обнаженном,
В сиянии дымном, вдали,
Лежали молчащие склоны
По краю покатой земли.
Сверкая росой нестерпимо,
Белесая, будто мертва,
За еле струящимся дымом
Недвижно стояла трава.
Стоял перелесок за полем.
И четким и плоским он был,
Как будто из черного толя
Зубцы его кто-то скроил.
Вся ночь, притаившись, молчала.
Еще не настала пора.
И вдруг вдалеке зазвучало
Протяжно и тихо: «Ура-а-а!»
Как будто за сопкою дальней
Вдруг кто-то большой застонал,
И звук тот, глухой и печальный,
До слуха едва долетал.
Но ближе, все ближе по полю
Катился он. И, как игла,
Щемящая ниточка боли
Сквозь сердце внезапно прошла…
А рядом — с хрипеньем и хрустом —
Бежали, дыша горячо,
И сам я летел через бруствер,
Вперед выдвигая плечо.
Качалась земля под ногами.
Металась луна меж голов.
Да билось, пульсируя, пламя
На выходах черных стволов.
В конце войны
Я это видел, помнится, в Литве.
Уже войны три года отстучало.
Три дня не спавший,
У леска, в траве,
Так полк храпел, — траву вокруг качало.
Полуденный вдали струился зной.
Басила рядом пушка безголосо.
И в воздухе, настоянном сосной,
Как пули у виска, жужжали осы.
И, как на дне реки,
Под птичий щелк,
Средь трав густых, как под водой зеленой,
Сраженный сном, лежал стрелковый полк,
На два часа от мира отрешенный.
Как будто в бездну провалился он.
И только гвозди, слева или справа,
Сияли с каблуков со всех сторон,
Как звезды, ливнем канувшие в травы.
Пыль до колен, как латы, на ногах.
Темнеют лица, словно из металла.
И руки, полускрытые в цветах,
По сторонам разметаны устало.
На коже их — окалина и чад.
И, вечными мозолями покрыты,
Они привычно на стволах лежат,
Тяжелые, как конские копыта…
Давно прошла великая война.
Молчат до срока полковые пушки.
А мне и до сих пор еще видна
Та, вся в цветах, поляна у опушки.
Там спят солдаты, сдавшиеся сну.
Видны в траве —
Волна бежит по следу —
Их ноги, уходившие войну,
Ладони рук, сработавших победу.
«Когда под гром фанфарных маршей…»
Когда под гром фанфарных маршей
Иль плач гармоники губной
Летели вспять теплушки наши
С полей Европы в край родной,
И, на плетни склонясь косые,
Горячим светом тысяч глаз
На нас глядела вся Россия,
На всех путях встречая нас,
И лишь для нас светили звезды,
Цвели цветы, гремела медь,
И, становясь железным, воздух
Сам начинал уже греметь, —
Тогда, веселым, нам казалось,
Что, небывала и грозна,
Прошла и за спиной осталась
И впрямь последняя война.
О маме
Звенит за простенком синица,
Играет в свистульку-дуду.
А мне, поседевшему, снится, —
Я, маленький, с мамой иду.
В платочке и кофте цветастой,
Она, молодая на вид,
Ко мне наклоняется часто
И что-то, смеясь, говорит.
И я, карапуз пятилетний,
Иду по тропе полевой.
И день, беспредельный и летний.
Плывет над моей головой.
Звонят за пригорком к обедне —
Там маковка церкви видна.
И звук тот, округлый и медный,
Плывет, за волною — волна.
Бегут облака кучевые.
Весь мир голубой на виду.
Обутый в ботинки впервые,
Я в гости впервые иду.
И мама, платок поправляя,
Взяв шпильки в смеющийся рот,
Идет молодая,
Живая,
Веселая.
Рядом идет.
Главная книга
Еще слово дымится,
Как слеза на щеке,
На последней странице,
На последней строке.
Только-только сронили
Губы, — воздух дрожит.
Не остыв, у горнила
Это слово лежит.
А уж книга иная,
Та, что главной зовут,
Снисхожденья не зная,
Подошла.
Тут как тут.
Эта главная книга —
Моя радость и боль,
Крылья вдаль и вериги,
Мед душистый и соль.
Мне врученный в наследство,
Хоть и нет уж его,
Дом рожденья и детства,
Дом отца моего.
Дух полей
И дыханье
Надо мною родных.
Мое слово признанья,
Моя память о них…
Испытуя терпенье,
То грозя, то маня,
Как давно в отдаленье
Она держит меня.
Словно горная круча
В череде снеговой.
Путь к ней круче и круче
Над моей головой.
Но, поверить не смея,
Я иду и иду,
Лишь ее и имея
Среди прочих
В виду.
ДАВИД САМОЙЛОВ
(Род. в 1920 г.)
{146}
«Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал…»
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
Я любил, размышлял, воевал.
Кое-где побывал, кое-что повидал,
Иногда и счастливым бывал.
Гнев меня обошел, миновала стрела,
А от пули — два малых следа.
И беда отлетела, как капля с крыла,
Как вода, расступалась беда.
Взял один перевал, одолею второй,
Хоть тяжел мой заплечный мешок.
Что же там, за горой? Что же там — под горой?
От высот побелел мой висок.
Сорок лет. Где-то будет последний привал?
Где прервется моя колея?
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
И не допита чаша сия.
1960
Слова
Красиво падала листва,
Красиво плыли пароходы.
Стояли ясные погоды,
И праздничные торжества
Справлял сентябрь первоначальный,
Задумчивый, но не печальный.
И понял я, что в мире нет
Затертых слов или явлений.
Их существо до самых недр
Взрывает потрясенный гений.
И ветер необыкновенней,
Когда он ветер, а не ветр.
Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.
1961
Сороковые
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
1961
Старик Державин
Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил…
В эту пору мы держали
Оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
С пулеметом я лежал своим.
Это не для самооправданья:
Мы в тот день ходили на заданье
И потом в блиндаж залезли спать.
А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал: «Вот черти!
Некому и лиру передать!»
А ему советовали: «Некому?
Лучше б передали лиру некоему
Малому способному. А эти,
Может, все убиты наповал!»
Но старик Державин воровато
Руки прятал в рукава халата,
Только лиру не передавал.
Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал,
Что-то молча про себя загадывал.
(Все занятье — по его годам!)
По ночам бродил в своей мурмолочке,
Замерзал и бормотал: «Нет, сволочи!
Пусть пылится лучше. Не отдам!»
Был старик Державин льстец и скаред.
И в чинах. Но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин был старик!
1962
«Давай поедем в город…»
Давай поедем в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале.
Года пускай хранятся,
А нам храниться поздно.
Нам будет чуть печально,
Но бодро и морозно.
Уже дозрела осень
До синего налива.
Дым, облако и птица
Летят неторопливо.
Ждут снега, листопады
Недавно отшуршали.
Огромно и просторно
В осеннем полушарье.
И все, что было зыбко,
Растрепанно и розно,
Мороз скрепил слюною,
Как ласточкины гнезда.
И вот ноябрь на свете,
Огромный, просветленный.
И кажется, что город
Стоит не населенный, —
Так много сверху неба,
Садов и гнезд вороньих,
Что и не замечаешь
Людей, как посторонних…
О, как я поздно понял,
Зачем я существую,
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую,
И что, порой, напрасно
Давал страстям улечься.
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься…
1963
Перед снегом
И начинает уставать вода.
И это означает близость снега.
Вода устала быть ручьями, быть дождем,
По корню подниматься, падать с неба.
Вода устала петь, устала течь,
Сиять, струиться и переливаться.
Ей хочется утратить речь, залечь
И там, где залегла, там оставаться.
Под низким небом, тяжелей свинца,
Усталая вода сияет тускло.
Она устала быть самой собой,
Но предстоит еще утратить чувства,
Но предстоит еще заледенеть
И уж не петь, а, как броня, звенеть.
Ну а покуда — в мире тишина.
Торчат кустов безлиственные прутья.
Распутица кончается. Распутья
Подмерзли. Но земля еще черна.
Вот-вот повалит первый снег.
1964
Память
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом — однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
1964
Пестель, поэт и Анна
Там Анна пела с самого утра
И что-то шила или вышивала.
И песня, долетая со двора,
Ему невольно сердце волновала.
А Пестель думал: «Ах, как он рассеян!
Как на иголках! Мог бы хоть присесть!
Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть.
И молод. И не станет фарисеем».
Он думал: «И, конечно, расцветет
Его талант, при должном направленье,
Когда себе Россия обретет
Свободу и достойное правленье».
— Позвольте мне чубук, я закурю.
— Пожалуйте огня.
— Благодарю.
А Пушкин думал: «Он весьма умен
И крепок духом. Видно, метит в Бруты.
Но времена для Брутов слишком круты.
И не из Брутов ли Наполеон?»
Шел разговор о равенстве сословий.
— Как всех равнять? Народы так бедны, —
Заметил Пушкин, — что и в наши дни
Для равенства достойных нет условий
И посему дворянства назначенье —
Хранить народа честь и просвещенье.
— О да, — ответил Пестель, — если трон
Находится в стране в руках деспота,
Тогда дворянства первая забота
Сменить основы власти и закон.
— Увы, — ответил Пушкин, — тех основ
Не пожалеет разве Пугачев…
— Мужицкий бунт бессмыслен… —
За окном
Не умолкая распевала Анна.
И пахнул двор соседа-молдавана
Бараньей шкурой, хлевом и вином.
День наполнялся нежной синевой,
Как ведра из бездонного колодца.
И голос был высок: вот-вот сорвется.
А Пушкин думал:
«Анна! Боже мой!»
— Но, не борясь, мы потакаем злу, —
Заметил Пестель, — бережем тиранство.
— Ах, русское тиранство — дилетантство,
Я бы учил тиранов ремеслу, —
Ответил Пушкин.
«Что за резвый ум, —
Подумал Пестель. —
Столько наблюдений
И мало основательных идей».
— Но тупость рабства сокрушает гений!
— На гения отыщется злодей, —
Ответил Пушкин.
Впрочем, разговор
Был славный. Говорили о Ликурге,
И о Солоне, и о Петербурге,
И что Россия рвется на простор,
Об Азии, Кавказе, и о Данте,
И о движенье князя Ипсиланти.
Заговорили о любви.
— Она, —
Заметил Пушкин, — с вашей точки зренья,
Полезна лишь для граждан умноженья
И, значит, тоже в рамки введена. —
Тут Пестель улыбнулся.
— Я душой
Матерьялист, но протестует разум. —
С улыбкой он казался светлоглазым.
И Пушкин вдруг подумал: «В этом соль!»
Они простились. Пестель уходил
По улице разъезженной и грязной,
И Александр, разнеженный и праздный,
Рассеянно в окно за ним следил.
Шел русский Брут. Глядел вослед ему
Российский гений с грустью без причины.
Деревья, как зеленые кувшины,
Хранили утра хлад и синеву.
Он эту фразу записал в дневник —
О разуме и сердце. Лоб наморщив,
Сказал себе: «Он тоже заговорщик.
И некуда податься, кроме них».
В соседний двор вползла каруца цугом.
Залаял пес. На воздухе упругом
Качались ветки, полные листвой.
Стоял апрель. И жизнь была желанна.
Он вновь услышал — распевает Анна.
И задохнулся:
«Анна! Боже мой!»
1965
Выезд
Помню — папа еще молодой,
Помню выезд, какие-то сборы.
И извозчик лихой, завитой,
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.
А в Москве — допотопный трамвай,
Где прицепом — старинная конка.
А над Екатерининским — грай.
Все впечаталось в память ребенка.
Помню — мама еще молода,
Улыбается нашим соседям.
И куда-то мы едем. Куда?
Ах, куда-то, зачем-то мы едем…
А Москва высока и светла.
Суматоха Охотного ряда.
А потом — купола, купола.
И мы едем, все едем куда-то.
Звонко цокает кованый конь
О булыжник в каком-то проезде.
Куполов угасает огонь,
Зажигаются свечи созвездий.
Папа молод. И мать молода,
Конь горяч, и пролетка крылата.
И мы едем незнамо куда —
Всё мы едем и едем куда-то.
1966
РАМЗ БАБАДЖАН
(Род. в 1921 г.)
С узбекского
{147}
«Каждой осенью тянет в дорогу…»
Перевод А. Наумова
Каждой осенью тянет в дорогу.
Каждой осенью дали близки,
И глядит белизна сквозь мороку
Облетающей шалой листвы.
Каждой осенью трепет знакомый
Проступает за картами лиц.
И сияние шири хлопковой —
Словно белый нетронутый лист.
Так просторы зовущи и строги,
Так значительна осень сама,
Так нежданно сливаются в строки
Прозвучавшие в сердце слова…
Отчего это все? Оттого ли,
Что и планы нас полнят,
и тот
Подводимый и сердцем и полем
Многотрудного года итог?
Оттого ль, что и солнцем согреты,
И прохладно-пронзительны дни?
Оттого ли, что сердце поэта
Этой шири родимой сродни?
«Тихо-тихо дышишь ты во сне…»
Перевод С. Северцева
Тихо-тихо дышишь ты во сне,
На лице — счастливое свеченье,
Словно ты в подводной глубине
Плавно уплываешь по теченью.
Тихо-тихо дышишь ты во сне,
Я ж пишу до самого рассвета.
Если б смог я выразить вполне,
Чем душа в такую ночь согрета!
Тихо-тихо дышишь ты во сне,
Это значит: спит мой главный критик,
Тайных мыслей нет давно во мне —
Все равно ведь от тебя не скрыть их.
Тихо-тихо дышишь ты во сне,
И над сонной красотой твоею
Я шепчу признанья в тишине,
Только повторить их не посмею.
Новые рубаи
Перевод Н. Грибачева
* * *
Кто в гору шел легко, тот вниз сползет легко
и ноги зря свои изранит глубоко.
Кто с трудной ношей движется все выше —
тому и до небес недалеко.
* * *
Я в море не плыву и в небо не лечу,
я по земле идти среди друзей хочу.
Для одоленья волн и для боренья с бурей
лишь от родной земли я силу получу.
* * *
От хмурой мне горька и с чаем пиала,
уж лучше бы воды с улыбкой подала.
По милости лгуна в меня бросая камень,
не сбей свечу любви, что ты сама зажгла.
* * *
Жизнь радости длинна, а горя — коротка,
как без деревьев сад, жизнь без людей — тоска.
Правдивая строка — как памятник в металле,
со лживого пера — как ржавчина, строка.
* * *
Даже сокол порой прерывает полет,
и крошится гора из крепчайших пород.
Не гордись своей славой, вертушкой лукавой:
обласкает тебя — и к другому уйдет!
«Я проснулся на белом рассвете…»
Перевод А. Наумова
Я проснулся на белом
Что меня разбудило, скажи?…
Тени веток лежали, как сети.
Тихий ветер. Кругом — ни души.
Только сад мой в привычном привете
Шелестел — и по этой примете
Я узнал себя в нежной тиши.
Я был тот же!..
Но странное счастье,
Как прилив, заполняло меня,
Точно был не собой я, а частью
Небывалого белого дня,
Ясным небом, скрепленным печатью
Золотого, живого огня,
Синим воздухом, зеленью, чащей,
Ключевою водою звучащей,
Вздохом ветра и ржаньем коня.
Точно был я во всем, что за мною
Шло всю жизнь, собирая следы, —
И дыханьем, и плотью земною,
И родною землею самою,
Частью вечной ее чистоты.
И лежал я, блаженно недвижен,
Точно вложенный в ножны кинжал,
Точно, чем-то отмеченный высшим,
Я из рук оружейника вышел
И нежданно в цене дорожал.
И все то, что торжественной высью
Надо мной возносилось во сне,
Все, что было кругом и вовне,
То теперь надвигалось, нависло —
Ощущеньем, и словом, и мыслью
Собиралось и зрело во мне.
Так лежал я и думал: «Отчизна!
Вот что значит быть частью твоей,
Кожей чувствовать дали и числа,
Шорох поля и трепет ветвей.
Вот что значит быть вместе с тобою —
Подыматься, грустить, молодеть,
Брать ли с бою, дарить ли с любовью,
Петь ли с болью иль в радости петь…
Видно, в этом и сила и слава
Тех, кто пашет, и сеет, и жнет,
Варит сталь или водит составы,
Кто имеет высокое право
На высокое званье «народ»…
Это те, что земле без обмана
Всех себя отдавали сполна,
И не зря им, как нежная мама,
Ничего не жалеет она:
Сеют горсть — получают батманы
Золотого, как солнце, зерна,
Подымают седые хирманы,
Высевая весной семена…
И недаром раздвинулись в шири
Горизонты бессонных огней:
Нечто больше, чем труд свой, вложили
В эту землю — и дерзостно жили
Современники наши на ней!..»
Я оделся и вышел. Округа
Закипала. В свечении дня
Что-то явно менялось, и круто;
Мир просторнее стал почему-то.
И рассветного счастья минута
Оставалась в душе у меня…
«Хочешь — добуду луну с высоты…»
Перевод С. Кузнецовой
Хочешь — добуду луну с высоты,
Хочешь — в букет соберу, как цветы,
Звезды на синем небесном лугу?
Все, дорогая, сумею, смогу!
Плеч моих только с любовью коснись —
Вырастут крылья, помчат меня ввысь!
Пусть посмеешься ты вновь надо мной —
Я фантазер ведь и вправду чудной.
Скажешь: «В мальчишество впал ты, поэт!» —
Лишь улыбнусь я на это в ответ.
Сердцу послушен я в певчей судьбе,
Певчее сердце стремится к тебе.
Рядом со мной или там, вдалеке —
Все мое счастье ты держишь в руке.
Доли другой на земле не хочу!
«К солнцу!» — ты скажешь, я к солнцу взлечу,
Лишь бы с победой в сиянии дня
Первая ты поздравляла меня!
«Жизнь мечтами, как чаша, полна…»
Перевод С. Кузнецовой
Жизнь мечтами, как чаша, полна,
Синевою и голубизною.
Как я счастлив, что снова весна,
Время года, любимое мною.
Как я счастлив, что снова светло
Солнце с неба на землю стекает.
Как я счастлив, что снова тепло
Побледневшие щеки ласкает.
Как я счастлив, что снова возник
Вдохновения миг, как подарок,
Что на родине жизни цветник
Расцветает, и пышен и ярок.
Индийские напевы
Перевод С. Северцева
Звучат в вечерней мгле индийские напевы —
В Ташкенте, на полях, на берегу канала.
Впивают эту песнь сады, луга, посевы,
Всех песен для меня она дороже стала.
Могучею волной течет поток эфира,
И в песне бьет крылом надежда и свобода,
И чувствует душа тепло большого мира —
Дыханье и борьбу великого народа.
Хоть непонятны мне слова его наречья,
Но как волнует грудь порыв его стремлений!
Несется песня вдаль — счастливым дням навстречу,
Звенит и ширится над всей землей весенней!
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ
(Род. в 1921 г.)
{148}
«Душа, чело и вечность…»
Душа, чело и вечность…
Прислушайтесь к словам,
В них слово «человечность»
Не слышится ли вам?
Душа, душа, душевность,
Напевность слов простых,
И чувств неповседневность,
И вся волшебность их.
Чело, чело, очелье,
Ученье, а не тьма,
Жестокое значенье
Высокого ума.
Года, столетья, вечность…
Сквозь эту млечность лет
Я вижу твой, сердечность,
Неразличимый след.
Сударка
Не раз навстречу жарко,
Заслышав скрип саней,
К нему на грудь сударка
Кидалась из сеней.
На плечи ей
он шубы
Бросал соболий мех.
И нес,
целуя в губы,
По лесенке наверх.
С княжной во храме венчан,
Но счастлив был опять
В светелке целый вечер
Сударку обнимать.
Она во власти пыла,
Сгорая от любви,
«Мой милый» говорила
Заместо «мои ами».
Не ведал он,
покуда
Здесь, грешный, не постиг,
Какое это чудо —
Отеческий язык.
Ни одного подарка
Сударка не брала,
Но от любви сударка
Без памяти была.
Порой она вздыхала
И, пряча горечь слез,
На пальчик навивала
Кольцо его волос.
Что думала при этом,
Святейшая, она?…
Зима прошла, а летом
Нагрянула война.
Он прилетел проститься
И, не сказав всего,
Просил ее молиться
В разлуке за него.
Не помогли молитвы,
И тот, кто сердцу мил,
На дымном поле битвы
Смертельно ранен был.
Звезда мерцала ярко,
И чудилось ему,
Что с облаков сударка
Зовет его сквозь тьму.
Фельдмаршал, сидя тучно,
Писал числа того
Вдове собственноручно
О гибели его.
Отпели в храме пышно,
Светлела синева,
И вскоре замуж вышла
Красавица вдова.
И трепетно огарка
Свет падал из угла
В том доме, где сударка
Слезами изошла.
Не оплавленный снег
Люблю не оплавленный снег,
Увенчанный бронзою дуба,
Искрится он так белозубо,
Как будто бы девичий смех.
Сощурив глаза половчей
И встав против солнца заране,
Увижу на белой поляне
Я сонмы зажженных свечей.
День красен, как долг платежом,
И, вклинившись между снегами,
Дорога скрипит под ногами,
Что спелый арбуз под ножом.
Уста наши схожи с костром,
Когда свое сердце мы слышим
И на руки женщинам дышим,
Их грея над снежным ковром.
Ах, чей это промысел, чей?
Была б моя добрая воля,
Я с женщин, деревьев и поля
Вовек не сводил бы очей.
Купальщица
В кустах, где птаха песню ладила,
Она разделась догола,
И груди властные огладила,
И в реку синюю вошла.
И, запрокинув стан не кукольный,
Блаженно на спину легла.
И, словно белый храм двухкупольный,
Вниз по теченью поплыла.
Усыновленные слова
Был затуманен и задымлен
Их тайный путь,
которым встарь
Они от персов или римлян
Пришли когда-то в наш словарь.
Задумаюсь над словом «сфера»
И удивлюсь опять:
ужель
Еще Эллада до Гомера
Качала «сферы» колыбель?
И, зажигаясь, словно свечи,
Иноязычные слова
Всегда имели в русской речи
Не ущемленные права.
И, находясь при славном деле,
Перед другими не в тени,
Давным-давно как обрусели,
Усыновленные, они.
ВАСИЛИЙ КУЛЕМИН
(1921–1962)
{149}
Творчество
Вы знаете, как плачет синева?
Леса свои выбрасывают флаги,
И, как синицы, гордые слова,
Слетевшись, отдыхают на бумаге.
Друг другу ничего не говоря,
Они сидят, они молчат до срока,
Пока придет их первая заря
И переменит все в мгновенье ока.
Всему иной, особый оборот,
И ты на мир посмотришь отвлеченно,
Где вдруг воскреснет
Смертью обреченный,
А тот, другой,
В расцвете сил умрет.
1960
«На наш бульвар лосенок выскочил…»
На наш бульвар лосенок выскочил.
Откуда он сюда, голубчик?
Весь из куска самшита выточен.
А меж рогов плутает лучик.
Остановился на газоне,
Где бирочка: мол, рвать не велено.
И дворник тер глаза спросонья
И всматривался неуверенно.
Запало где-то слово крепкое,
Что приготовил он для оклика.
Лосенок с головой нелепою,
Похожей издали на облако.
Дома глазами заморгали,
И кто-то крикнул: — Эй, держите!.. —
И прыснул спорыми ногами
Лесов неискушенный житель.
Пред ним все двигалось, летело
Сплошным, необъяснимым ребусом.
От криков спрятаться хотел он
И вот упал — задет троллейбусом.
Лосенок помешал кому-то —
Совсем негаданно, невиданно.
А для меня померкло утро.
Убили люди неожиданность.
Убили красоту спросонок,
Под звуки утреннего вальса.
Хочу, чтоб этакий лосенок
В любви почаще появлялся.
Нельзя, чтоб все текло размеренно,
Как заведенное однажды:
Муж на жену глядел уверенно,
Без удивления и жажды…
Тех дней-воробушков не надо нам.
Гоните их дубьем, пинайте
И в час, явившийся негаданно,
Лосенка вы не прогоняйте.
1962
МИРМУХСИН
(Род. в 1921 г.)
С узбекского
{150}
Горсть земли
Перевод Ю. Хазанова
Стою на земле и держу ее горстку в ладони,
стою на земле и к глазам эту горсть подношу…
Родная земля, ты — наш мир, наша мать, наша доля,
тебе поклониться всем сердцем сыновним спешу!
Лежат на ладони твои золотые крупицы,
сквозь них прозреваю я сердце живое твое,
и вижу, как хлопок поземкою снежной клубится,
и вижу: желтеет в прогалинах черных жнивье.
Твой запах обычен, и прост, и совсем не изыскан,
но в недрах своих аромат ты рождаешь любой:
весь мир одаряешь и розами и тамариском,
и амбра и мед неразлучны, как воздух, с тобой.
Ты с виду проста — не блестишь драгоценным алмазом,
тебя не сравнить с многоцветным павлиньим хвостом.
Как радуга, ты не горишь всеми красками разом —
но как ты прекрасна в обличии этом простом!
Ты темного цвета, родная, ты бурого цвета,
но хлопок, рожденный тобою, белей молока;
нет вкуса в тебе… что же, может, действительно нету —
но сладок твой мед: это было и будет века!
Ты радость и разум, ты наша судьба и уменье,
начало начал — наша нива и наше жнивье…
Я отдал бы весь драгоценный металл и каменья
за бурую горсть,
за бессмертную силу ее!
1962
«Ни дня без войн на лучшей из планет…»
Перевод А. Наумова
Ни дня без войн на лучшей из планет —
да и в былом искать такой не стоит.
Пускай и приукрасит даль историк —
дня без борьбы
в земных анналах нет.
Но если бы не красил крови цвет
нежнейшую из созданных идиллий,
когда б одни, борясь, не уходили —
другие не являлись бы на свет.
Борьбой и болью полнится от века
любая быль,
исток любви любой.
И неспроста сопровождает боль
рождение строки и человека.
Душа не зря останется пуста,
не опалясь страданием каким-то…
Так не заменит нам бумаги кипа
исписанного гением листа.
1964
Руки, побеждающие смерть
Перевод С. Северцева
Да, оперировать сердце живое —
Словно в полете чинить самолет.
Кто же способен на чудо такое?
Вот она в белом халате идет.
Славлю не мудрую жрицу науки
И не улыбку приветливых глаз, —
Славлю красивые, тонкие руки,
Смерть победившие тысячу раз!
1965
«Люби начальный свет отчизны…»
Перевод А. Наумова
Люби начальный свет отчизны,
тебе завещанный людьми,
и все корыстное отчисли
из этой радостной любви.
Люби — и, если надо, снова
свой жар умей ему отдать
не ради славы или слова,
не ради блеска и удач.
Какой другой любови страстной
ты не стремился бы вослед —
в толпе, в труде и в шуме странствий
неси высокий этот свет.
И если, всем идущим бедам
и всем превратностям назло,
ты будешь полон этим светом —
считай, что в жизни повезло.
И в день надежд, и в час печальный,
от равнодушья утаив,
храни отчизны свет начальный
до окончанья дней твоих…
1967
Земной простор
Перевод С. Северцева
Двухмоторный стремительный сокол
над просторами мощно гудит.
Мы несемся высоко-высоко,
остается наш край позади.
К новым далям, широко раскрытым,
мы стрелою уносимся,
но
в даль родную могучим магнитом
тянет душу мою все равно.
Над громадой простора земного
мы несемся, гудя и звеня,
но объятия края родного
отпускать не желают меня…
1967
СЕРГЕЙ ОРЛОВ
(Род. в 1921 г.)
{151}
На привале
Как из камня высечены сталью,
От сапог до самых плеч в пыли,
Разметавшись молча на привале,
Спят солдаты посреди земли.
А от них налево и направо
Зарева полощутся во мгле,
Догорает грозная держава
В свежей ржави, в пепле и золе.
Батареи издали рокочут,
Утопают города в дыму,
Падают разорванные в клочья
Небеса нерусские во тьму.
Но спокойно за пять лет впервые
Спят солдаты посреди огней,
Потому что далеко Россия —
Даже дым не долетает к ней!
«Кто же первый сказал…»
Кто же первый сказал мне на свете о ней?
Я никак не припомню сейчас.
Может, первый назвал ее имя ручей,
Прозвенел по весне и погас.
Мог сказать бы отец, но я рос без отца.
В школе мать говорила, обучая детей.
Я не слушал, я ждал лишь уроков конца, —
Дома не с кем меня оставлять было ей.
А вокруг только небо, леса и поля,
Пела птица-синица, гуляли дожди,
Колокольчик катился, дышала земля,
И звенел ручеек у нее на груди.
Может, птица-синица, береза в лесах,
Колокольчик с дороги, калитка в саду,
В небе радуга, дождь, заплутавший в овсах,
Пароход, прицепивший на мачту звезду,
Рассказали, как это бывает, о ней,
Но тогда я, пожалуй, был робок и мал
И не знал языка ни синиц, ни дождей…
Я не помню, кто мне о России сказал.
«Уходит в небо с песней полк…»
Уходит в небо с песней полк
От повара до командира.
Уходит полк, наряжен в шелк,
Покинув зимние квартиры.
Как гром, ночной аэродром.
Повзводно, ротно, батальонно
Построен в небе голубом
Десантный полк краснознаменный.
Там, в небе, самолетов след —
Как резкий свист кинжальных лезвий,
Дымок дешевых сигарет
И запах ваксы меж созвездий.
Пехота по небу идет,
Пехота в облаках, как дома.
О, знобкий холодок высот,
Щемящий,
Издавна знакомый.
По тем болотам подо Мгой,
Где мы по грудь в грязи тонули
И поднимались над кугой
На уровне летящей пули.
Смотрю, как мерзлую лозу
Пригнул к земле железный ветер,
Стою и слушаю грозу,
Как будто первый раз заметил,
Что подвиг, как бы он высок,
Как ни был бы красив, — работа.
И пахнет кирзою сапог,
И звездами, и солью пота…
Второй
Дорогу делает не первый,
А тот, кто вслед пуститься смог.
Второй.
Не будь его, наверно,
На свете не было б дорог.
Ему трудней безмерно было —
Он был не гений, не пророк —
Решиться вдруг, собрать все силы,
И встать, и выйти за порог.
Какие в нем взрывались мысли!
И рушились в короткий миг
Устои все привычной жизни.
Он был прекрасен и велик.
Никто не стал, никто не станет
Второго славить никогда.
А он велик, как безымянен,
Он — хаты, села, города!
И первый лишь второго ради
Мог все снести, мог пасть в пути,
Чтоб только тот поднялся сзади,
Второй, чтобы за ним идти.
Я сам видал, как над снегами,
Когда глаза поднять невмочь,
Солдат вставал перед полками
И делал шаг тяжелый в ночь.
В настильной вьюге пулемета
Он взгляд кидал назад: «За мной!»
Второй поднялся.
Значит, рота —
И вся Россия за спиной.
Я во второго больше верю.
Я первых чту. Но лишь второй
Решает в мире — а не первый, —
Не бог, не царь и не герой.
«Это было все-таки со мной…»
Это было все-таки со мной
В день девятый мая, в сорок пятом:
Мир желанный на оси земной
Утвердил я, будучи солдатом.
Пели птицы, радуга цвела,
Мокрой солью заливало щеки…
А земля сожженная ждала,
И с нее я начал, как с опоки.
Начал вновь мечты и все дела,
Села, пашни, города, плотины,
Выбелив на солнце добела
Гимнастерки жесткую холстину.
Это было все-таки со мной.
Для труда, прогулки и парада
Не имел я лучшего наряда
И в рабочий день и в выходной.
Кто-то за железною стеной
Рабским посчитал мое терпенье.
Что ему сказать? Его с коленей
В сорок пятом поднял я весной,
Начиная мира сотворенье.
Шел бетон, вставали корпуса,
Реки переламывали спины,
Домны озаряли небеса,
Плуг переворачивал равнины.
Это было все-таки со мной.
С неба на земные континенты
Я ступил, затмив собой легенды,
В форме космонавта голубой.
Я иду дорогою земной,
Перед солнцем не смежая веки…
Все, что в мире делается мной,
Остается на земле навеки.
«Его зарыли в шар земной…»
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей…
«А мы такую книгу прочитали…»
А мы такую книгу прочитали…
И нам о недочитанных жалеть.
В огне багровом потонули дали
И в памяти остались пламенеть.
Кто говорит о песнях не допетых?
Мы жизнь свою как песню пронесли…
Пусть нам теперь завидуют поэты:
Мы всё сложили в жизни, что могли.
Как самое великое творенье
Пойдет в века, переживет века
Информбюро скупое сообщенье
О путь-дороге нашего полка…
«Руками, огрубевшими от стали…»
1
Руками, огрубевшими от стали,
Писать стихи, сжимая карандаш.
Солдаты спят — они за день устали,
Храпит прокуренный насквозь блиндаж.
Под потолком коптилка замирает,
Трещат в печурке мокрые дрова…
Когда-нибудь потомок прочитает
Корявые, но жаркие слова
И задохнется от густого дыма,
От воздуха, которым я дышал,
От ярости ветров неповторимых,
Которые сбивают наповал.
И, не видавший горя и печали,
Огнем не прокаленный, как кузнец,
Он предкам позавидует едва ли,
Услышав, как в стихах поет свинец,
Как дымом пахнет все стихотворенье,
Как хочется перед атакой жить…
И он простит мне в рифме прегрешенье…
Он этого не сможет не простить.
2
Пускай в сторонку удалится критик:
Поэтика здесь вовсе ни при чем.
Я, может быть, какой-нибудь эпитет —
И тот нашел в воронке под огнем.
Здесь молодости рубежи и сроки,
По жизни окаянная тоска…
Я порохом пропахнувшие строки
Из-под обстрела вынес на руках…
БОСЯ САНГАДЖИЕВА
(Род. в 1921 г.)
С калмыцкого
{152}
Тюльпаны
Перевод Н. Матвеевой
С. И. Липкину
В магазинах утренней Москвы,
Разрисованные, как парча,
Из своей застенчивой листвы
Что-то мне заветное шепча,
Яркие московские цветы
На меня глядят, —
И я на них гляжу…
Никогда я к ним не подхожу,
Но и мимо них не прохожу…
…И опять я там, и снова там, —
Вечно у цветочного ларька;
Будто я привязана к цветам,
Будто слишком привязь коротка…
Продавщица,
Ставя нас в тупик,
Как бы не торгует, а дарит…
«А вот не хотите ли купить
Розовое масло?» — говорит.
Чудо-капли из Долины роз
Веют к нам болгарскою весной;
Сговорились двадцать сотен роз,
Уместились в капельке одной.
Деревянный кубок я беру,
Радужный вдыхаю аромат,
И, далекий,
Различаю вдруг
Голос… Он зовет меня назад…
…Где-то там
Качается тюльпан, —
Ненаглядный шелковый магнит.
Это он меня к моим степям
Так притягивает,
Так манит…
Раз в году
Пылает мой тюльпан,
Больше раза — лебедю не спеть…
На коня!
Скорей к моим степям!
Только бы к тюльпанам подоспеть!
ВАСИЛИЙ СУББОТИН
(Род. в 1921 г.)
{153}
Стихи
Дождь за окном. В блиндажике пустом
Сижу — одною думой озабочен.
Вода секунды звонкие на стол
Роняет с круглых темных потолочин.
Неясное я что-то на стене
Настойчивым отыскиваю взглядом,
Не понимая, ритм вошел ко мне
Иль донеслась глухая канонада.
Еще вожу рукою по листкам.
Дрова в печурке крохотной пылают.
И вот слова — я их давно искал —
Выстукивать мне капли начинают.
30 апреля 1945 года
Проем окна. Сползла на мостовую
Тень, что копилась долго на дворе.
Поставлены орудья напрямую,
И вздрагивает дом на пустыре…
Опасно оседающая зона.
Всего один осталось сделать шаг.
Сердитый командир у телефона.
Снарядами обглоданный рейхстаг.
Завален плац обломками и шлаком,
Повисли рваных проводов концы.
На этот раз в последнюю атаку
Из темных окон прыгают бойцы.
Бранденбургские ворота
Не гремит колесница войны.
Что же вы не ушли от погони,
Наверху бранденбургской стены
Боевые немецкие кони?
Вот и арка. Проходим под ней,
Суд свершив справедливый и строгий.
У надменных державных коней
Перебиты железные ноги.
«На сером фоне разрушений…»
На сером фоне разрушений,
Где и бурьян давно не рос,
Нарядным розовым цветеньем
Внезапно вспыхнул абрикос.
Вокруг еще развалин груды,
Но, в цепкой проволоке весь,
Тот абрикос возник как чудо.
А мы твердим, что нет чудес!
Старатель
С ним груз небогатый:
Мешок на спине,
Кайло да лопата,
Да ковш на ремне.
И знойно, и глухо,
И каплет с коры,
И резко над ухом
Звенят комары.
Не с первой лопаты
Песок золотой —
Изроет, как гряды,
Весь сумрак лесной.
И в каждом обрыве
Он пробу возьмет,
Покуда на смыве
В ковше не блеснет.
Туда, где потел он,
Другие придут.
Артельное дело —
Разведчика труд.
С ним груз небогатый:
Мешок на спине,
Кайло, да лопата,
Да ковш на ремне.
Мы оба, приятель,
С тобою в пути.
Я тоже — старатель.
Мне б слово найти.
Снег
И валит. И валит. И валит…
Какая, гляди, кутерьма.
А что, если за день, за два ли
По крышу укроет дома…
Все то же движенье снежинок.
Как враз потемнело у нас!
Должно быть, такая картина
По всей по России сейчас.
И так же легко и без шуму
Зима свой справляет приход:
И шубу кидает на шубу,
И шапку на шапку кладет.
«За горизонт уходит борозда…»
За горизонт уходит борозда.
И обнажило синеву отвала.
Простая эта почва никогда
Ни клубня и ни злака не рожала.
Лишь в небо отпускала соколят.
И зарастала ковылем по пояс.
Но борозда прорыта! И земля —
Нечаянно раскрывшаяся повесть…
Где наши строки верные легли,
Враждебных трав разорваны коренья.
Мы неживую область перешли.
И начинаем первый день творенья.
ИВАН ТАРБА
(Род. в 1921 г.)
С абхазского
{154}
Молитва
Перевод Я. Козловского
Пусть не заблудится путник в дороге,
Пусть над ним светит во мраке луна,
Пусть его женщина ждет на пороге,
Пусть она будет в него влюблена.
Пусть не томит меня лето жарою,
Пусть ко мне тянутся с веток плоды,
Пусть меня встретит родник под горою,
Пусть будет кружка стоять у воды.
Пусть мои годы не канут в туманы,
Пусть меня манит завидная даль,
Пусть заживут наболевшие раны,
Пусть будет горькой, но светлой печаль.
Пусть прошумят благодатные грозы,
Пусть превращается в колос зерно,
Пусть не ломаются старые лозы,
Пусть не кислит молодое вино.
Пусть повезет в этом мире влюбленным,
Пусть превратятся в мужей женихи,
Пусть поклоняются собственным женам,
Пусть искупают пред ними грехи.
Пусть мы прославимся, кое-что знача,
Пусть о нас добрая ходит молва,
Пусть нам сопутствует в жизни удача,
Пусть не сотрутся святые слова.
Пусть не напрасною будет ловитва,
Пусть упований взойдут семена,
Пусть не состарится эта молитва,
Пусть отвратит все плохое она.
Песня мужа о собственной жене
Перевод Я. Козловского
Еще мне женою жена не была,
Когда я, не скрыв одержимого пыла,
Поклялся в любви ей.
Вчера ли то было,
А может быть, целая вечность прошла?
Пригожа обличьем и нравом жена,
Пусть слов о любви не шепчу ей, как прежде,
В супружеской я пребываю надежде,
Что все о любви моей знает она.
Давно, как цветов не дарю я жене,
Но в ясных очах ее нету укора.
Я — дома глава,
она — дома опора,
Единственный свет в его каждом окне.
В разлуке скучаю о ней неспроста,
Ценю и заботу ее и усердье.
Я — мужество мира,
она — милосердье,
Я — строгость закона,
она — доброта.
И, в путь провожая близ отчих ворот
С любовью меня,
не скрывая тревоги,
Она мне желает счастливой дороги
И стремя удачи сама подает.
Земля
Перевод Я. Смелякова
Я — житель волн и житель скал,
Сын милой горной стороны.
Я много ездил и видал
Мир весь почти — со стороны.
Опять по глобусу гоню,
Опять кручу его — крути!
А в сердце бережно храню
Все, что увиделось в пути.
Мы все по-разному живем
На этой маленькой земле:
И на просторе полевом,
И в птичьих гнездах на скале.
Умом и сердцем не пойму,
Никак не объяснят умы,
Как все они разъяли тьму
И лишь едва коснулись тьмы.
Куда с высот ни поглядишь,
Увидишь сразу в немоте
Дома без окон и без крыш
И небоскребы в темноте.
Но время все-таки не спит,
Готовя новогодний стол,
Земля пылает и кипит,
Как утром праздничный котел.
«Как в незаконченной поэме…»
Перевод Я. Смелякова
Как в незаконченной поэме,
Живут младенец и старик,
Звучат в одно и то же время
Предсмертный вздох и первый крик.
Века проходят величаво
Над полем справедливых битв,
А тот, кто бредил вечной славой,
В чужой земле безвестно спит.
Все мы заметили воочью
И все приучены давно,
Что вслед за уходящей ночью
Рассвет торопится в окно.
Роняя свой убор зеленый,
Могучий дуб, меняя вид,
Потерянно и оголенно
На зябком зареве стоит.
У всех записано в анкете,
Что положений вечных нет.
Проходит все на белом свете,
Лишь не проходит белый свет.
СУЮНБАЙ ЭРАЛИЕВ
(Род. в 1921 г.)
С киргизского
{155}
Я иду
Перевод С. Куняева
Грядущее,
будем знакомы!
На перевале двадцатого века
ты видишь меня,
человек,
потомка ушедших времен
и предка грядущих племен.
А время шумит, как река.
Я иду.
Я в ответе
за дела,
что творятся на нашей планете.
Я иду по земле,
и по звездам,
и по времени,
и по пространству…
Моему постоянству
удивляется время.
Я иду, сапогами гремя.
Из-под ног вылетают горячие искры,
словно из-под кремня.
Я иду,
а вокруг жеребятами прыгают дни.
Я иду среди песен и звезд,
через мост,
называемый веком.
Солнце завтрашним светом
озаряет мой путь.
Так и кажется:
стоит лишь руку свою протянуть —
и достанешь до солнца.
Шеног мой
услыхала луна.
Я иду,
а дорога длинна,
окликают меня повороты.
Но попробуй
меня удержи, ухвати —
разве воду удержишь в горсти?
Разве ветер взнуздаешь?
Если остановлюсь,
если сердце устанет,
то кружиться в пространстве
земля перестанет,
время в бездну глубокую канет.
Ведь планета и я
составляем одно…
Я иду.
Я зерно,
из которого будущее прорастает!
1963
«Моим горам, по-моему, подобен…»
Перевод М. Ватагина
Моим горам, по-моему, подобен
Тот путь, который называем жизнь.
Он не всегда приятен и удобен,
Но если уж родился, то держись!
Твой конь не только по вершинам скачет —
Ущелья и потоки на пути.
Но ты живешь на свете. Это значит —
Их надо переплыть и перейти.
Сорвешься вниз — не причитай, не сетуй,
Вставай и с пораженьем не мирись.
Упорство награждается победой.
И ты стремись в таинственную высь.
Одно печально: кто внизу, бывает,
Уткнется в землю, небо забывает.
А тот, кто на вершине, тот порой
Не замечает тех, кто под горой.
1974
АТА АТАДЖАНОВ
(Род. в 1922 г.)
С туркменского
{156}
«Не спеши, моя нежная, погоди…»
Перевод А. Тарковского
Не спеши, моя нежная, погоди.
Дай еще поглядеть на твое лицо.
Дай мне розу к твоей приколоть груди.
Покажи мне глаза, пророни словцо,
Наглядеться мне дай на твое лицо.
Подыми глаза — ежевики черней.
О, когда бы я мог не смотреть на них,
Озаренных звездой золотой твоей!
Не ловить этих отблесков золотых
На лице твоем, ярче цветов степных.
Только не уходи. Еще рано. Когда б
Знала ты, как я гнал торопливый челн,
Пел про белый твой хлопок и твой Мургаб,
Так тянулся к тебе от каспийских волн!
Вот стою пред тобой, новых песен полн.
Дай мне гребнем коснуться косы твоей,
Ослепи меня блеском красы твоей,
Только не уходи. Я — живой ручей —
Пред тобой разольюсь: пить захочешь — пей.
1954
Письмо
Перевод В. Гончарова
Открыв окно, я сел писать письмо,
а утро было раннее в тумане.
Казалось, что молчание само
задумано природою заране.
Но вот на ветке прямо у окна
запела песню утреннюю птица
так хорошо, что я хотел зерна
ей принести
и дать воды напиться.
Но не успел я подойти к окну,
она взмахнула крыльями — и нету.
Вот так и ты, нарушив тишину,
оставила одни мечты поэту.
Здесь на окне рассыпано зерно…
Мне та певунья очень часто снится…
Пишу письмо, чтоб мне тебя оно
вернуло, как испуганную птицу.
1954
Уединяюсь я…
Перевод Ю, Гордиенко
Издревле мудрецы твердили многократно, —
И под сомненье я их мудрость не беру! —
Что человек один — не воин в поле ратном,
Что трудно, удалясь от мира, жить в миру.
Пускай они правы! Но вот, когда селенья
Притихнут под луной, за дымкой голубой,
Я чувствую, что нужно мне уединенье,
Что время, взяв перо, побыть с самим собой.
Уединяюсь я… И оживает в думах
Все, что вокруг и там, за тридевять морей:
Слышнее мне дуда подпаска в Каракумах
И тихий, горький плач вьетнамских матерей.
Уединяюсь я… С товарищами в связке
Штурмую склоны гор над кромкой ледника.
Уединяюсь я… И трепетнее краски
Стихов Махтумкули, звучней его строка.
Уединяюсь я… И, сердце открывая,
Мне девушка — на суд — несет свою печаль,
Иль кровом служит мне хибарка полевая;
С геологами я завариваю чай…
Уединяюсь я… И зори над полями
Приветствуют меня. Шагаю налегке;
Могу поговорить в дороге с тополями,
С пичугами в лесу — на птичьем языке.
Побыть наедине люблю со всей планетой,
Побыть наедине с блокнотом — мой конек,
И лучшего, по мне, уединенья нету:
Уединяясь, я не так уж одинок.
1964
Песня жаворонка
Перевод А. Кафанова
Тебе приходилось в песках застревать?
А мне довелось, и не раз —
На машине.
Такое не дай никому —
Бедовать
В горячих песках Каракумской пустыни…
Мотор, словно раненый тигр, изнемог.
Рычит, завывает
Минуту…
Другую…
Все глубже и глубже уходят в песок
Колеса,
Прокручиваясь вхолостую.
Как черные волны, барханы кипят.
Машину заносит по самые дверцы.
Не сдвинуть ее ни вперед, ни назад.
Свинцовой тоской наполняется сердце.
А тут еще глохнет внезапно
И ты гробовой поражен тишиною.
Нигде ни души.
Лишь орел распростер
Два мощных крыла над твоей головою.
Никто в целом мире,
Подумаешь ты,
Сейчас о тебе и не помнит, наверно.
Вот только зловеще орел с высоты
Следит,
Круг за кругом чертя равномерно.
Мечтаешь:
Чабан бы с отарой прошел,
Забрел бы геолог, что всюду бывает…
Наплыв тишины нестерпимо тяжел.
Надежда, как марево,
Призрачно тает.
И вдруг в поднебесье запела струна, —
То жаворонок зазвенел на просторе.
Мала эта птица.
Ну разве она
Способна помочь или выручить в горе?
Но песенка, словно веселый ручей,
Прерывисто льется,
И, слушая птаху,
Такое доверье почувствуешь к ней,
Какого не чувствовал, может, к аллаху.
И знаешь,
Зовет меня песня: «Иди!
Ведь ты человек, ты сильнее металла.
Отбрось все сомнения.
Чуда не жди.
Иди
И пробейся во что б то ни стало».
1970
СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ
(Род. в 1922 г.)
{157}
Постоянство
Г. Н. Троеполъскому
Славлю постоянство гордых елей,
потому как ели не из тех,
у кого семь пятниц на неделе,
кто взирает робко снизу вверх!
Рыжим рылом поведет лишь осень,
как уже готово все в лесу
порыжеть и даже вовсе сбросить
с плеч свою зеленую красу.
Только ели, — не бывало сроду,
чтобы перекрасились до пят! —
несмотря на рыжую погоду,
хоть руби — зеленые стоят!
Мало! Даже в белые метели,
даже в холода, когда вода
замерзает, не сдаются ели,
не меняют цвета и тогда!
Вот они стоят — сам черт не страшен!
Отряхают белое с боков,
здорово похожие на наших
очень зимостойких мужиков.
Засугробит все кругом — не дрогнут!
Лишь сгореть, как свечка, на ветру
могут ели… Большего не могут.
Мне такой характер по нутру!
1974
«Авось!»
Уж это наше русское «авось»!
Не счесть, издевок сколько да насмешек
за тыщу лет из-за него нам, грешным,
со стороны услышать довелось!
Мы «на авось» вбивали в стену гвоздь,
пахали, выходили на охоту…
О, господи, какую мы работу
не начинали только «на авось»!
И очертя головушку то вниз
летели мы, то вверх — судьбу пытали,
ее капризу противопоставив
души смятенной собственный каприз!
…Смеяться над «авось» — ты это брось!
Отвага. Не покой. Игра в удачу.
И риск еще… И дерзость…
Вот что значит
от века наше русское «авось»!
С рождения — болота да леса
в глаза нам: мы не баловни природы.
Нет хуже нам — ждать у моря погоды:
— Авось! — и поднимаем паруса.
Кто первым встал — тому хвала и честь!
Нет злей для нас и нет жесточе муки
сидеть, когда прижало, сложа руки,
смириться и оставить все как есть!
Такой уж нрав с рождения у нас…
Мы ищем не «нельзя» во всем, а «можно»!
Мы в деле, даже самом безнадежном,
всегда «авось» имеем про запас!
1975
Новогодний тост в кругу ветеранов
Великой Отечественной войны
Побратимы, мальчики, ребята
с белым ранним снегом в волосах!
В самой верхней точке циферблата
вновь сомкнулись стрелки на часах.
Ясно, что не стали мы моложе:
нам уж не по силам марш-бросок,
сдало зренье… Но и все же, все же —
пьем за порох, а не за песок!
Ну-ка, есть ли он в пороховницах?!
Есть!.. Сухой ли? Как всегда, сухой!
Пьем за порох! Порох пригодится,
если это порох неплохой.
Пусть дельцы сегодняшние, кстати,
знают, что и в мирные года
мы его умеем с толком тратить,
защищая чести города!
И ни ложь, ни лесть — мы не допустим! —
эти города не покорят.
Пьем за право первым встать на бруствер,
если долг и совесть повелят!
Не водой оплачено, а кровью
это право, кровью тех ребят,
что сейчас в лесах по Подмосковью
в братских, наспех вырытых, лежат.
Страх нам просто должен быть неведом,
ветераны, жребий наш таков…
Иль не нами добыта победа
в величайшей битве всех веков?
Прожитое в этот миг итожа,
скажем прямо: полдень наш высок,
мы уже не те… И все же, все же
пьем за порох, а не за песок!
1975
Прозрение
Матери
Пришло прозренье в дальнем далеке:
как мало я пожил с тобой, как мало
твою ладонь я грел в своей руке,
как много задолжал тебе я, мама.
И по своей, и по чужой вине:
мне рано в жизни выпала дорога.
И часто снится, снится часто мне,
что я у твоего стою порога.
Стою и оправдания слова
невнятно бормочу, почти рыдая…
А у тебя, ах, мама, голова
уже совсем, совсем почти седая.
Ты на меня, печальная, в упор
глядишь, не начиная разговора…
О, молчаливый матери укор!
На свете тяжелее нет укора.
— Прости… — я в тишине произношу. —
Прости, что добротой твоей беспечно
дышал я — так, как воздухом дышу…
И это, мне казалось, будет вечно.
Но от тебя и дома вдалеке
пришло прозренье все-таки: как мало
твою я руку грел в своей руке,
как много задолжал тебе я, мама!
1976
Поэт
Поведай тайну мне, Природа:
ты, в череде бегущих лет,
зачем кого-то из народа
венчаешь званием — Поэт?
И наделяешь даром скорби
и ликования, любя?…
И мне ответил голос горний:
— Затем, чтоб выразить себя.
Поэт — мой слух. Поэт — мой голос.
Он говорит — я говорю.
Поэт — мой самый спелый колос
из тех, которые творю.
И самый хрупкий и ранимый,
и самый твердый… Если ж — нет,
ищи ему другое имя —
любое! — это не Поэт.
1976
СЕМЕН ГУДЗЕНКО
(1922–1953)
{158}
«Прожили двадцать лет…»
Прожили двадцать лет.
Но за год войны
мы видели кровь
и видели смерть —
просто,
как видят сны.
Я все это в памяти сберегу:
и первую смерть на войне,
и первую ночь,
когда на снегу
мы спали спина к спине.
Я сына
верно дружить научу, —
и пусть
не придется ему воевать,
он будет с другом
плечо к плечу,
как мы,
по земле шагать.
Он будет знать:
последний сухарь
делится на двоих.
…Московская осень,
смоленский январь.
Нет многих уже в живых.
Ветром походов,
ветром весны
снова апрель налился.
Стали на время
большой войны
мужественней сердца,
руки крепче,
весомей слова.
И многое стало ясней.
…А ты
по-прежнему не права —
я все-таки стал нежней.
Май 1942 г.
Перед атакой
Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
можно плакать, —
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв —
и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят
сорок первый год,
ты, — вмерзшая в снега пехота!
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был коротким.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.
1942
«Я был пехотой в поле чистом…»
Я был пехотой в поле чистом,
в грязи окопной и в огне.
Я стал армейским журналистом
в последний год на той войне.
Но если снова воевать…
Таков уже закон:
пускай меня пошлют опять
в стрелковый батальон.
Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.
Действующая армия,
1943–1944
«Мы не от старости умрем…»
Мы не от старости умрем, —
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром.
В нем горечь, хмель и аромат
заморской стороны.
Его принес сюда солдат,
вернувшийся с войны.
Он видел столько городов!
Старинных городов.
Он рассказать о них готов.
И даже спеть готов.
Так почему же он молчит?
Четвертый час молчит.
То пальцем по столу стучит,
то сапогом стучит.
А у него желанье есть.
Оно понятно вам?
Он хочет знать, что было здесь,
когда мы были там…
1946
«Как без вести пропавших ждут…»
Как без вести пропавших ждут,
меня ждала жена.
То есть надежда,
то слеза
без спросу упадет.
Давно уж кончилась война,
и не моя вина,
что я в разлуке целый год,
что столько горестных забот.
………………
Жестка больничная кровать,
жестка и холодна.
А от нее рукой подать
до светлого окна,
там за полночь не спит жена,
там стук машинки, скрип пера.
Кончай работу, спать пора,
мой друг, моя помощница,
родная полуночница.
Из-за стола неслышно встала,
сняла халат, легла в постель.
А от нее за три квартала,
а не за тридевять земель,
я, как в окопе заметенном,
своей тревоги начеку,
привыкший к неутешным стонам,
к мерцающему ночнику,
лежу, прислушиваясь к вьюге,
глаза усталые смежив,
тяжелые раскинув руки,
еще не веря в то, что жив.
Но мне домой уйти нельзя,
трудна, длинна моя дорога,
меня бы увезли друзья,
их у меня на свете много,
но не под силу всем друзьям
меня отсюда взять до срока.
Жду. Выкарабкиваюсь сам,
от счастья, как от звезд, далеко.
Но приближается оно,
когда ко мне жена приходит,
в больничный садик дочь приводит,
стучит в больничное окно.
Ее несчастье не сломило,
суровей сделало чуть-чуть.
Какая в ней таилась сила!
Мне легче с ней и этот путь.
Пусть кажешься со стороны ты
скупой на ласки, слезы, смех, —
любовь от глаз чужих укрыта,
и нежность тоже не для всех.
Но ты меня такою верой
в печальный одарила час,
что стал я мерить новой мерой
любовь и каждого из нас.
Ты облегчила мои муки,
всё вынести мне помогла.
Приблизила конец разлуки,
испепеляющей дотла.
Благословляю чистый, чудный,
душа, твой отблеск заревой,
мы чище стали в жизни трудной,
сильнее — в жизни горевой.
И все, что прожито с тобою,
все, что пришлось нам пережить,
не так-то просто гробовою
доской, родная, задушить.
Март — апрель 1952 г .
ВААГН ДАВТЯН
(Род. в 1922 г.)
Переводы Е. Николаевской
С армянского
{159}
Армения
Горы, близкие к звездам, — порывы моей души,
Что бушевали от горя и каменели в тиши.
Темные мои бездны — вы пораженья мои,
Где гнев клокотал веками в громе пенной струи.
С мечом по мне проходили тысячи тысяч врагов,
Араке, наполненный кровью, рвался из берегов.
Враги! — история знала столько их черных дел,
Что даже сухой пергамент от ужаса побледнел.
Но снег на вершине Масиса, чистый, нетронутый снег, —
Это — мои надежды, не таявшие вовек.
И в самые темные годы, чтоб тронуть его крылом,
К величественной вершине взлетала душа орлом.
И снова я оживала и строила города,
Величье свое измеряла великой мерой труда.
Я синее сердце Севана сквозь мрак пронесла в себе,
Храня его, как легенду о свете и о судьбе…
Истерзанная веками неравной тяжкой борьбы,
Сквозь слезы я увидала, как в небе моей судьбы
Повис полумесяц острый, горя в зловещей тени,
Как огненное проклятье, как ятаган резни.
Мои сыновья, не видя всем злодеяньям конца,
Под пеплом отчего дома оставив свои сердца,
Разбросанные бедою, по белу свету брели,
В суме унося с собою горстку моей земли…
Но — близкие к звездам горы — порывы души моей,
Всегда устремлялись в вечность, ловили снопы лучей, —
И думы мои вековые, хранимые в сердце моем,
Вдруг превратились в зори, зажженные Октябрем.
На пашню под щедрым солнцем вышли мои сыновья,
Набухшие зерна счастья земля вбирала моя.
Торжественно опускались мирные вечера
На буйство долин, что были бесплодны еще вчера.
Дома, сады и ограды — я строила города,
Свои мне вручала клады таинственных гор гряда,
Потоки я приручала, клубящиеся, как дым,
Я свет из воды получала и мир наводняла им!..
Веками бурями битый, согнувшийся от тоски,
Древний наирский тополь снова дает ростки,
Сзывает в мои объятья — машет листвой своей —
Моих дорогих далеких странников-сыновей.
«Я сегодня во сне тебя видел, далекую…»
Я сегодня во сне тебя видел, далекую, —
Снова были мы вместе с тобой, моя милая…
Переполнены счастьем, тропинкою легкою
Подымались, смеясь, из ущелья унылого.
Мы с тобой подымались, осыпаны росами,
И, с утра озаренная нежными красками,
Ты была той далекою девушкой с косами,
Самой лучшей на свете — и доброй и ласковой.
Не прошли еще бури, грозящие бедами,
Над простором любви нашей, солнцем сияющей,
Злые шутки тебе еще были неведомы,
С горькой болью любовной не встретился я еще…
Небо синью светилось — безудержной радостью,
Закипали деревья в весеннем цветении.
Как паломник, охвачен любовью и святостью,
Пред тобою склонялся я в благоговении.
Ручейки засверкали слезами счастливыми,
Задымилась земля зеленеющей порослью…
…Я проснулся порою осенней, дождливою,
Плакал дождь затяжной безутешно и горестно.
«Седые камни, древние руины…»
Седые камни, древние руины
Хранят следы искусного резца.
Смотрю я на замшелые картины
И славлю их безвестного творца.
Тот мастер, что трудился здесь когда-то
Над глыбами тысячелетних скал,
Изображал лишь гроздья винограда
И никогда копья не высекал.
А кто с копьем шагал и грубой силой
Те памятники злобно разрушал,
Кто выбивал из наших рук зубила, —
Давным-давно летучей пылью стал.
И, в мастерстве себе не зная равных,
Вновь виноград и голубей полет
Неведомого мастера праправнук
На стройках вдохновенно создает.
Доброе утро
Ты пришло, мое доброе утро, с добром,
Ты стекаешь лучами с листвы тополиной,
К солнцу венчики тянут вьюнки под окном,
Тебе славу готовы трубить над долиной.
Ты волной из-за гор поднялось — и тотчас
На земле, на камнях, на листве растянулось.
Мой ребенок проснулся и ловит, смеясь,
Отраженье твое, что стены вдруг коснулось.
Ты пришло, мое доброе утро, с добром,
Ты добро и любовь разостлало пред нами.
Черный край мой умылся твоим серебром
И горит золотыми твоими лучами.
Подымается дым над разбегом дорог,
С черных пашен плывет еле слышная песня,
И, сорвавшись с цветущих садов, ветерок,
Белой пены белее, летит в поднебесье.
Ты пришло, мое доброе утро, с добром,
Раскрываешься ты — хлебороба десница,
Сердце юноши, полное светлым огнем,
Моего малыша золотые ресницы.
Запах утренних трав пить и пить мне опять,
Свет, любовь и добро всей душою вбирая,
Чтобы доброго утра всем встречным желать,
Всей земле, пробужденной от края до края!
Н. Абдурахманов. Весна в горах. 1970
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ
(Род. в 1922 г.)
С калмыцкого
{160}
«Жизни мира, длящейся века…»
Перевод Ю. Нейман
Жизни мира, длящейся века,
Жадною душою не завидуй!
То, что жизнь людская коротка,
Не считай ошибкой и обидой.
О ничтожном сроке говоря,
Не терзай себя, не мучься зря!
Чтоб увидеть мира мудрый лик,
Этот срок достаточно велик.
Чтоб свершить свое предназначенье
И служить Добру,
нам всем дана
Вечность.
Если вдуматься, она —
Беспредельно долгое мгновенье.
«Когда средь степи — одинок…»
Перевод Ю. Нейман
Когда средь степи — одинок —
Стою над гладкою равниной
И чистотой дышу полынной, —
Мне чудится, что я высок.
Я осязаю бесконечность,
Душа моя вмещает вечность.
Где все преграды бытия?!
Неразличимы быль и небыль,
На свете — только степь и небо,
На свете — птицы, степь и я!..
О счастье духа, счастье тела —
Простор, не знающий предела!
«Как ты прекрасна, степь моя, в апреле!..»
Перевод Ю. Нейман
Как ты прекрасна, степь моя, в апреле!
Хрустально-звонкий воздух, и простор,
И колокольчик — жаворонка трели!..
Ты — музыка, чьи звуки с давних нор
Какой-то гений, в неизвестность канув,
Переложил на живопись тюльпанов.
Как счастлив я, что голос твой пойму,
Что человек я, и душе все чаще
Доступна радость красоты щемящей…
Иль человек я только потому,
Что внемлет скрытой музыке душа?…
О жизнь, как ты щедра!.. Как хороша!..
«Когда весна — медлительно, не сразу…»
Перевод Ю. Нейман
Когда весна — медлительно, не сразу, —
Нагреет землю и войдет в зенит
И, ароматом полный до отказу,
Над многоцветьем воздух зазвенит,
Я ухожу один в степные дали,
Бездумно опускаюсь на траву
И — это мыслью назовешь едва ли —
В тени кургана грежу наяву…
А надо мною в синеве бесплотной,
На ниточке весеннего луча
Трепещет жаворонок беззаботный,
Как колокольчик радости звуча.
Тогда душа — светла и невесома,
Весь мир во мне. И в мире я — как дома.
«Осенний лист на длинном черенке…»
Перевод Ю. Нейман
Осенний лист на длинном черенке
Поник, подумал… и слетает в воздух.
А степь в рассветном голубом дымке
Примолкла, долгий предвкушая роздых.
Давно пшеница убрана в полях.
Стерни колючки в пахоте размякли.
Скирды в низинах — на манер папах
Из серебристо-серого каракуля.
И, пробиваясь нехотя из мглы,
Лучи ложатся — все спелей, багряней,
Они как будто слишком тяжелы
Для зябкой, паутинно-тонкой рани.
«Проходят мимо — парами, толпой…»
Перевод Ю. Нейман
Проходят мимо — парами, толпой —
Ничем, ничем не схожие с тобой:
Ни голосом, ни поступью, ни взглядом…
О, сколько женщин — в отдаленье, рядом —
Совсем других, чем ты… Что мне до них?!
Но если и представлю хоть на миг,
Что каждая из проходящих мимо
Кому-то на земле необходима,
Как ты — моей душе… И что, любя,
О них тоскуют и светло, и больно, —
То в этот миг покажется невольно,
Что все они похожи на тебя!
Женщина
Перевод Ю. Нейман
Мужчин сухой, рассудочный расчет,
Ошибки исключив и милосердье,
Он верным — будто бы! — путем ведет…
Но почему ж иные
перед смертью
Вдруг понимают: цель была не та,
И позади зияет пустота?
А женщина?! О, нежность! О, сама
Причудливость, изменчивость, наитье!..
Ты только сердцем делаешь открытья,
Являя этим глубину ума.
Порою ты, подвластная минуте,
Являешь красоту в бессмертной сути…
«Никто не помнит своего рожденья…»
Перевод Ю. Нейман
С. Я. Маршаку
Никто не помнит
Своего рожденья.
Никто не вспомнит
Свой последний час.
Два рубежа,
две грани,
два мгновенья
Неведомы ни одному из нас.
И все пространство, весь кипучий бег
Ночей и дней меж рубежами теми,
Все, что философ именует «время»,
Что жизнью называет человек, —
Ничем не пресекается оно.
Оно в сознанье нашем — бесконечно.
И человеку смертному дано
Жить на земле, не зная смерти, вечно.
Другому жизнь дарит он в свой черед,
Другого, плача, одевает в саван…
Сам человек не умирает… Сам он
Только живет.
Мысль и время
Перевод Ю. Нейман
В прошедшем растворяясь на бегу,
Ты, Время, мне виски посеребрило,
Но, не старея, Мысль кипит в мозгу
С волшебной, той же благодатной силой.
Захочет — может в прошлое вести,
В грядущее, в далекий мир Вселенной…
Куда тебе, о Время, нет пути,
Она меня перенесет мгновенно.
Всесильна Мысль: и горечь подсластит,
И облегчит печали тяжкой бремя,
И мудростью своей предотвратит
Твои невольные ошибки, Время!
Ты в поединке с ней — побеждено,
Исход борьбы тебе заране ведом:
Ты, Время, лишь туда приходишь следом,
Где побывала Мысль уже давно.
«Случалось мне старцев калмыков…»
Перевод Ю. Нейман
Случалось мне старцев калмыков
Не раз и не два изучать,
Но тщетно на бронзе их ликов
Искал я былого печать.
Ничто не пробилось наружу,
Молчат письмена их морщин…
Что видели — спрятали в душу
С достоинством истых мужчин.
Сквозь муки, сквозь голод и жажду
Прошли и не кляли судьбы.
В сражениях были отважны,
Не зная пустой похвальбы.
Награды свои и невзгоды
Они принимали равно.
Характер степного народа
Надежно хранить им дано.
Скончался мой друг
Перевод Н. Матвеевой
Скончался мой друг. Но лишь тело
Исчезло, как рябь на воде,
Лишь куртка его опустела,
Обвиснув на ржавом гвозде.
Лишь речи затихли, хоть мало
Тревожили воздух они,
Земля же просторнее стала
Всего только на две ступни.
Но как велико его место
Во мне! Это знаю лишь я,
Как сердцу безвыходно, тесно,
Как сдавлена память моя!
«Я помню прошлое. Я помню…»
Перевод Н. Матвеевой
Я помню прошлое. Я помню
Свой голод. Больше я не мог,
И русская старушка,
Помню,
Мне хлеба сунула кусок.
Затем тайком перекрестила
В моем кармане свой ломоть
И быстро прочь засеменила,
Шепнув: «Спаси тебя господь!»
Хотелось мне, ее не зная,
Воскликнуть: «Бабушка родная!»
Хотелось петь, кричать «ура!»,
Рукой в кармане ощущая
Существование добра.
«Сколько свежести в народном слове…»
Перевод Ю. Нейман
Сколько свежести в народном слове,
Вещей мудрости, что вечно внове!..
С завистью учусь ему, дивясь
Простоте, не знающей прикрас,
Уху, что полет пушинки слышит,
Глазу, видящему дрожь звезды,
Сердцу, что со всеми вместе дышит,
Замирая от чужой беды…
Полный благодарности, храню
С детских лет усвоенное мною…
Вслушайтесь: «Уставшему коню
В тягость даже облачко сквозное».
«Я знаю: вечного на свете нет…»
Перевод Ю. Нейман
Памяти
Анны Андреевны Ахматовой
Я знаю: вечного на свете нет,
Тому свидетель опыт прошлых лет…
И все же видеть мертвые черты
Прекрасного так больно, так тоскливо!
Так страшно
возле гроба красоты
Вновь убеждаться, что уродство живо.
Я знаю, что уродство в свой черед
Умрет, исчезнет, навсегда уйдет.
Но красоту, что, музыкой дыша,
Нас ввысь влекла
и вот смежила веки,
Ту красоту не воскресить вовеки!..
И плачет безутешная душа…
Боль
Перевод Ю. Нейман
Кольнув нежданно изнутри
И затемнив благополучье,
Предупреждает боль: — Смотри! —
И, как дозорный самый лучший,
Тревогу бьет, гремит в набат…
И вот покой убит, разъят.
Мобилизует сил запас
И чувства стынущие будит…
Нет, если боль отнять у нас,
Добра от этого не будет!
Ведь я живу, покуда чую
И боль свою, и боль чужую.
«Перешагнув жестокости предел…»
Перевод Ю. Нейман
Перешагнув жестокости предел,
Решил Чингис украсить общий жребий:
Он улыбаться подданным велел
Весь день, пока сияет солнце в небе,
А кто дерзнет на жалобы и плач,
Тому отрубит голову палач.
И улыбался весь Чингисов край,
И деспот убеждал молву мирскую,
Что создал в ханстве образцовый рай…
А люди ждали сумерек, тоскуя,
Чтоб в степь уйти, ничком в траву упасть
И в одиночку выплакаться всласть.
«Дайте, дайте первую удачу!..»
Перевод Ю. Нейман
Л. С. Соболеву
Дайте, дайте первую удачу!
Пусть в себя поверит человек!
Пусть в приливе радости горячей
Ощутит себя потомком всех,
Кто творил, кто сделал мир богаче…
Дайте, дайте первую удачу!..
Дайте, дайте первую удачу!..
Чтобы, гордость юную не пряча,
Человек, как молодой орел,
Прянул в небо и себя обрел,
Путь свой во Вселенной обознача!..
Дайте, дайте первую удачу!
«О жизнь! Когда ты на моем пути…»
Перевод Ю. Нейман
О жизнь!
Когда ты на моем пути
Затем, чтоб за провинность наказать
Иль чтобы испытать меня опять,
Противника захочешь мне найти
И нас друг с другом на пути столкнуть,
Молю, о жизнь, ко мне добрее будь!
Из множества народа, что идет
Сейчас
сквозь времени водоворот,
Того, кого борьба не закалила,
Того, чей ум незрел и уязвим,
Кто послабей меня своею силой, —
Не делай,
жизнь,
противником моим.
«Приснились джунгли нынче мне во сне…»
Перевод Ю. Нейман
Кайсыну Кулиеву
Приснились джунгли нынче мне во сне.
Кругом визжала обезьянья стая…
Раздобрясь, хвост они давали мне,
Чтоб лезть в верхи, при случае петляя…
Но отказался я от этих прав,
Остаться человеком пожелав.
Свирепых львов увидел я во сне,
Развеселило их мое обличье!..
И дать клыки они решили мне,
Чтоб слабых бить и жадно рвать добычу…
Но отказался я от этих прав,
Остаться человеком пожелав.
«Бейте, люди, пестрых волков!..»
Перевод Ю. Нейман
Бейте, люди, пестрых волков!
В дни, когда опустели хотоны,
О хозяевах исступленно
Выли псы калмыцкой земли,
Одичали, в степи ушли…
Бейте, люди, пестрых волков!
Не боятся огня и слова
И не терпят духа людского
Почитавшие нас, как богов,
Твари, одичавшие снова,
Порождения времени злого…
Бейте, люди, пестрых волков!
«Когда я замечаю с чувством боли…»
Перевод Ю. Нейман
Когда я замечаю с чувством боли,
Что, прошагав изрядный путь земной,
Не совершил я и десятой доли
Всего того, что замышлялось мной,
Я не ищу тогда причин извне, —
Истоки бед — они во мне.
Ни злобной завистью, ни нелюбовью
Никто, поверь, мне не чинил помех.
Во мне самом, в душе моей — гнездовье
Всех промахов моих, ошибок всех.
В том, что с мечтой свершения — не вровень,
Не мир, не люди, — только я виновен.
«Когда, о степь! — и впрямь морской стихией…» Перевод Ю. Нейман
Когда, о степь! — и впрямь морской стихией
Была ты встарь и в синеве твоей,
Блестя, сновали рыбки золотые —
Веселые солдатики морей,
Скажи мне, степь, в траве твоей густой
Где весточка о рыбке золотой?
И если это повторится въяве,
Когда пройдет веков круговорот —
И зелень радостную разнотравья
Накроет синева слоистых вод,
Скажи мне, степь, как, вопреки судьбе,
Хоть весточку оставить о себе?
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ
(Род. в 1922 г.)
{161}
Белая баллада
Снегом времени нас заносит — все больше белеем.
Многих и вовсе в этом снегу погребли.
Один за другим приближаемся к своим юбилеям,
белые, словно парусные корабли.
И не трубы, не марши, не речи, не почести пышные.
И не флаги расцвечиванья, не фейерверки вслед.
Пятидесяти орудий залпы неслышные.
Пятидесяти невидимых молний свет.
И три, навсегда растянувшиеся, минуты молчанья.
И вечным прощеньем пахнущая трава.
…Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта Отчаянья.
Последней Надежды туманные острова.
И снова подводные рифы и скалы опасные.
И снова к глазам подступает белая мгла.
Ну, что ж, наше дело такое — плывите, парусные!
Может, еще и вправду земля кругла.
И снова нас треплет качка осатанелая.
И оста и веста попеременна прыть.
…В белом снегу, как в белом тумане, флотилия белая.
Неведомо, сколько кому остается плыть.
Белые хлопья вьются над нами, чайки летают.
След за кормою, тоненькая полоса.
В белом снегу, как в белом тумане, медленно тают
попутного ветра не ждущие паруса.
«Что делать, мой ангел…»
Что делать, мой ангел, мы стали спокойней, мы стали смиренней.
За дымкой метели спокойно курится наш милый Парнас.
И вот наступает то странное время иных измерений,
где прежние мерки уже не годятся — они не про нас.
Ты можешь отмерить семь раз, и отвесить, и вновь перевесить,
и можешь отрезать семь раз, отмеряя при этом едва.
Но ты уже знаешь, как мало успеешь за год или десять,
и ты понимаешь, как много ты можешь за день или два.
Ты душу насытишь не хлебом единым и хлебом единым,
на миг удивившись почти незаметному их рубежу.
Но ты уже знаешь, о, как это горестно — быть не судимым,
и ты понимаешь при этом, как сладостно — о, не сужу!
Ты можешь отмерить семь раз, и отвесить, и вновь перемерить,
и вывести формулу, коей доступны дела и слова.
Но можешь поверить гармонию алгеброй и не поверить
свидетельству формул — ах, милая алгебра, ты не права!
Ты можешь беседовать с тенью Шекспира и с собственной тенью.
Ты спутаешь карты, смешав ненароком вчера и теперь.
Но ты уже знаешь, какие потери ведут к обретенью,
и ты понимаешь, какая удача в иной из потерь.
А день наступает такой и такой-то, и с крыш уже каплет,
и пахнут окрестности чем-то ушедшим, чего не избыть.
И нету Офелии рядом, и пишет комедию Гамлет
о некоем возрасте, как бы связующем быть и не быть.
Он полон смиренья, хотя понимает, что суть не в смиренье.
Он пишет и пишет, себя же на слове поймать норовя.
И трепетно светится тонкая веточка майской сирени,
как вечный огонь над бессмертной и юной душой соловья.
«Всего и надо, что вглядеться…»
Всего и надо, что вглядеться — боже мой,
всего и дела, что внимательно вглядеться —
и не уйдешь, и никуда уже не деться
от этих глаз, от их внезапной глубины.
Всего и надо, что вчитаться — боже мой,
всего и дела, что помедлить над строкою —
не пролистнуть нетерпеливою рукою,
а задержаться, прочитать и перечесть.
Мне жаль не узнанной до времени строки.
И все ж строка — она со временем прочтется,
и перечтется много раз, и ей зачтется,
и все, что было в ней, останется при ней.
Но вот глаза — они уходят навсегда,
как некий мир, который так и не открыли,
как некий Рим, который так и не отрыли,
и не отрыть уже, и в этом вся печаль.
Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас,
за то, что суетно так жили, так спешили,
что и не знаете, чего себя лишили,
и не узнаете, и в этом вся печаль.
А впрочем, я вам не судья. Я жил, как все.
Вначале слово безраздельно мной владело.
А дело после было, после было дело,
и в этом дело все, и в этом вся печаль.
Мне тем и горек мой сегодняшний удел —
покуда мнил себя судьей, в пророки метил,
каких сокровищ под ногами не заметил,
каких созвездий в небесах не разглядел!
«Я люблю эти дни…»
Я люблю эти дни, когда замысел весь уже ясен и тема угадана,
а потом все быстрей и быстрей, подчиняясь ключу, —
как в «Прощальной симфонии» — ближе к финалу — ты помнишь, у Гайдна
{162} —
музыкант, доиграв свою партию, гасит свечу
и уходит — в лесу все просторней теперь — музыканты уходят —
партитура листвы обгорает строка за строкой —
гаснут свечи в оркестре одна за другой — музыканты уходят —
скоро-скоро все свечи в оркестре погаснут одна за другой —
тихо гаснут березы в осеннем лесу, догорают рябины,
и по мере того как с осенних осин облетает листва,
все прозрачней становится лес, обнажая такие глубины,
что становится явной вся тайная суть естества, —
все просторней, все глуше в осеннем лесу — музыканты уходят —
скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача —
и последняя флейта замрет в тишине — музыканты уходят —
скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча…
Я люблю эти дни, в их безоблачной, в их бирюзовой оправе,
когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом,
когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе
и о многом другом еще можно подумать, о многом другом.
Вступление в книгу «Кинематограф»
Это город. Еще рано. Полусумрак, полусвет.
А потом на крышах солнце, а на стенах еще нет,
А потом в стене внезапно загорается окно.
Возникает звук рояля. Начинается кино.
И очнулся, и качнулся, завертелся шар земной.
Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной!
Этот луч, прямой и резкий, эта света полоса
заставляет меня плакать и смеяться два часа,
быть участником событий, пить, любить, идти на дно…
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер
этот равно гениальный и безумный режиссер?
Как свободно он монтирует различные куски
ликованья и отчаянья, веселья и тоски!
Он актеру не прощает плохо сыгранную роль —
будь то комик или трагик, будь то шут или король.
О, как трудно, как прекрасно действующим быть лицом
в этой драме, где всего-то меж началом и концом
два часа, а
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты
от нехватки ярких красок, от невольной немоты.
Ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва
выразительностью жестов, заменяющих слова.
И спешат твои актеры, все бегут они, бегут —
по щекам их белым-белым слезы черные текут.
Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно…
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Ты накапливаешь опыт и в теченье этих лет,
хоть и медленно, а все же обретаешь звук и цвет.
Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса.
Слишком красные восходы. Слишком синие глаза.
Слишком черное от крови на руке твоей пятно…
Жизнь моя, начальный возраст, детство нашего кино!
А потом придут оттенки, а потом полутона,
то уменье, та свобода, что лишь зрелости дана.
А потом и эта зрелость тоже станет в некий час
детством, первыми шагами тех, что будут после нас
жить, участвовать в событьях, пить, любить, идти на дно…
Жизнь моя, мое цветное, панорамное кино!
Я люблю твой свет и сумрак — старый зритель, я готов
занимать любое место в тесноте твоих рядов.
Но в великой этой драме я со всеми наравне
тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.
Даже если где-то с краю перед камерой стою,
даже тем, что не играю, я играю роль свою.
И, участвуя в сюжете, я смотрю со стороны,
как текут мои мгновенья, мои годы, мои сны,
как сплетается с другими эта тоненькая нить,
где уже мне, к сожаленью, ничего не изменить,
потому что в этой драме, будь ты шут или король,
дважды роли не играют, только раз играют роль.
И над собственною ролью плачу я и хохочу.
То, что вижу, с тем, что видел, я в одно сложить хочу.
То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно,
жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Иронический человек
Мне нравится иронический человек.
И взгляд его, иронический, из-под век.
И черточка эта тоненькая у рта —
иронии отличительная черта.
Мне нравится иронический человек.
Он, в сущности, — героический человек.
Мне нравится иронический его взгляд на вещи,
которые вас, извините, злят.
И можно себе представить его в пенсне,
листающим послезавтрашний календарь.
И можно себе представить в его письме
какое-нибудь старинное — милсударь.
Но зря, если он представится вам шутом.
Ирония — она служит ему щитом.
И можно себе представить, как этот щит
шатается под ударами и трещит.
И все-таки сквозь трагический этот век
проходит он, иронический человек.
И можно себе представить его с мечом,
качающимся над слабым его плечом.
Но дело не в том — как меч у него остер,
а в том — как идет с улыбкою на костер
и как перед этим он произносит: —
Да, горячий денек — не правда ли, господа!
Когда же свеча последняя догорит,
а пламень небес едва еще лиловат,
смущенно — я умираю — он говорит,
как будто бы извиняется, — виноват.
И можно себе представить смиренный лик,
и можно себе представить огромный рост,
но он уходит, так же прост и велик,
как был за миг перед этим велик и прост.
И он уходит — некого, мол, корить, —
как будто ушел из комнаты покурить,
на улицу вышел воздухом подышать
и просит не затрудняться, не провожать.
СЫРБАЙ МАУЛЕНОВ
(Род. в 1922 г.)
С казахского
{163}
Открытие книги
Перевод А. Корнеева
Открытие книги,
Открытие мира.
Здесь все, что мне близко,
Что чуждо иль мило!
Из рода акынов,
Я весь на виду.
Я с неба схвачу, обжигаясь,
Звезду.
Робеть нам не надо:
Мосты меж веками
Ведь мы воздвигали
Своими руками.
С домброю отцов
Я из рода певцов.
Что песня? Крупица,
Лишь малая капля…
Но спит и в крупице
Начало миров.
«Я, помню, был тогда беспечным малым…»
Перевод М. Луконина
Я, помню, был тогда беспечным малым,
Степей не понимал я до поры.
Томило солнце жаром небывалым
Родного края травы и бугры.
На облака глядел из юрты старой,
Той ночью звезды в очаге цвели,
А я лежал, смотрел на лунный шар я,
Крикун, счастливец, баловень семьи.
За волосы потеребив, к рассвету
Меня поднял тургайский ветерок.
И я пошел, пошел —
привала нету.
Путь неизвестен, и неведом срок.
Видать, в ходьбе тогда и возмужал я,
В кирзовые обулся сапоги.
И услыхал вдали размах пожара
И материнский голос: «Помоги!»
Надвинулась зима, крутила люто,
Разрывы бомб аукались в виске.
В запасе у солдата есть минута
И неприкосновенный клад в мешке.
Мы из оружья делали постели,
Друзьям безмолвным в верности клялись,
В сыром лесу о Щорсе песни пели, —
Нам песни эти по душе пришлись.
В душе солдатской силы жаркой много
Я умирал и поднимался вдруг.
От пули прервалась моя дорога,
Добрался до Берлина верный друг.
Как буерак степной — неровен, долог,
Так на руке, на левой, — шрам немой,
А в правой,
словно огненный осколок,
Все рыщет карандаш бессонный мой.
Возле зимовки
Перевод Б. Ахмадулиной
В ковыль с головою я канул,
брожу
по тургайским степям.
На каждую кочку и камень
я в детстве уже наступал.
По тропкам,
проложенным мною,
опять я хожу по утрам,
и прожил я вроде немного,
а многих
уже потерял.
Там, в домике маленьком белом,
бывала зимовка отца,
там пес его весело бегал,
лежала седая овца.
Отец мой был мудрый и добрый,
меня не ругал,
не корил.
Здесь в позе старинной, удобной
сидел он и трубку курил.
Кузнечики сухо порхали,
и шел я,
весельем гоним,
и шли по весенней прохладе
со мной Мирзали и Галим.
Мы, помню, смеялись,
дурили,
мы знали здесь все тайники…
Здесь люди проходят другие,
другие растут тальники.
Но кажется —
в дымке песчаной,
тяжелые плечи склоня,
отец мой, печальный-печальный,
сидит и глядит на меня…
«В свои мысли уходит дорога…»
Перевод В. Лукьянова
В свои мысли уходит дорога —
Как до жизни веселой дойти.
И задумались рощи с тревогой
Все о том же — как петь и цвести.
Вот и птицы задумались к ночи —
Как бы им дотянуть до тепла.
Дни природы в тех думах короче,
Молчаливее дни и дела.
Служба мира
Перевод А. Корнеева
У меня друзей на земле
Много: душами широки,
Все поэты — в моей семье,
Побратимы-фронтовики.
Всюду встречу кого-нибудь,
Где бы ни был, опять найду
Друга, с кем начинали путь,
С кем сражались в одном ряду.
Но бывает — печальный час…
Что ж поделать! Удел таков,
С каждым годом — все меньше нас,
Побратимов-фронтовиков.
Но строка — словно грань штыка,
И в строю навсегда, крепки,
Служба мира
И служба стиха,
Побратимы-фронтовики.
Дума
Перевод А. Корнеева
Жалею вершины гор — за то, что они безмолвны,
Жалею волны — ведь бессловесны и волны.
Жалею небо —
как часто и неба не слышно,
Камни жалею —
веками молчат неподвижно…
Но просыпаются горы — гудит временами лавина,
И волны грохочут — став музыкой наполовину.
И небо
потоки свои прольет к пересохшей земле…
И даже морская скала
начинает звучать на заре…
Поэтому сам я, как горы:
грустный, большой.
И я, как летучие волны,
со взбушевавшейся душой!
Как потемневшее небо,
лью слезы, слезы лью я!
И, словно утес на взморье,
ввысь тянется мощь моя.
ВЛАДАС МОЗУРЮНАС
(Род. в 1922 г.)
С литовского
{164}
Стебелек
Перевод В. Тушновой
Через крохотное оконце
В сумрак дымного блиндажа
Луч, напомнивший нам о солнце,
Как-то раз проскользнул, дрожа…
И среди молчаливых бревен,
Где он теплым сияньем лег,
Неустойчив и малокровен,
К свету выбился стебелек.
Мы огня разводить не стали,
Мы почти перестали курить:
Только б травка эта простая
Рядом с нами осталась жить.
1943
Завещание
Перевод Н. Тихонова
За сколько же работ вы не успели взяться
И сколько было их, не пройденных дорог,
А вы уже ушли за родину сражаться
С врагом, что край родной огнем железным жег.
У Минска пали вы, под Вильнюсом, под Оршей,
На кручах Немана, у волжской быстрины…
По-соколиному был юный век ваш прожит —
Советских юношей, сынов своей страны.
Вы умерли в бою, оставив завещанье
Для будущих времен, для боевых друзей,
Для тех, кто встретил День Победы с ликованьем
И в пламени знамен, которых нет родней.
И приказали вы на каменных скелетах
И там, где лишь камней разбитая гряда,
Построить города, залив их морем света,
Грядущих наших лет большие города.
Каналами связать моря вы приказали,
В зеленые поля пустыни превратить,
Вы приказали нам, чтоб мы пред миром встали —
Трудом великих дел все времена затмить.
Вы приказали жить так, как до нас не жили,
Своею кровью тот приказ скрепив,
Чтоб, если нужно нам, земную ось сменили б,
Всех смелых мыслей взлет в деянья обратив.
Товарищи, под Вильнюсом, под Минском,
Под Оршей пали вы, а память о бойцах
Навеки будет жить в работе исполинской
Народов родины, в их пламенных сердцах!
1948
Тракайский замок
Перевод Н. Мальцевой
Из озер, зелена,
Набежала волна,
И, обрушившись силой единой,
На плече валуна
Утихает она
У подножия башни старинной.
И стоит тишина.
И ее глубина,
Как веков смоляная пучина, —
Не достанешь до дна!
Ты молчишь, как волна,
И боишься шуметь без причины.
Здесь кругом старина.
Выплывает луна,
Заливая мерцаньем лощины.
Задержись допоздна.
Слышишь, князь скакуна
С белой грудью ведет лебединой?
А когда, холодна,
Ночью в бельмо окна
Глянет осень с улыбкой повинной,
Стонет войско без сна
И, краснее вина,
Мчатся воды над озером винным.
Хоть считай допьяна,
Не сочтешь ты сполна —
Сколько здесь полегло, клин за клином.
Слава замка знатна,
Как его крутизна
Посреди обнажившейся глины.
Высока и мрачна,
Разрушалась стена
И оружьем, и временем длинным…
Пусть во все времена
Здесь пребудет она,
Словно памятник предкам былинным.
1957
«Не видел я, как тонут корабли…»
Перевод Н. Мальцевой
Не видел я, как тонут корабли,
Как палубу взрывной волной снимает,
Но поле ржи, родной клочок земли
Любой моряк с любовью вспоминает.
И святости его воспоминанья
Не заслонят ни боль, ни даль, ни срок —
Лишь адский вой прямого попаданья
Потушит в сердце этот огонек.
1960
«Море волнуется. Волны, как звенья кольчуги…»
Перевод Н. Мальцевой
Море волнуется.
Волны, как звенья кольчуги,
Мчатся вперед, изумрудной горя чешуей.
То ли о скалы они разобьются на юге,
То ли у северных льдов обретут долгожданный покой.
Мчитесь же дальше!
Приветствую бег ваш мятежный
И шаловливую рябь на излуках лагун.
Вы, как и мы, только гости недолгие на побережье
У неподвижных, заросших кустарником дюн.
1960
«Ты говоришь: все погибает в буре…»
Перевод Н. Мальцевой
Ты говоришь: все погибает в буре
Жестоких чувств — и счастье, и года.
Стоишь, уныло голову понуря,
И жаль тебе родимого гнезда.
Но погляди: в преддверье урагана
Из милых бухт туда, на край земли,
Выходят в бой, и бьются средь тумана,
И побеждают бурю корабли.
1962
ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН
(Род. в 1922 г.)
{165}
Травы
Я старею, и снятся мне травы,
а в ушах то сверчки, то шмели.
Но к чему наводить переправы
на оставленный берег вдали?
Ни продуктов, ни шифра, ни грязи
не хочу ни сейчас, ни потом,
Мне сказали:
— Взорвете понтон
и останетесь в плавнях для связи. —
…И остался один во вселенной,
прислонившись к понтону щекой,
восемнадцатилетний военный
с обнаженной гранатной чекой.
С той поры я бегу и бегу,
а за мною собаки по следу.
Все — на той стороне. Я последний
на последнем своем берегу.
И гудят, и гудят провода.
Боль стихает. На сердце покойней.
Так безногому снится погоня,
неразлучная с ним навсегда.
Два главных цвета
Есть у моря свои законы,
есть у моря свои повадки.
Море может быть то зеленым
с белым гребнем на резкой складке,
то без гребня — свинцово-сизым,
с мелкой рябью волны гусиной,
то задумчивым, светло-синим,
просто светлым и просто синим,
чуть колышемым легким бризом.
Море может быть в час заката
то лиловым, то красноватым,
то молчащим, то говорливым,
с гордой гривой в часы прилива.
Море может быть голубое.
И порою в дневном дозоре
глянешь за борт — и под тобою
то ли небо, а то ли море.
Но бывает оно и черным,
черным, мечущимся, покатым,
неумолчным и непокорным,
поднимающимся, горбатым,
в белых ямах, в ползучих кручах,
переливчатых, неминучих,
распадающихся на глыбы,
в светлых полосах мертвой рыбы.
А какое бывает море,
если взор застилает горе?
А бывает ли голубое
море в самом разгаре боя,
в час, когда, накренившись косо,
мачты низко гудят над ухом
и натянутой ниткой тросы
перескрипываются глухо,
в час, когда у наклонных палуб
ломит кости стальных распорок
и, уже догорев, запалы
поджигают зарядный порох?
Кто из нас в этот час рассвета
смел бы спутать два главных цвета?
И пока просыпались горны
утром пасмурным и суровым,
море виделось мне
то черным,
то — от красных огней —
багровым.
«Не тем, что полстолетья будут сцены…»
Не тем, что полстолетья будут сцены
изображать солдатский наш уют;
не тем, что в двадцать два узнали цену
тому, что люди в сорок узнают;
не сединой, что, может, слишком рано
легла походной пылью на виски,
когда мы, жизнь промерив на броски,
считали мины, не считая раны;
не славой, что пришла к нам неспроста:
на бланках похоронного листа,
на остриях штыков под Балаклавой,
в огнях ракет рождалась наша слава;
ни даже тем, что, выйдя в путь тернистый,
мы научились жертвовать собой.
Мы тем гордимся, что последний выстрел
завещан нам отцовскою судьбой.
Гордимся мы, что в наш двадцатый век, —
на той земле, где дни не дни, а даты, —
в семнадцатом родился человек
с пожизненною метрикой солдата.
Гордимся мы, быть может, даже тем,
что нам о нас не написать поэм.
И только ты, далекий правнук мой,
поймешь, что рамка с черною каймой
нам будет так узка и так мала,
что выйдем мы из бронзы, из стекла,
проступим солью,
каплею,
росой
на звездном небе —
светлой полосой.
«Как я мечтал о письменном столе…»
Как я мечтал о письменном столе,
об окнах, но не круглых, а квадратных,
о черной,
теплой,
вспаханной земле,
а ты меня уже зовешь обратно!
Куда зовешь,
к чему опять ты мне!..
Мне все знакомо, все в тебе не ново.
Гляжу в окно — волна всплывет в окне,
глаза закрою —
море хлынет снова.
Мигнет из тьмы далеким маяком,
качнет, толкнув,
как локтем у штурвала…
И, словно в детстве, бродишь три квартала
за каждым незнакомым моряком.
АРВИД СКАЛБЕ
(Род. в 1922 г.)
С латышского
{166}
Родник
Перевод М. Касаткина
Бежит в горах тропа крутая,
А перевал еще вдали…
Но слышишь — весело играя,
Родник пробился из земли?
Подставь ладонь — в струе кристальной
Животворящих сил запас:
Так сердце друга в час печальный
Источник бодрости для нас.
Как солнце греет полдень зыбкий,
Как май несет полям расцвет, —
Так близких нам людей улыбки
Душе свой добрый дарят свет.
Верба цветет
Перевод М. Касаткина
Только тронется лед,
Птичьи стаи встречая, —
В рощах милого края
Верба пышно цветет.
Входит сила земли
В золотые сережки,
Пчел заботливых ножки
Пыль с цветов понесли.
Пусть в речной перекат
Попадают иные —
Не сдаются живые,
Отдыхать не хотят.
Мчат в обратный полет,
Зимний сон отряхая.
В рощах милого края
Верба пышно цветет.
Осенняя песня
Перевод Л. Азаровой
Уж который раз в дороге длинной
Я встречаю в пламени берез
Осень с грустной песней журавлиной,
С золотым дождем кленовых слез.
И с холма, как в путь далекий друга,
Провожаю взглядом журавлей.
Верю — птицы, возвращаясь с юга,
Принесут весну еще светлей.
Я вас жду, когда цветочной пылью
Вновь весна отметит торжество.
Вам в пути большом поддержит крылья
Сила ожиданья моего.
Малыш и море
Перевод В. Невского
Малыш увидел море в первый раз.
Смотрел он долго с берега крутого.
Во взгляде широко раскрытых глаз
Не страх, а удивленье чем-то новым.
Не знает он, как море необъятно,
Не знает мальчик, сам еще как мал:
Он, с плеч отцовских глядя вниз, понятно,
Себя ничтожным сроду не считал.
А море тихое, в сознанье силы,
Как добрый пес, ребенку лижет ноги.
Вдруг ветер налетел, оно взбесилось,
Валы растут, как горные отроги.
А мальчик буре рад, ручонки тянет,
Быть может, море полюбил сейчас.
Наступит время — капитаном станет,
Как якорь, сердце кораблю отдаст…
Улегся ветер, смолкли волны вскоре,
Лишь голос малыша звенит светло, —
А через много лет узнает море,
Что в нем соперника и друга обрело!
ЮХАН СМУУЛ
С эстонского
{167}
Майский вечер
Перевод П. Антокольского
Весенний лед и терпкий запах йода,
И синий дым, и сумерки в порту.
Два моряка торговых с парохода
Поют, и гавань слышит песню ту.
Гляди, дружок, сплетает сумрак сети,
Спит чайка на прибрежном валуне.
Горит маяк. В его бессонном свете
Проложим курс, качаясь на волне.
Отыщем по магнитной стрелке норда
Дорогу в океан, на край земли.
Чужие города, чужие фьорды
Откроются в распахнутой дали.
На флагах — судьбы наций и народов,
Где доллар, где наручники, где страх.
Но родины там нет у мореходов,
Ни на своей земле, ни на морях.
Висит закат над странами чужими,
Как призрак новой мировой войны.
В чужие страны мы плывем во имя
Свободы победившей и весны.
Винт заклокочет, мощно поднимая
Косматых волн литое серебро.
Флаг на корме горит. Он — праздник Мая,
Он клич борьбы. Он — правда и добро.
Сквозь тучи пробивается все реже
Широкий луч, дорогу озарив…
Сбивая в пену зелень волн прибрежных,
Морской простор врывается в залив.
Край неба в этом пурпуре далеком
Был как привет прощальный моряка.
И цепь визжит, и якорь поднят блоком,
И синяя дорога далека…
1948
ПАСАРБИ ЦЕКОВ
(Род. в 1922 г.)
С абазинского
{168}
Как многие реки в одну…
Перевод Л. Епанешникова
Натруженным горным потоком
Она по ущелью текла.
Ей путь преграждала
Высоко
Поднявшая ребра скала.
Арканом река обвивала
Скалы молчаливой бока,
А глыба с усмешкой взирала,
Как тщетно боролась река.
Вода горячилась,
Но силы
Не те, чтоб идти напролом, —
Преграду река обходила,
Тоскуя о русле большом.
Но вот по лесистому склону
Примчался бурлящий ручей.
Он глянул на речку влюбленно
И слился восторженно с ней.
И следом — туда же влекомый —
Второй. А за ними — опять.
И сделалась шире, спокойней,
Уверенней водная гладь.
И вдруг на пути пред собою
Увидела:
В зелени ив —
Река! А величье какое!
Какой богатырский разлив!
И тут же, пойдя на сближенье
И вытянув обе руки,
Свое заключила теченье
В теченье могучей реки.
И все неоглядней просторы,
И берег все дальше, и тут
Уже расступаются горы,
Прямую дорогу дают.
Мечты о свободе и силе
Вздымали людскую волну.
Народы вливались в Россию,
Как многие реки в одну.
1957
ИСААК БОРИСОВ
(1923–1972)
С еврейского
{169}
«А миру — что, на самом деле…»
Перевод Ю. Нейман
А миру — что, на самом деле,
Большой иль малый дан мне срок?!
Для плеч его я не тяжеле,
Чем ветром сброшенный листок.
Но жизнь моя травинки стержнем
В свой час земную твердь пробьет,
Зазеленеет в шуме вешнем,
С осенним шумом — отойдет.
1940
«Не по приметным звездам небосклона…»
Перевод О. Дмитриева
Не по приметным звездам небосклона —
Свой путь искали мы руками по земле,
Колени в кровь разбив о пни в кромешной мгле, —
Так бьются льдины в пору ледохода.
Ни мужество, ни воля не иссякли.
Вам камни и трава расскажут — верьте им!
Мы путь назад найдем по памяткам своим —
В залог мы оставляли крови капли.
1941
«И вновь друзья…»
Перевод О. Дмитриева
И вновь друзья
Во тьму бесстрастно
Уходят, покидая нас…
Там тишь трубит в свой рог безгласный
И времени костер погас.
1943
«Что в то утро знали мы, что знали…»
Перевод В. Соколова
Что в то утро знали мы, что знали,
Кроме собственных имен звучанья,
Кроме блеска солнца на ресницах
Да еще колосьев трепетанья?
Что в то утро знали мы, что знали,
Кроме зова райского из сада
Вечности, беспечно почивавшей
Возле врат разбуженного ада?…
22 июня 1965 г.
«Помедли, день, — постой, не торопись…»
Перевод А. Кафанова
Помедли, день, — постой, не торопись…
На замки облаков нейди войною,
Их небо возводило тишиною,
Их синевою застеклила высь.
А я еще не выплатил оброк,
Меня к земле пригнут заботы снова,
За мной еще — пророческое слово,
Которое я миру не изрек.
1967
«С тобою, Время, шел я наравне…»
Перевод Ю. Нейман
С тобою, Время, шел я наравне.
С тобою был в жестокой крутоверти,
С тобой считал в зловещей тишине
Всех тех, кто по сердцу пришелся смерти.
Чуть из огня — и снова в бой крутой,
Из боя — в пекло, в полымя со всеми…
Так что ж ты мне простить не можешь, Время,
Что не всегда я веселюсь с тобой?!
1971
«Благословен зеленый замок ваш…»
Перевод Н. Горской
Благословен зеленый замок ваш,
Где заросли травы и повилики
И где цветы звенят и льют из чаш
Росу на бледно-розовые блики
Ущербного светила,
что давно
(Назло земле) в свою игру играет
И — словно умирая —
замирает,
И человечеству тогда темно
В тиши…
А я благословляю вас —
Смежите веки, выпейте прохлады
И знайте: счастья большего не надо,
Чем с солнцем встретиться в рассветный час!
И — мелочь… Мой каприз, мужской, последний:
Когда вы смотрите — в преддверье сна, —
Как желтым обручем скользит луна
По крыше затуманенной соседней,
Пускай поэт пред вами промелькнет.
Шагает он сейчас под пылью звездной,
Тот пеший, безоружный Дон-Кихот,
И любит вас,
не ведая, что поздно…
1971
«Твой суд неправедный приемлю…»
Перевод Н. Горской
Твой суд неправедный приемлю,
Как серой осени приход.
В боях за небо и за землю
Не обескровлен Дон-Кихот,
Не стал безвольным, равнодушным
И твердый шаг не потерял…
………………
Но ветер,
мельницы разрушив,
Победу у меня украл.
1971
«В мальчишеском имени — Иче…»
Перевод Н. Горской
В мальчишеском имени — Иче —
Колючий полет сквозняка,
Принесшего издалека
Чужой, стародавний обычай.
Я жил — и оно отошло…
Но в осень, дрожа от озноба,
Твержу его снова и снова,
Как строчку —
забвенью назло.
1971
«О, если б не было ни в чем обмана…»
Перевод Н. Горской
О, если б не было ни в чем обмана
И белой не казалась чернота!
Живет в душе заветная мечта,
Трепещет в каждой строчке постоянно.
Мой голос — он не громыхал, как медь…
Быть может,
люди,
я не понят вами?
Когда-нибудь и вы, устав греметь,
Начнете клясться тихими словами.
1971
«Над белым полем крыши…»
Перевод А. Кафанова
Над белым полем крыши
на рассвете,
Как тонкий колос, первый луч возник.
Величия полны мгновенья эти —
Являет солнце миру ясный лик!
Светило смотрит людям прямо в очи,
Как будто каждый — первенец земли:
Не проглядите, как на грани ночи,
Не потускнев, исчезну я вдали.
1971
В. А. Громыко. 1941. Над Припятью. 1970
АНАТОЛИЙ ВЕЛЮГИН
(Род. в 1923 г.)
С белорусского
{170}
Березовый сок
Перевод Я. Хелемского
Над лесом стая легкая несется,
мелькает в дымке вальдшнепа крыло.
Как во дворец, сюда заходит солнце,
и от колонн березовых светло.
Глушь сторожат сороки-белобоки.
Смотрю я, древней жаждою объят:
шершавый ствол, на нем надрез глубокий.
О донце капли первые стучат.
О, сколько в них прозрачности и блеска,
К лотку беззвучно мураши спешат.
Над розовыми пнями перелеска
березового сока аромат.
Я захмелел от вешнего настоя
росы, корней, зеленого дымка.
Я ощутил холодною щекою,
как источает жар твоя щека.
Со мною рядом, небывало близко,
молчала ты, слегка скосив зрачок
на птиц, готовых устремиться к Минску,
на здешних сплетниц, стрекотух-сорок.
Густая синь прищуренного ока.
Повсюду синь, куда ни поглядишь
…Шершавый ствол, надрезанный глубоко.
Звон капли о кувшин. И снова тишь.
1957
Поэт
Перевод Н. Кислика
Играя, вдруг выбило море
на белый холодный песок
зеленый патрон от винтовки,
под пулею в гильзе — листок.
Как порох бездымный — под пулей.
Измятый и темный. На нем
скупые прощальные строки
начертаны карандашом:
«Над берегом чайка бедует,
и падает солнце в лиман.
Как брат санитар, забинтует
меня бородатый туман.
Гляжу на последнюю просинь,
последний патрон берегу.
Вы, чайки залетные, бросьте
с тревогой проклятье врагу.
Летите вы к сосенкам в жите,
присядьте над грустным окном
и смерть моряка опишите
своим белоснежным пером».
1959
Летняя дорога
Перевод Г. Юнакова
Мчится безоглядно,
Прочь косой повеса,
Загудит надсадно
Мошкара над лесом.
Не трещи, сорока,
Лгут твои приметы:
По лугам широко
Расплеснулось лето.
Вьется жгучий овод,
Осаждая лошадь,
Шлепают подковы
о сенной пороше.
Летний день промчится —
Почернелый, потный…
Скоро косовица
Канет в яр дремотный.
Вяло загрохочет
Солнцем налитая,
Схожая с платочком
Тучка дождевая.
Летняя дорога!
Эх, туманы лета…
Спето песен много,
Больше — не допето!
Где любовь бродила,
Мед пила пчелиный,
Губы закусила
До крови калина.
Луг лежит убогий,
Жухлый — как раздетый:
Снег и на дороге,
И на песне этой.
1959
Черемуховые холода
Перевод Я. Хелемского
По ярам черемуха белыми сугробами,
ветки, словно в инее,
жгучая вода.
Соловьи окрестные снова голос пробуют.
Выстужено небо.
Ходят холода.
Дружно подхватили мы утреннее пение.
Натощак запели мы.
Это не беда.
В белом одеянии вся земля весенняя.
Наши глотки вылудив,
ходят холода.
Объясняет радио, что в начале мая
началось на севере
таяние льда.
Дым в саду колышется, ветви обнимая,
кутая соцветия, —
нынче холода.
Зыбкий мостик вздрагивает, чуткий, как душа моя.
Слышен шаг пружинистый,
быстрый, как всегда.
Ты со мною, времечко, молодое, шалое.
Чистый цвет черемухи.
Песня. Холода.
1960
«А жизнь как будто вся сначала…»
Перевод Я. Хелемского
А жизнь как будто вся сначала.
Следы и лодка на песке.
И мать в хатенке обветшалой,
в том голубином городке.
Верны родительским заветам,
мы не забыли час беды,
когда весною черным цветом
цвели над озером сады.
Свинец поротно и поштучно
нас принимался вновь считать,
но ты за ржавою колючкой
как солнце, возникала, мать.
Подземный ход, тайник за склепом,
и ты с холщовым рушником.
Во мраке руки пахли хлебом,
малинником и молоком.
Да, все мы помним ежечасно
колючий лагерный забор,
подземный ход и путь опасный
в тревожный партизанский бор.
Мне снится плес под тучей черной
и голос твой: «Ну, в добрый час!..»
О мать, не только нареченной,
родною стала ты для нас.
Былая боль как сон солдата.
Следы и лодка на песке.
И матери седая хата
в том голубином городке.
1968
«Как в полудреме, листопад над сквером…»
Перевод Я. Хелемского
Как в полудреме, листопад над сквером.
Ржавеет лето на асфальте сером.
А в просини
над башнями,
над реками —
журавлиный реквием.
С веселой грустью облетают листья
забронзовевших календарных истин.
Осталась память
о минувшем лете,
как юности наследье.
За черным дымом, за депо, за фабрикой
простор синеет налитой, как яблоко,
хоть и грустит
над башнями,
над реками
журавлиный реквием.
1970
МУСА ГАЛИ
(Род. в 1923 г.)
Переводы Е. Николаевской
С башкирского
{171}
«Круглые вещи люблю я — не скрою…»
Круглые вещи люблю я — не скрою:
Вот круглое яблоко девушка держит,
Вот круглое солнце сквозь облако брезжит,
Круглое озеро золотом кроя.
Круглым колесам спасибо! Покоя
Не дали мне — показали полсвета…
Делая круг над зеленой планетой,
Милая с неба мне машет рукою…
Круглый мой стол — на него не в обиде
Я — он друзей моих в круг собирает!..
Радуясь, круглые клумбы увидя, —
Пламенем рыжим шафраны пылают!..
Круглого тайну мы постигаем:
Нет ничего совершеннее круга!
Как хорошо, когда люди друг к другу
С круглым душистым спешат караваем!..
И не напрасно души твоей тайна
В круглых зрачках твоих вся предо мною.
И в ожиданье под круглой луною
Я все кружу и кружу не случайно,
И, окружен тишиною священной,
Рву для тебя я чудо-соцветья
И повторяю: на круглой планете
Быть бы и жизни, как круг, совершенной!
«Когда в дальний пускаюсь я путь…»
Когда в дальний пускаюсь я путь,
Молча еду дорогой степной,
Чувство странное полнит мне грудь —
Будто что-то потеряно мной.
Но мой день не без солнца рожден,
Моя ночь — не без звезд и луны…
То ли радость минувшей весны,
То ли взгляд, ускользнувший, как сон, —
Будто что-то потеряно мной:
То ли нежная чья-то рука,
То ль мелодия в чаще лесной,
То ль роса на реснице цветка…
Будто что-то потеряно мной:
Может, заданный кем-то вопрос,
Может, слово порою ночной,
Что услышать потом не пришлось…
Потерял ли я это в пути?
Смыли ль воды, сгорело ль в огне?
Как бы вспомнить мне, как бы найти!
Где искать — наяву ли, во сне?
На душе неизбывная грусть —
Будто что-то потеряно мной…
И к разгадке я с муками рвусь
Сквозь преграды, что встали стеной.
Не подаст ли кто знак или весть —
Что же это потеряно мной?…
Может, в поисках этих и есть
Высший смысл моей жизни земной?
РАСУЛ ГАМЗАТОВ
(Род. в 1923 г.)
С аварского
{172}
«Изрек пророк…»
Перевод Я. Козловского
Изрек пророк:
— Нет бога, кроме бога! —
Я говорю:
— Нет мамы, кроме мамы!.. —
Никто меня не встретит у порога,
Где сходятся тропинки, словно шрамы.
Вхожу и вижу четки,
на которых
Она в разлуке, сидя одиноко,
Считала ночи, черные, как порох,
И белы дни, летящие с востока.
Кто разожжет теперь огонь в камине,
Чтобы зимой согрелся я с дороги?
Кто мне, любя, грехи отпустит ныне
И за меня помолится в тревоге?
Я в руки взял Коран, тисненный
Пред ним склонялись грозные имамы.
Он говорит:
— Нет бога, кроме бога! —
Я говорю:
— Нет мамы, кроме мамы!
«— Скажи, каким огнем был рад…»
Перевод Я. Козловского
— Скажи, каким огнем был рад
Гореть ты в молодости, брат?
— Любовью к женщине!
— Каким, не избежав потерь,
Горишь огнем ты и теперь?
— Любовью к женщине!
— Каким, ответь, желаешь впредь
Огнем пожизненно гореть?
— Любовью к женщине!
— Чем дорожишь ты во сто крат
Превыше славы и наград?
— Любовью женщины!
— Чем был низвергнут, как поток,
И вознесен ты, как клинок?
— Любовью женщины!
— С чем вновь,
как рок ни прекословь,
Разделишь не на срок любовь?
— С любовью женщины!
— А с чем, безумный человек,
Тогда окончится твой век?
— С любовью женщины!
Если в мире тысяча мужчин…
Перевод Я. Козловского
Если в мире тысяча мужчин
Снарядить к тебе готова сватов,
Знай, что в этой тысяче мужчин
Нахожусь и я — Расул Гамзатов.
Если пленены тобой давно
Сто мужчин,
чья кровь несется с гулом,
Разглядеть меж них не мудрено
Горца, нареченного Расулом.
Если десять влюблены в тебя
Истинных мужей —
огня не спрятав,
Среди них, ликуя и скорбя,
Нахожусь и я — Расул Гамзатов.
Если без ума всего один
От тебя, не склонная к посулам,
Знай, что это с облачных вершин
Горец, именуемый Расулом.
Если не влюблен в тебя никто
И грустней ты сумрачных закатов,
Значит, на базальтовом плато
Погребен в горах Расул Гамзатов.
Песня про сокола с бубенцами
Перевод Я. Козловского
Было небо черно от лохматых овчин,
Все клубились они в беспорядке.
И сидел вдалеке от родимых вершин
Красный сокол на белой перчатке.
Бубенцами его одарили ловцы
И кольцом с ободком золоченым.
Поднимал он крыла, и опять бубенцы
Заливались серебряным звоном.
На перчатке сидел и не ведал забот,
И кормили его, как ручного.
Только снился ему в черных тучах полет
И скала у потока речного.
Он домой полетел, бубенцами звеня,
Красный сокол, рожденный для схватки,
И товарищам крикнул:
— Простите меня,
Что сидел я на белой перчатке!
Отвечали они там, где катится гром
И клубятся туманы на склонах:
— Нет у нас бубенцов, что звенят серебром,
Нет колечек у нас золоченых.
Мы вольны, и у нас бубенцы не в чести,
И другие мы ценим повадки.
Ты не свой, ты чужой, ты обратно лети
И сиди там на белой перчатке.
Голова Хаджи-Мурата{173} Перевод Я. Козловского
Отрубленную вижу голову
И боевые слышу гулы,
А кровь течет по камню голому
Через немирные аулы.
И сабли,
что о скалы точены,
Взлетают, видевшие виды.
И скачут вдоль крутой обочины
Кавказу верные мюриды
{174} .
Спросил я голову кровавую:
— Ты чья была, скажи на милость?
И как,
увенчанная славою,
В чужих руках ты очутилась?
И слышу вдруг:
— Скрывать мне нечего,
Я голова Хаджи-Мурата,
И потому скатилась с плеч его,
Что заблудилась я когда-то.
Дорогу избрала не лучшую,
Виной всему мой нрав тщеславный… —
Смотрю на голову заблудшую,
Что в схватке срублена неравной.
Тропинками, сквозь даль простертыми,
В горах рожденные мужчины,
Должны живыми или мертвыми
Мы возвращаться на вершины.
«…И на дыбы скакун не поднимался…»
Перевод Я. Козловского
Аркадию Райкину
…И на дыбы скакун не поднимался,
Не грыз от нетерпения удил.
Он только белозубо улыбался
И голову тяжелую клонил.
Почти земли его касалась грива,
Гнедая,
походила на огонь.
Вначале мне подумалось:
«Вот диво,
Как человек, смеется этот конь».
Подобное кого не озадачит,
Решил взглянуть поближе на коня.
И вижу:
не смеется конь, а плачет,
По-человечьи голову клоня.
Глаза продолговаты, словно листья,
И две слезы туманятся внутри…
Когда смеюсь,
ты, милый мой, приблизься
И повнимательнее посмотри.
«С годами изменяемся немало…»
Перевод Я. Козловского
С годами изменяемся немало.
Вот на меня три женщины глядят.
— Ты лучше был, —
одна из них сказала.
Я с ней встречался десять лет назад.
Касаясь гор заснеженного края,
Вдали пылает огненный закат.
— Ты все такой же, — говорит вторая,
Забытая пять лет тому назад.
А третья, рук не размыкая милых,
Мне жарко шепчет, трепета полна:
— Ты хуже был… Скажи, что не любил их… —
Каким я был, не ведает она.
Журавли
Перевод Н. Гребнева
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по земле людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клич усталый —
Мои друзья былые и родня.
И в их строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я полечу в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Берегите друзей
Перевод Н. Гребнева
Знай, мой друг, вражде и дружбе цену
И судом поспешным не греши.
Гнев на друга, может быть, мгновенный,
Изливать покуда не спеши.
Может, друг твой сам поторопился
И тебя обидел невзначай.
Провинился друг и повинился —
Ты ему греха не поминай.
Люди, мы стареем и ветшаем,
И с теченьем наших лет и дней
Легче мы своих друзей теряем,
Обретаем их куда трудней.
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его — вини дорогу
И коня не торопись менять.
Люди, я прошу вас, ради бога,
Не стесняйтесь доброты своей.
На земле друзей не так уж много:
Опасайтесь потерять друзей.
Я иных придерживался правил,
В слабости усматривая зло.
Скольких в жизни я друзей оставил,
Сколько от меня друзей ушло.
После было всякого немало.
И, бывало, на путях крутых
Как я каялся, как не хватало
Мне друзей потерянных моих!
И теперь я всех вас видеть жажду,
Некогда любившие меня,
Мною не прощенные однажды
Или не простившие меня.
Восьмистишия
Перевод Я. Гребнева
* * *
В старину писали не спеша
Деды на кинжалах и кинжалами
То, что с помощью карандаша
Тщусь я выразить словами вялыми.
Деды на взлохмаченных конях
В бой скакали, распрощавшись с милыми,
И писали кровью на камнях
То, что тщусь я написать чернилами.
* * *
Утро и вечер, солнце и мрак —
Белый рыбак, черный рыбак.
В мире как в море; и кажется мне:
Мы, словно рыбы, плывем в глубине.
В мире как в море: не спят рыбаки,
Сети готовят и ладят крючки.
В сети ли ночи, на удочку дня
Скоро ли время поймает меня?
* * *
«Радость, помедли, куда ты летишь?»
«В сердце, которое любит!»
«Юность, куда ты вернуться спешишь?»
«В сердце, которое любит!»
«Сила и смелость, куда вы, куда?»
«В сердце, которое любит!»
«А вы-то куда, печаль да беда?»
«В сердце, которое любит!»
* * *
Люди, мы утром встаем и смеемся.
Разве мы знаем, что день нам несет?
День настает, мы клянем и клянемся;
Смотришь, и вечер уже у ворот.
Наши сокровища — силу и смелость —
День отнимает у нас, уходя…
И остается спокойная зрелость —
Бурка, надетая после дождя.
* * *
Даже те, кому осталось, может,
Пять минут глядеть на белый свет,
Суетятся, лезут вон из кожи,
Словно жить еще им сотни лет.
А вдали в молчанье стовековом
Горы, глядя на шумливый люд,
Замерли, печальны и суровы,
Словно жить всего им пять минут.
* * *
Мои стихи не я вынашивал,
Бывало всякое, не скрою:
Порою трус пером их сглаживал,
Герой чеканил их порою.
Влюбленный их писал возвышенно
И лжец кропал, наполнив ложью,
А я мечтал о строках, писанных,
Как говорят, рукою божьей.
* * *
Есть три заветных песни у людей,
И в них людское горе и веселье.
Одна из песен всех других светлей —
Ее слагает мать над колыбелью.
Вторая — тоже песня матерей.
Рукою гладя щеки ледяные,
Ее поют над гробом сыновей…
А третья песня — песни остальные.
* * *
Когда пороком кто-то наделен,
Мы судим, и кричим, и негодуем,
Мы пережитком дедовских времен
Все худшие пороки именуем.
Тот карьерист, а этот клеветник,
Людей клянущий в анонимках злобных.
Но деды здесь при чем? Ведь наш язык
В те времена и слов не знал подобных!
* * *
На сабле Шамиля горели
Слова, и я запомнил с детства их:
«Тот не храбрец, кто в бранном деле
Думает о последствиях!»
Поэт, пусть знаки слов чеканных
Живут, с пером твоим соседствуя:
«Тот не храбрец, кто в деле бранном
Думает о последствиях!»
* * *
Ученый муж качает головой,
Поэт грустит, писатель сожалеет,
Что Каспий от черты береговой
С годами отступает и мелеет.
Мне кажется порой, что это чушь,
Что старый Каспий обмелеть не может.
Процесс мельчанья человечьих душ
Меня гораздо более тревожит.
* * *
Вершина далекая кажется близкою.
С подножья посмотришь — рукою подать,
Но снегом глубоким, тропой каменистою
Идешь и идешь, а конца не видать.
И наша работа нехитрою кажется,
А станешь над словом сидеть-ворожить,
Не свяжется строчка, и легче окажется
Взойти на вершину, чем песню сложить.
* * *
Мне случалось видеть иногда:
Златокузнецы — мои соседи —
С помощью казаба без труда
Отличали золото от меди.
Мой читатель — ценностей знаток,
Мне без твоего казаба тяжко
Распознать в хитросплетенье строк,
Где под видом золота — медяшка.
НИКОЛАЙ ДОРИЗО
(Род. в 1923 г.)
{175}
Где родился Руставели
Бесо Жгенти
В небе древнего Рустави
Звезды
женственно
блистали.
— Здесь родился Руставели! —
Нам сказали старики.
В честь его отцы нам дали
Рог
по кругу
«Цинандали».
Здесь родился Руставели,
Сделал первые шаги!
А потом в садах Кварели,
Где рассвета акварели:
— Здесь родился Руставели, —
Встречный горец нам сказал.
Он сказал так убежденно,
Одержимо и влюбленно:
— Здесь родился Руставели! —
Что я спорить с ним не стал.
А в селениях Месхети
Нам сказали даже дети:
— Здесь родился Руставели. —
Всюду слышим весть одну,
Широка она,
раздольна.
И подумал я невольно:
«Нет!
Родился Руставели
На моем родном Дону!»
Ты не спорь со мною,
Жгенти,
Может, где-нибудь
в Ташкенте:
— Здесь родился Руставели! —
Кто-то скажет про него.
Ну, а все же, в самом деле,
Где ж родился Руставели?
Там родился Руставели,
Где мы так хотим того!
1962
«Моя любовь — загадка века…»
Моя любовь —
Загадка века,
Как до сих пор
Каналы марсиан,
Как найденная флейта
Человека,
Который жил
до древних египтян,
Как телепатия
Или язык дельфиний,
Что, может, совершеннее,
Чем наш,
Как тот,
возникший вдруг
На грани синей,
Корабль
с других планет
Или мираж.
Я так тоскую
по тебе
В разлуке.
И эта непонятная тоска,
Как ген,
Как область новая науки,
Которой
нет
названия пока.
Что ж,
может быть,
В далекий век тридцатый
В растворе человеческой крови
Не лирики,
А физик бородатый
Откроет
атом
вещества любви.
Его прославят
летописцы века,
О нем
молва
пойдет
во все края.
Природа,
сохрани от человека
Хотя бы
эту
Тайну бытия!
1967
Накануне
Г. Ансимову
Я все время живу
Накануне чего-то:
Накануне строки,
Накануне полета,
Накануне любви,
Накануне удачи, —
Вот проснусь я —
И утром
все будет иначе.
То, что в жизни имел,
То, что в жизни имею, —
Я ценить не умел
И ценить не умею,
Потому что все время
Тревожит забота,
Потому что живу
Накануне чего-то.
Может, я неудачник
С неясным порывом,
Не умеющий быть
И от счастья
счастливым.
Но тогда почему
Не боюсь я обиды,
Почему
все обиды
В минуту
забыты?
Я им счет не веду,
Наплевать,
Не до счета, —
Я все время живу
Накануне чего-то.
1969
Бабушка
Спешит на свидание бабушка,
Не правда ли, это смешно?
Спешит на свидание бабушка.
Он ждет ее возле кино.
Расплакалась внучка обиженно,
Сердито нахмурился зять —
Спешит на свидание бабушка,
Да как же такое понять!
Из дома ушла, оробевшая,
Виновная в чем-то ушла…
Когда-то давно овдовевшая,
Всю жизнь она им отдала.
Кого-то всегда она нянчила —
То дочку, то внучку свою —
И вдруг в первый раз озадачила
Своим непокорством семью.
Впервые приходится дочери
Отчаянно стряпать обед:
Ушла на свидание бабушка,
И это на старости лет!
Ушла на свидание бабушка,
И совестно ей оттого…
Ушла на свидание бабушка,
А бабушке — сорок всего.
1971
Строки о времени
Он, как вершина горная, седой,
Старик — могучий гений долголетья.
Не покидал аул он отчий свой —
Подумать только! — полтора столетья.
При Пушкине уже был взрослым он.
Мог бы обнять его вот этими руками.
Все человечество далеких тех времен
Ушло с планеты. Он остался с нами.
…Вхожу с почтеньем в тот спокойный дом,
В ту вековую тихую обитель…
И, как ни странно, думаю о том,
Что, может быть, я больший долгожитель.
Хотя бы тем, что выжил на войне,
Такой, что не бывало на планете.
И это по своей величине
Не менее, чем жить века на свете.
На Капри лето я встречал зимой,
А в тундре зиму первого апреля.
На тыщи верст помножьте возраст мой,
Ведь расстоянье — это тоже время.
И потому я старше, чем старик,
Задумчивый ребенок долголетья,
Не оставлявший горный свой Лерик
Не год, не два, а полтора столетья.
Я старше на моря, на города,
На трудные и легкие маршруты.
Не на года,
Я старше на минуты,
Что, может, больше стоят,
Чем года.
1972
«О, как ты поздно…»
О, как ты поздно,
молодость,
пришла.
Почти на тридцать лет
ты опоздала.
Всю жизнь мою тебя мне не хватало…
О, как ты поздно,
молодость,
пришла!
Зачем пришла ты
именно теперь,
Зачем так жадно
чувствую тебя я,
Не только обретая,
но теряя,
Как самую большую из потерь!
Я вроде был когда-то молодым.
Но мог ли быть я
молодым когда-то
Так истово,
так полно,
так богато,
Как в эти годы
ставши молодым!..
Познавший цену радостям земным,
Изъездивший почти что всю планету,
О молодость,
лишь только мудрость эту
Могу назвать я именем твоим!
Готов я бить во все колокола,
Приветствуя строкой
твое явленье,
Моя ты гибель
и мое прозренье,
О, как ты поздно,
молодость, пришла!
1972
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ
(Род. в 1923 г.)
{176}
Коммунисты, вперед!
Есть в военном приказе
Такие слова,
На которые только в тяжелом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, подымающий роту свою.
Я давно понимаю
Военный устав
И под выкладкой полной
Не горблюсь давно.
Но, страницы устава до дыр залистав,
Этих слов
До сих пор
Не нашел
Все равно.
Год двадцатый,
Коней одичавших галоп.
Перекоп.
Эшелоны.
Тифозная мгла.
Интервентская пуля, летящая в лоб, —
И не встать под огнем у шестого кола.
Полк
Шинели
На проволоку побросал, —
Но стучит над шинельным сукном пулемет.
И тогда
еле слышно
сказал
комиссар:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
Летним утром
Граната упала в траву,
Возле Львова
Застава во рву залегла.
«Мессершмитты» плеснули бензин
в синеву, —
И не встать под огнем у шестого кола.
Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях,
Закопанных в пашни «КВ»,
Высыхали тяжелые капли дождя.
И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лед.
И тогда
еле слышно
сказал
командир:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В Мае
Прошли у древка…
Под февральскими тучами
Ветер и снег,
Но железом не стынущим пахнет земля.
Приближается день.
Продолжается век.
Индевеют штыки в караулах Кремля…
Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Где труда бескорыстного — невпроворот,
Сквозь века,
на века,
навсегда,
до конца:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
Десантники
«Мы под Колпином скопом стоим…»
Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
Мы недаром присягу давали,
За собою мосты подрывали, —
Из окопов никто не уйдет.
Недолет. Перелет. Недолет.
Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она — по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Нас, десантников, Армия любит…
По своим артиллерия лупит, —
Лес не рубит, а щепки летят.
Музыка
Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.
Какая музыка,
во всем,
Всем и для всех —
не по ранжиру.
Осилим… Выстоим… Спасем…
Ах, не до жиру — быть бы живу…
Солдатам головы кружа,
Трехрядка
под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.
И через всю страну
струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.
Стенали яростно,
навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке — инвалид
И Шостакович — в Ленинграде.
Прощание со снегом
Вот и покончено со снегом,
С московским снегом голубым, —
Колес бесчисленных набегом
Он превращен в промозглый дым.
О, сколько разных шин! Не счесть их!
Они, вертясь наперебой,
Ложатся в елочку и в крестик
На снег московский голубой.
От стужи кровь застыла в жилах,
Но вдрызг разъезжены пути —
Погода зимняя не в силах
От истребленья снег спасти.
Москва от края и до края
Голым-гола, голым-гола.
Под шинами перегорая,
Снег истребляется дотла.
И сколько б ни валила с неба
На землю зимняя страда,
В Москве не будет больше снега,
Не будет снега никогда.
Баллада о цирке
Метель взмахнула рукавом —
И в шарабане цирковом
Родился сын у акробатки.
А в шарабане для него
Не оказалось ничего:
Ни колыбели, ни кроватки.
Скрипела пестрая дуга,
И на спине у битюга
Проблескивал кристаллик соли…
………………..
Спешила труппа на гастроли…
Чем мальчик был, и кем он стол,
И как, чем стал он, быть устал,
Я вам рассказывать не стану.
К чему судьбу его судить,
Зачем без толку бередить
Зарубцевавшуюся рану.
Оно как будто ни к чему,
Но вспоминаются ему
Разрозненные эпизоды.
Забыть не может ни за что
Дырявое, как решето,
Заштопанное шапито
И номер, вышедший из моды.
Сперва работать начал он
Классический аттракцион:
Зигзагами по вертикали
На мотоцикле по стене
Гонял с другими наравне,
Чтобы его не освистали.
Но в нем иная страсть жила, —
Бессмысленна и тяжела,
Душой мальчишеской владела:
Он губы складывал в слова,
Хотя и не считал сперва,
Что это стоящее дело.
Потом война… И по войне
Он шел с другими наравне,
И все, что чуял, видел, слышал,
Коряво заносил в тетрадь,
И собирался умирать,
И умер он — и в люди вышел.
Он стал поэтом той войны,
Той приснопамятной волны,
Которая июньским летом
Вломилась в души, грохоча,
И сделала своим поэтом
Потомственного циркача.
Но, возвратясь с войны домой
И отдышавшись еле-еле,
Он так решил:
«Войну допой
И крест поставь на этом деле».
Писанье вскорости забросил,
Обезголосел, охладел —
И от литературных дел
Вернулся в мир земных ремесел.
Он завершил жестокий круг
Восторгов, откровений, мук —
И разочаровался в сути
Божественного ремесла,
С которым жизнь его свела
На предвоенном перепутье.
Тогда-то, исковеркав слог,
В изяществе не видя проку,
Он создал грубый монолог
О возвращении к истоку:
Итак, мы прощаемся.
Я приобрел вертикальную стену
И за сходную цену
подержанный реквизит,
Ботфорты и бриджи
через неделю надену,
И ветер движенья
меня до костей просквозит.
Я победил.
Колесо моего мотоцикла
Не забуксует на треке
и со стены не свернет.
Боль в моем сердце
понемногу утихла.
Я перестал заикаться.
Гримасами не искажается рот.
Вопрос пробуждения совести
заслуживает романа.
Но я ни романа, ни повести
об этом не напишу.
Руль мотоцикла,
кривые рога «Индиана» —
В правой руке,
успевшей привыкнуть к карандашу.
А левой прощаюсь, машу…
Я больше не буду
присутствовать на обедах,
Которые вы
задавали в мою честь.
Я больше не стану
вашего хлеба есть,
Об этом я и хотел сказать.
Напоследок…
Однако этот монолог
Ему не только не помог,
Но даже повредил вначале.
Его собратья по перу
Сочли все это за игру
И не на шутку осерчали.
А те из них, кто был умней,
Подозревал, что дело в ней,
В какой-нибудь циркачке жалкой,
Подруге юношеских лет,
Что носит кожаный браслет
И челку, схожую с мочалкой.
Так или иначе. Но факт,
Что — не позер, не лжец, не фат —
Он принял твердое решенье
И, чтоб его осуществить,
Нашел в себе задор и прыть
И силу самоотрешенья.
Почувствовав, что хватит сил
Вернуться к вертикальной стенке,
Он все нюансы, все оттенки
Отверг, отринул, отрешил.
Теперь назад ни в коем разе
Не пустит вертикальный круг.
И вот гастроли на Кавказе.
Зима. Тбилиси. Ночь. Навтлуг
{177} .
Гастроли зимние на юге.
Военный госпиталь в Навтлуге.
Трамвайных рельс круги и дуги.
Напротив госпиталя — домик,
В нем проживаем — я и комик.
Коверный двадцать лет подряд
Жует опилки на манеже —
И улыбается все реже,
Репризам собственным не рад.
Я перед ним всегда в долгу,
Никак придумать не могу
Смехоточивые репризы.
Вздыхаю, кашляю, курю
И укоризненно смотрю
На нос его багрово-сизый.
Коверный требует реприз
И пьет до положенья риз…
В огромной бочке, по стене,
На мотоциклах, друг за другом,
Моей напарнице и мне
Вертеться надо круг за кругом.
Он стар, наш номер цирковой,
Его давно придумал кто-то, —
Но это все-таки работа,
Хотя и книзу головой.
О вертикальная стена,
Круг новый дантовского ада,
Мое спасенье и отрада, —
Ты всё вернула мне сполна.
Наш номер ложный?
Ну и что ж!
Центростремительная сила
Моих колес не победила, —
От стенки их не оторвешь.
По совместительству, к несчастью,
Я замещаю зав. литчастью.
ГИЛЕМДАР РАМАЗАНОВ
(Род. в 1923 г.)
С башкирского
{178}
Одно слово
Перевод М. Дудина
Беседой дружеской отмечен
мой путь в краю степных дорог.
И лишь с тобой при первой встрече
я слова вымолвить не мог.
В кругу друзей ночной порою
я шуткой веселил привал.
И, только встретившись с тобою,
я смех и шутки потерял.
Бежала раньше, словно в сказке,
рассказов пестрая канва.
И лишь с тобой теряли краски
живые, ясные слова.
Свистели птицы возле окон
В туман вечерней полутьмы.
Вокруг да около, намеком,
с тобой беседовали мы.
И все слова, просты и милы,
уже вплетались в нашу речь.
Но, знать, у сердца были силы —
одно, заветное, беречь.
Мы в жизнь войдем одной дорогой.
Как тайну тайн в моей судьбе,
всей жизнью, всей своей тревогой
«Люблю!» скажу одной тебе.
1947
Поэзия
Перевод Д. Седых
Взволновал не вечер необычный,
полный красок, света и тепла, —
на московской улице москвичка
мне стихи знакомые прочла.
Я слова башкирского поэта
от нее по-русски услыхал —
и как будто с лаской и приветом
наклонился надо мной Урал.
Друг-поэт, такой же сын Урала,
вечера уфимские весной
и цветы в долинах и на скалах
в этот миг возникли предо мной.
Хоть стихи ложились непривычно
в музыку иного языка,
стала сразу девушка-москвичка
мне совсем по-новому близка.
Это чувство ворвалось, как ветер
в настежь отворенное окно.
Хорошо с друзьями жить на свете,
если хочешь счастья — вот оно!
1951
ХУТА БЕРУЛАВА
(Род. в 1924 г.)
С грузинского
{179}
Ленину
Перевод А. Межирова
На камне гробовом от века
Две даты ставились всего:
Одна — рожденье человека,
Другая дата — смерть его.
Одной-единственною датой
Венчает время жизнь твою —
Год восемьсот семидесятый
Я прославляю и пою.
Грохочет горным водопадом
Десятилетий череда,
Но встать с твоим рожденьем рядом
Смерть не посмеет никогда.
В детстве
Перевод Б. Окуджавы
Меня на мельницу отправили,
пока заря,
пока роса.
Вот тени тихие отпрянули
под утренние голоса.
Запахло травами целебными,
зарозовело там, вдали.
И колокольчики серебряные
над садом песню завели.
И,
головы склоняя буйные,
вершили по полю круги
малиновые в утре буйволы
и круторогие
быки.
И все крылатое,
ветвистое,
трепещущее в этот час,
в честь солнца пело и высвистывало,
рассветной радостью сочась.
А вот и мельничная лесенка,
а вот — глухие жернова…
…Во мне самом — как будто песенка!
в цепочку вяжутся слова.
И это все перекликается
и птицей рвется в облака,
и облака переливаются,
и проливается
строка.
И что-то в ней,
впервые встреченное,
само возносится
без крыл…
…Домой я воротился к вечеру.
Зерно —
на мельнице забыл.
Поэзия
Перевод Б. Окуджавы
Что бы там ни твердили,
я себя твоим сыном считаю.
С этой гордою верой по белому свету шагаю.
С детства жил сиротой. Доброты мое детство искало.
Я к тебе потянулся — и ты моей матерью стала.
И тебе я поведал надежды свои и печали.
Ты одна не смеялась, одна не пожала плечами.
Так спасибо тебе, что не бросила, не позабыла:
В нас с тобою, наверное, поровну горечи было.
Так спасибо тебе, мне теперь не вернуться обратно.
Как измерить твою доброту? Ведь она необъятна.
Нет, неведома жалость тебе. Это боль и горенье.
Многим плакать пришлось, пред тобою упав на колени.
Выпадала у многих из рук твоя горькая чаша…
О владычица добрая,
грозная-грозная
наша!
Вот кружится твой свет над Чаргали,
над Темзой,
Невою,
Весь пронизанный мудростью,
свежестью и синевою.
Только горе поэту,
что оставлен любовью твоею.
Я любую измену снесу, но твою — не сумею.
Так гори мне, гори, чтоб с тобой до скончания века,
Чтобы правду я смог донести до души человека.
Картина на слоновой кости
Перевод Б. Окуджавы
Может, когда Руставели слагал свои песни,
эту картину задумывал мастер безвестный…
Мысли свои в это древнее-древнее следуют:
белые люди в белой беседке беседуют.
Слышно мне даже, о чем разговор их ведется:
вот человек — это тайна, но тайна и солнце.
Кто его в небе зажег дерзновенной рукою?
Век человеческий краток… С чего бы такое?
Есть ли на свете грядущее… кто его знает?
Разве не все осыпается и исчезает?
Разве не все преходяще и бренно на свете?
Есть ли бессмертье?… А может быть, нету бессмертья?
Им никуда не укрыться от этих вопросов.
Юноша грустен. Старец оперся на посох.
Белые руки третий воздел над собою:
может быть, небо ответит ему голубое?
Тянется эта беседа, течет — не кончается.
Белое дерево тихо над ними качается.
Белые листья к белым склоняются веткам.
Белые птицы белым овеяны ветром.
…Значит, тот мастер безвестный все-таки вечен,
хоть и лавровым венком никогда не увенчан.
Долго он бился, свое создавая творение,
вот и живет оно, будто бы стихотворение.
В белой беседке белые люди беседуют.
Просто беседуют белые люди. Не сетуют.
Старый мотив
Перевод С. Куняева
Эти горы и поля
золото вот-вот покроет,
землю дождичек омоет,
успокоится земля.
Ты летишь, как ястреб, в небо,
я ущельями брожу,
от страдания и гнева
отдыха не нахожу.
Сплю, туманами повитый,
кутаюсь в сырую мглу…
Замки с древнею обидой
громко плачут на ветру.
Замки, в синь вознесены,
на седое время ропщут
и как будто бы бормочут;
— Ожидай приход зимы!
Жду. А горы и поля
скоро золото укроет,
землю дождичек омоет,
успокоится земля.
Портрет друга
Перевод Е. Винокурова
Хоть минутку оставить про черный день,
Хоть мгновение пустоты!..
Только труд, только труд. Сколько всяких дел!
И укоры: — Да где же ты?
Тяжкий путь в Цицамури
{180} , что к гибели вел, —
Словно рана в груди… И как знать:
Если вдруг голова его рухнет на стол,
Он сумеет ли снова поднять?
А раскатится гром над разливами вод
И туману случится упасть,
Затаенную силу на помощь зовет
Беспокойства отцовская страсть.
И мне кажется, будто не он, а пророк,
Жезл сжимая, стоит, побледнев, —
И глубок его голос, и властен, и строг,
И в глазах его сдержанный гнев.
Если видит: форель уходит из рек,
Равнодушия крепнет лед,
Правда губится — и ни один человек
Против этого не восстает!
Хоть минутку оставить про черный день,
Хоть мгновение пустоты!..
Только труд, только труд. Сколько всяких дел!
И укоры: — Да где же ты?
НАФИ ДЖУСОЙТЫ
(Род. в 1924 г.)
Переводы Я. Козловского
С осетинского
{181}
«Человеческое сердце…»
Человеческое сердце
Словно горная вершина,
На которую восходят
И веселье и печаль.
В недра пламенной вершины
Не природа ли вложила
С мягким воском по соседству
Неподатливую сталь?
Человеческое сердце
Словно горная вершина.
И легко с вершины этой
Заглянуть в любую даль.
Тот, чье сердце, как вершина,
Кто не мальчик, а мужчина,
Пусть поделится весельем,
Отзовется на печаль!
Тайная молитва
Произносили тосты в горском доме
За то, чтоб слава предков не старела,
А долголетье сделалось уделом
И близких и далеких кунаков.
И за возлюбленных сдвигали чарки,
И за детей, что нас должны продолжить,
И чокались за будущие встречи,
А я молился тайно за столом:
«Бог милосердный, если в самом деле
Ты внемлешь только искренним молитвам
И если в самом деле было счастье
Тобой между людьми разделено,
Возьми мне предназначенную долю
Благополучья,
радости,
удачи
И передай той женщине, которой
Желаю счастья больше, чем себе.
Она меня любовью возвышала,
И грешницей прослыть не побоялась,
И шла, словно босая по колючкам,
По тем шипам, что клеветой зовутся.
А я неблагодарным был и часто
Печалил эту женщину.
О боже,
Ты ангелу, которого я мучил,
Всю долю счастья моего отдай.
Она щедра, отзывчива, душевна
И доброты не пожалеет людям.
Ты ангелу, которого я мучил,
Всю долю счастья моего отдай».
…Так я молился,
но моей молитве
Всевышний внять не захотел, как видно.
Я с той поры не обращался к богу,
Но пил за эту женщину не раз.
ЮЛИЯ ДРУНИНА
(Род. в 1924 г.)
{182}
«Я только раз видала рукопашный…»
Я только раз видала рукопашный.
Раз — наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
1943
Любовь
Опять лежишь в ночи, глаза открыв,
И старый спор сама с собой ведешь.
Ты говоришь: «Не так уж он красив!»
А сердце отвечает: «Ну и что ж!»
Все не идет к тебе проклятый сон,
Все думаешь, где истина, где ложь…
Ты говоришь: «Не так уж он умен!»
А сердце отвечает: «Ну и что ж!»
Тогда в тебе рождается испуг,
Все падает, все рушится вокруг.
И говоришь ты сердцу: «Пропадешь!»
А сердце отвечает: «Ну и что ж!»
1972
Наше-нам!
Наше — нам, юность — юным,
и мы не в обиде.
С. Орлов
Пусть певичка смешна и жеманна,
Пусть манерны у песни слова, —
В полуночном чаду ресторана
Так блаженно плывет голова.
Винограда тяжелые гроздья
Превратились в густое вино,
И теперь по артериям бродит,
Колобродит, бунтует оно.
А за маленьким столиком рядом
Трое бывших окопных солдат
Невеселым хмелеющим взглядом
На оркестр и певичку глядят.
Я, наверное, их понимаю:
Ветераны остались одни —
В том победном ликующем мае,
В том проклятом июне они…
А смешная певичка тем часом
Продолжает шептать о весне,
А парнишка в потертых техасах
Чуть не сверстницу видит во мне!
В этом спутник мой искренен вроде,
Лестно мне и немного смешно.
По артериям весело бродит,
Колобродит густое вино.
А за маленьким столиком рядом
Двое бывших окопных солдат
Немигающим пристальным взглядом
За товарищем вставшим следят.
Ну, а тот у застывшей певицы
Отодвинул молчком микрофон,
И, гранатой, в блаженные лица
Бросил песню забытую он —
О кострах на снегу, о шинели
Да о тех, кто назад не пришел…
И глаза за глазами трезвели,
И смолкал вслед за столиком стол.
Замер смех, и не хлопали пробки.
Тут оркестр очнулся, и вот
Поначалу чуть слышно и робко
Подхватил эту песню фагот,
Поддержал его голос кларнета,
Осторожно вступил контрабас…
Ах, нехитрая песенка эта,
Почему будоражишь ты нас?
Почему стали строгими парни
И никто уже больше не пьян?…
Не без горечи вспомнил ударник,
Что ведь, в сущности, он — барабан,
Тот, кто резкою дробью в атаку
Поднимает залегших бойцов.
Кто-то в зале беззвучно заплакал,
Закрывая салфеткой лицо.
И певица в ту песню вступила,
И уже не казалась смешной…
Ах, какая же все-таки сила
Скрыта в тех, кто испытан войной!
Вот мелодия, вздрогнув, погасла,
Словно чистая вспышка огня.
Знаешь, парень в модерных техасах,
Эта песенка и про меня.
Ты — грядущим, я прошлым богата,
Юность — юным, дружок, наше — нам.
Сердце тянется к этим солдатам,
К их осколкам и к их орденам.
1975
Прощание
Тихо плакали флейты, рыдали валторны,
Дирижеру, что Смертью зовется, покорны.
И хотелось вдове, чтоб они замолчали —
Тот, кого провожали, не сдался б печали.
(Он войну начинал в сорок первом, комбатом,
Он комдивом закончил ее в сорок пятом.)
Он бы крикнул, коль мог:
— Выше голову, черти!
Музыканты, не надо подыгрывать смерти!
Для чего мне рапсодии мрачные ваши?
Вы играйте, солдаты, походные марши!
Тихо плакали флейты, рыдали валторны,
Подошла очень бледная женщина в черном.
Всё дрожали, дрожали припухшие губы,
Всё рыдали, рыдали военные трубы.
И вдова на нее долгим взглядом взглянула:
Да, конечно же, эти высокие скулы!
Ах, комдив! Как хранил он поблекшее фото
Тонкошеей девчонки, связистки из роты.
Освещал ее отблеск недавнего боя
Или, может быть, свет, что зовется любовью.
Погасить этот свет не сумела усталость…
Фотография! Только она и осталась.
Та, что дни отступленья делила с комбатом,
От комдива в победном ушла сорок пятом,
Потому что сказало ей умное сердце:
Никуда он не сможет от прошлого деться —
О жене затоскует, о маленьком сыне…
С той поры не видала комдива доныне,
И встречала восходы, провожала закаты
Все одна да одна — в том война виновата…
Долго снились комдиву припухшие губы,
Снилась шейка, натертая воротом грубым,
И улыбка, и скулы высокие эти!..
Ах, комдив! Нет без горечи счастья на свете!..
А жена никогда ни о чем не спросила,
Потому что таилась в ней умная сила,
Потому что была добротою богата,
Потому что во всем лишь война виновата…
Чутко замерли флейты, застыли валторны,
И молчали, потупясь, две женщины в черном.
Только громко и больно два сердца стучали
В исступленной печали, во вдовьей печали…
1976
Перед закатом
Пиджак накинул мне на плечи —
Кивком его благодарю.
«Еще не вечер, нет, не вечер!» —
Чуть усмехаясь, говорю.
А сердце замирает снова,
Вновь плакать хочется и петь…
Гремит оркестра духового
Всегда пылающая медь.
И больше ничего не надо
Для счастья в предзакатный час,
Чем эта летняя эстрада,
Что в молодость уводит нас.
Уже скользит прозрачный месяц,
Уже ползут туманы с гор.
Хорош усатый капельмейстер,
А если проще — дирижер.
А если проще, если проще:
Прекрасен предзакатный мир!
И в небе самолета росчерк,
И в море кораблей пунктир.
И гром оркестра духового,
Его пылающая медь.
…Еще прекрасно то, что снова
Мне плакать хочется и петь.
Еще мой взгляд кого-то греет
И сердце молодо стучит.
Но вечереет, вечереет —
Ловлю последние лучи…
1976
САЛЕХЖАН ЗАЛЕНДИН
(Род. в 1924 г.)
С ногайского
{183}
Сады
Перевод Н. Капиевой
Еще покрыты тонким льдом
Кубани быстрые протоки,
А ветер весть несет о том,
Что уж весна неподалеку.
Что вот придет, пахнет теплом,
Украсит землю цветом вешним.
И шумно ладят всем звеном
Ребята новую скворечню.
Друзья мои! Здесь саду быть!
Уже поставлена ограда, —
Здесь будут птицы гнезда вить
И песни петь в просторах сада…
Чтоб гнулись ветки от плодов,
Чтоб Родина в цветах сияла,
Должны мы тысячи садов
Взрастить чудесных, небывалых!
1957
АННА КАЛАНДАДЗЕ
(Род. в 1924 г.)
С грузинского
{184}
«Тень яблони…»
Перевод Б. Ахмадулиной
Тень яблони
живет на красивом лугу.
Она дышит,
пугливо меняет рисунок.
Там же живет самшит,
влюбленный в луну,
одетый кольчугой росинок.
Цикады собираются оркестрами.
Их музыка
достойна удивленья,
и шепчутся с деревьями окрестными
около растущие деревья.
А к утру затихнет их шепот,
погаснет
и ветром задунется.
О, есть что-то,
безмерно заставляющее задуматься…
1946
«Двух миров я граница…»
Перевод Е. Николаевской
Двух миров я граница. Я двух мирозданий примета…
Отчего так страдаешь ты, сердце?
Солнце мертвых я, солнце лишившихся света,
воробьиное племя в лучах моих вздумало греться…
Набухает уснувшее семя травы корчиоты,
пар от вздохов земли проплывает…
Трав дыхание слышу, и вновь отчего-то
мое сердце страдает…
Спит под пенье ручья коростель. Уже позднее время…
Птичьим гомоном полнятся сизые дали.
С ветки розы отцветшей засохшее семя
воробьи поклевали…
Двух миров я граница. И все не найду я ответа:
отчего так страдаешь ты, сердце?
Солнце мертвых я, солнце лишившихся света,
воробьиное племя в лучах моих вздумало греться…
1946
Мравалжамиер{185} Перевод Б. Ахмадулиной
Твоим вершинам,
белым и синим,
Дарьялу и Тереку,
рекам твоим,
твоим солдатам,
статным и сильным,
а также женщинам,
верным им, —
мравалжамиер, многие лета!
Твоим потокам,
седым потокам,
твоим насупленным ледникам,
предкам твоим
и твоим потомкам,
их песням,
танцам
и смуглым рукам —
мравалжамиер, многие лета!
Твоим героям,
делам их ратным,
их вечной памяти на земле,
твоим языкам и наречьям разным,
лету,
осени,
весне
и зиме —
мравалжамиер, многие лета!
Горам и ущельям,
низу и долу,
каждому деревцу во дворе,
Волге твоей,
и Днепру,
и Дону,
Сырдарье
и Амударье
мравалжамиер, многие лета!
Твоим строителям неутомимым,
могучей
жизни
живой струе,
тебе, овеянной светом и миром,
тебе,
моей дорогой стране, —
мравалжамиер, многие лета!
1952
«Вы в сердце скал…»
Перевод Е. Николаевской
Вы в сердце скал хоть раз взглянуть могли?…
Свечою там мерцает сокровенность,
там сплавились покой и мощь земли,
в одно слились бессмертье и мгновенность…
Великая душа таится там,
полна покоя, неподвластна страхам…
Но стоит прикоснуться к небесам
скале — и вмиг рассыплется все прахом…
Вы не взглянули в сердце скал? Во тьму?
Какую тайну крутизна скрывает?…
Прислушайтесь, как здесь земля вздыхает,
ран не показывая никому.
1961
«Кто б это вынес…»
Перевод Е. Николаевской
Кто б это вынес, если б не звезды?…
В пропасти эти кто, кроме ветра,
проникнуть может?…
Снег лепестковый, падая сверху,
сумрак тревожит.
Плавно цветочный сверху слетает
снег невесомый,
мшистые глыбы окутав, смягчает
мрак невеселый…
Кто-то звезду в высоте зажигает —
и до рассвета
свечкой горит она, тает, стекает
каплями где-то…
Кто бы иначе вынес — без света —
хлад этот мглистый?…
Благословим же звездочку эту,
луч ее чистый…
1961
Окрестности храма Кинцвиси поздней осенью
Перевод Е. Николаевской
Шиповник в зарослях просвечивал,
и сумрак полон был тщеты…
Цветы ушли… Искать их нечего.
О, где же все-таки цветы?
Хребты белеют среди мрака,
в долине — все скупей лучи…
— О, не страшитесь, дети праха,
от рая у меня ключи! —
Мертво ущелье в лунном свете,
исчезли листья, словно дым…
О тайне рождества и смерти
гадает в тучах серафим,
с безрадостного неба вечером
с тоской взирая на хребты…
Шиповник в зарослях просвечивал,
и сумрак полон был тщеты.
1965
ПАРУЙР СЕВАК
(1924–1971)
С армянского
{186}
«Твоя незрелая любовь…»
Перевод Д. Самойлова
Твоя незрелая любовь и зрелое мое страданье
вдруг встретились, как на тропе
два путника. И побрели.
И разойтись не в состоянье
твоя незрелая любовь и зрелое мое страданье.
Когда, устав, решив прилечь,
мы на ночлег ложимся рядом,
над нами, чтобы нас сберечь,
стоит старинное сказанье.
А между нами, словно меч, —
твоя незрелая любовь и зрелое мое страданье.
20 марта 1959 г.
Москва
В жизни встречаемся мы случайно
Перевод О. Чухонцева
В жизни встречаемся мы случайно.
А расстаемся волей-неволей.
Хочешь — молчи,
Хочешь — кричи,
Если поможет крик.
Хочешь — рви зубами подушку,
Хочешь — уткнись в подушку
И прикуси язык.
Если ты верующий — кляни бога,
Если неверующий — поверь.
Хочешь не хочешь — одна дорога,
Жить не жить — все равно теперь!
Поздно что-нибудь изменить,
Дело это — пропащее.
Но, знаешь, это и есть — жить.
Это и есть любовь. Настоящая.
В жизни встречаемся мы случайно,
А расстаемся волей-неволей.
26 января 1962 г.
Ереван
Анализ тоски
Перевод Юнны Мориц
Я знаю так хорошо свою тоску по всему, что так далеко, —
Как знает слепой квартиру, где прежде жил…
Я не вижу, не различаю даже движений своих,
Предметы прячут свой облик, избегая сближенья со мной,
Но безупречно, и точно, и беспрепятственно, — сам,
Не спотыкаясь, я двигаюсь там,
Существую там,
Быть может, как те самозаводящиеся часы:
Даже после того, как стрелки у них оторвут,
Часы все равно идут, не показывая уже никогда
Ни число часов, ни число минут…
И, качаясь меж одиночеством и темнотой,
Я упорно хочу разложить, расщепить тоску,
Словно химик, хочу подвергнуть анализу и понять
Природу тоски и глубокую тайну тоски.
Но идея моя, и попытки мои, и старанья мои
Вызывают смешок воды в водостоке, в дали,
В такой немыслимой дали,
В такой неслыханной дали.
Какая-то пташка-мещанка с помощью жидких рулад
Пытается в песне без слов свой жалкий удел воплощать, —
В такой неслыханной дали,
В неосязаемой дали.
Слова начинают мой дух оскорблять,
Потому что мне слышатся их голоса
В неосязаемой дали,
В такой мучительной дали.
Я хожу от стены к стене, и звук шагов
Доносится издалека, возникая, словно строка,
В такой мучительной дали,
Всепоглощающей дали.
Я, конечно, совсем не слепой,
Но смотрю и не вижу вокруг
Ничего, никого,
Потому что
Зрению свойственно отторгаться от нас
И углубляться в даль до упора в грань,
От которой мы так сейчас далеки,
Так немыслимо далеки.
Нестерпимо так далеки.
И нам самим бежать за собой,
И нам самим себя не догнать,
И нам самим себя не достичь…
И не это ли разве тоска?…
4–5 февраля 1964 г.
Ереван
Секретарь бога
Перевод В. Микушевича
Ущелье словно чернильница.
Цвета слоновой кости —
Остроконечное, вечное
Перо-водопад в ущелье.
Рядом поле квадратное, словно почтовая марка,
Цветная, заштемпелеванная
Печатью соседней горы.
Если бы только слова
Вновь обернулись предметами,
Если бы действия выявились
В глаголах, а в прилагательных —
Первозданные свойства,
Как, например, сейчас,
Когда ничтожная часть
Огненно-рыжего, жидкого
Былого тепла возвращается
При посредстве летнего солнца
К древней гористой земле,
Если бы я не забыл
Язык моих зорких пращуров,
Окрестивших весь мир,
Обладавших словами,
Совсем не такими скользкими,
Как речная гладкая галька,
Остроконечными, вечными,
Первобытными, новыми,
Пронзительными, кремневыми, —
Взял бы теперь я смело
Остроконечное, вечное,
Цвета слоновой кости
Перо-водопад, которое
Обмакнул бы в горный поток;
Не чернилами — пеной
На темной зелени леса
Написал бы я, чернокнижник,
Древнее неодолимое
Заклинанье: «Приди!»
Написал бы и сжег,
Небесам воскуряя
Подобие дыма жертвенного,
Чтобы тебе запылать.
И тогда бы вновь обернулись
Водопадом — перо,
Ущельем — чернильница,
Полем — почтовая марка,
Почтовый штемпель — горой.
Только слова оставались бы
Вечными, остроконечными,
Смысл воскрешая звучанием;
А я, я стал бы поэтом:
Новым секретарем
Бога ветхозаветного.
23 марта 1964 г.
Дилижан
Жизнь поэта
Перевод О. Чухонцева
Он брат Арарату:
ступни его зноем палит,
зато голова снежной шапкой свободно парит.
Он словно ракета:
отброшенным пламенем жжет,
хотя каждым словом и помыслом рвется вперед.
Слова его тихи,
он их произносит с трудом,
а в сердце — обвалы, в душе — не стихающий гром.
Пускай он, затворник,
загадкой слывет меж людьми,
лишь только б слова его стали пословицами.
16 марта 1959 г.
Москва
Корни
Перевод Д. Самойлова
Ах, если бы познать земные недра,
и почву, и состав материка,
не так познать, как познает геолог,
планеты пробуравивший бока,
не так познать, как некий археолог, —
склоненный над обломками горшка.
Но так познать, как познаешь ладони
и пальцы работящие свои…
Ах, если бы познать земные недра,
как корни познают глубинные слои!
28 апреля 1959 г.
Москва
На языке телеграфа
Перевод В. Микушевича
Я человек, и, хотя мне другого названия нет,
В то же время я телеграф,
Где круглосуточно телеграфист один.
И не дает мне покоя весь мир.
Миллионы незнакомых людей
Вверили мне тайны свои.
Без лишних слов,
Безо всяких точек и запятых
Тайны человеческие:
Горе или радость,
Когда как.
Это при мне говорят: «Люблю!»
Это при мне вздыхают: «Прощай!»
Безмолвный свидетель,
Я знаю тоску наизусть.
И на свадьбу
Я первый приглашен.
И с днем рождения
Первым поздравил я.
И когда похороны,
Я первый на похоронах.
Победами и потерями
Делятся со мной.
Маленькой радостью и маленькой грустью
Делятся со мной.
Исповедуются
Без лишних слов,
Безо всяких точек и запятых,
Вроде косноязычных,
Вроде заик.
Я человек, и, хотя мне другого названия нет,
В то же время я телеграф.
Отсюда три главных моих особенности:
— Чужая радость — моя радость,
Чужая скорбь — моя скорбь.
— Сам я не успеваю
Все мои тайны раскрыть.
— И, наконец, поэтому…
Косноязычен я.
19 ноября 1959 г.
Чанахчи
Как високосный год
Перевод Юнны Мориц
Теперь, когда молодость канула вдаль,
Я понял секрет,
Я понял, что очень похож на февраль.
Короче: длинней становлюсь иль короче —
Люблю или нет?!
15 декабря 1959 г.
Ереван
«Я слышу розы красной крик…»
Перевод Д. Самойлова
Я слышу розы красной крик
сквозь горьковатый дым табачный
и сквозь холодный дым зимы.
И голос маленькой, невзрачной,
мне неизвестной птахи вдруг
приносит звуки одобренья
в часы передрассветной тьмы
сквозь горьковатый дым табачный
и сквозь холодный дым зимы.
И кажется, что почтальон
меня немедля осчастливит,
достав из сумки два письма.
Но писем нет.
Стоит зима.
И курится дымок табачный.
18 декабря 1959 г.
Тбилиси
Язык воды
Перевод Д. Самойлова
Язык воды — язык чужой страны,
который я не твердо разумею:
все, что услышу,
понимаю я,
а вот ответить
не умею.
19 декабря 1959 г.
Тбилиси
Изнанка
Перевод В. Микушевича
Ивы для того,
Чтобы… реке указывать путь.
Дым для того,
Чтобы… ветер знал, куда ему дуть.
Кузнечики для того,
Чтобы… ночную тьму испещрять
Нотными знаками музыки своей.
Жаворонки для того,
Чтобы… песней своей осушить
Утреннюю росу.
Поздняя осень
Лишь для того,
Чтобы… вселенную расширять,
Роняя листву.
А поэты разве не для того,
Чтобы так вот
Наизнанку
Вывернуть все?
23 июня 1965 г.
Ереван
ВЛАДИМИР СОЛОУХИН
(Род. в 1924 г.)
{187}
Дождь в степи
С жадностью всосаны
В травы и злаки
Последние капельки
Почвенной влаги.
Полдень за полднем
Проходят над степью,
А влаге тянуться
В горячие стебли.
Ветер за ветром
Туч не приносят,
А ей не добраться
До тощих колосьев.
Горячее солнце
Палит все упорней,
В горячей пыли
Задыхаются корни.
Сохнут поля,
Стонут поля,
Ливнями бредит
Сухая земля.
Я проходил
Этой выжженной степью,
Трогал руками
Бескровные стебли.
И были колючие
Листья растений
Рады моей
Кратковременной тени.
О, если б дождем
Мне пролиться на жито,
Я жизнь не считал бы
Бесцельно прожитой!
Дождем отсверкать
Благодатным и плавным —
Я гибель такую
Не счел бы бесславной!
Но стали бы плотью
И кровью моей
Тяжелые зерна
Пшеничных полей!
А ночью однажды
Сквозь сон я услышу:
Тяжелые капли
Ударили в крышу.
О нет, то не капли
Стучатся упорно,
То бьют о железо
Спелые зерна.
И мне в эту ночь
До утра будут сниться
Зерна пшеницы…
Зерна пшеницы…
1946
Солнце
Солнце разлито поровну,
Вернее, по справедливости,
Вернее, по стольку разлито,
Кто сколько способен взять:
В травинку и прутик — поменьше,
В большое дерево — больше,
В огромное дерево — много.
Спит, затаившись до времени: смотришь,
а не видать.
Голыми руками можно его потрогать,
Не боясь слепоты и ожога.
Солнце умеет работать.
Солнце умеет спать.
Но в темные зимние ночи,
Когда не только что солнца —
Звезды не найдешь во Вселенной
И кажется, нет управы
На лютый холод и мрак,
Веселое летнее солнце выскакивает из полена
И поднимает немедленно
Трепещущий огненный флаг!
Солнце разлито поровну,
Вернее, по справедливости,
Вернее, по стольку разлито,
Кто сколько способен взять.
В одного человека — поменьше,
В другого — гораздо больше,
А в некоторых — очень много.
Спит, затаившись до времени.
Можно руку смело пожать
Этим людям,
Не надевая брезентовые рукавицы,
Не ощутив на ладони ожога
(Женщины их даже целуют,
В общем-то не обжигая губ).
А они прощаются с женщинами и уходят своей
дорогой.
Но в минуты,
Когда не только что солнца —
Звезды не найдешь вокруг,
Когда людям в потемках становится страшно
и зябко,
Вдруг появляется свет.
Вдруг появляется пламя, разгорается
постепенно, но ярко.
Люди глядят, приближаются,
Сходятся, улыбаются,
Руке подавая руку,
Приветом встречая привет.
Солнце спрятано в каждом!
Надо лишь вовремя вспыхнуть,
Не боясь, что окажется мало
Вселенского в сердце огня.
Я видел, как от травинки
Загорелась соседняя ветка,
А от этой ветки — другая,
А потом принималось дерево,
А потом занималось зарево
И было светлее дня!
В тебе есть капелька солнца (допустим,
что ты травинка).
Отдай ее, вспыхни весело,
Дерево пламенем тронь.
Быть может, оно загорится (хоть ты
не увидишь этого,
Поскольку отдашь свою капельку,
Золотую свою огневинку).
Все умирает в мире.
Все на земле сгорает.
Все превращается в пепел.
Бессмертен
только огонь!
1960
Ястреб
Я вне закона, ястреб гордый,
Вверху кружу.
На ваши поднятые морды
Я вниз гляжу.
Я вне закона, ястреб сизый,
Вверху парю.
Вам, на меня глядящим снизу,
Я говорю:
— Меня поставив вне закона,
Вы не учли:
Сильнее вашего закона
Закон Земли.
Закон Земли, закон Природы,
Закон Весов.
Орлу и щуке пойте оды,
Прославьте сов!
Хвалите рысь и росомаху,
Хорей, волков…
А вы нас всех, единым махом, —
В состав врагов,
Несущих смерть, забывших жалость.
Творящих зло…
Но разве легкое досталось
Нам ремесло?
Зачем бы льву скакать в погоне,
И грызть, и бить?
Траву и листья есть спокойней,
Чем лань ловить.
Стальные когти хищной птицы
И нос крючком,
Чтоб манной кашкой мне кормиться
И молочком?
Чтобы клевать зерно с панели,
Как голубям?
Иль для иной какой-то цели,
Не ясной вам?
Так что же, бейте, где придется,
Вы нас, ловцов,
Все против вас же обернется,
В конце концов!
Для рыб, для птиц любой породы,
Для всех зверей,
Не наш закон —
Закон Природы,
Увы, мудрей!
Так говорю вам, ястреб-птица,
Вверху кружа.
И кровь растерзанной синицы
Во мне свежа.
НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ
(Род. в 1924 г.)
{188}
«Ракет зеленые огни…»
Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.
Приказ: «Вперед!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал — чужую.
Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
1944
«Солдаты мы…»
Солдаты мы.
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат.
О том, что было, — откровенно, честно…
А вот один литературный туз
Твердит, что совершенно неуместно
В стихах моих проскальзывает грусть.
Он это говорит и пальцем тычет,
И, хлопая, как друга, по плечу,
Меня он обвиняет в безразличье
К делам моей страны…
А я молчу.
Нотации и чтение морали
Я сам люблю.
Мели себе, мели…
А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели.
1945
«Зловещим заревом объятый…»
Зловещим заревом объятый,
Грохочет дымный небосвод.
Мои товарищи — солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.
Идут, подтянуты и строги,
Идут, скупые на слова.
А по обочинам дороги
Шумит листва,
Шуршит трава.
И от ромашек-тонконожек
Мы оторвать не в силах глаз.
Для нас,
Для нас они, быть может,
Цветут сейчас
В последний раз.
И вдруг (неведомо откуда
Попав сюда, зачем и как)
В грязи дорожной — просто чудо! —
Пятак.
Из желтоватого металла,
Он, как сказанья чешуя,
Горит,
И только обметало
Зеленой окисью края.
А вот — рубли в траве примятой!
А вот еще…
И вот, и вот…
Мои товарищи — солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.
Все жарче вспышки полыхают.
Все тяжелее пушки бьют…
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.
1945
«И вот в свои семнадцать лет…»
И вот в свои семнадцать лет
Я стал в солдатский строй…
У всех шинелей серый цвет,
У всех — один покрой.
У всех товарищей-солдат
И в роте и в полку —
Противогаз, да автомат,
Да фляга на боку.
Я думал, что не устою,
Что не перенесу,
Что затеряюсь я в строю,
Как дерево в лесу.
Льют бесконечные дожди,
И вся земля — в грязи,
А ты, солдат, вставай, иди,
На животе ползи.
Иди в жару, иди в пургу.
Ну что — не по плечу?…
Здесь нету слова «не могу»,
А пуще — «не хочу».
Мети, метель, мороз, морозь,
Дуй, ветер, как назло, —
Солдатам холодно поврозь,
А сообща — тепло.
И я иду, и я пою,
И пулемет несу,
И чувствую себя в строю,
Как дерево в лесу.
1946
Я был когда-то ротным запевалой…
Я был когда-то ротным запевалой,
В давным-давно прошедшие года…
Вот мы с учений топаем, бывало,
А с неба хлещет ведрами вода.
И нет конца раздрызганной дороге.
Густую глину месят сапоги.
И кажется — свинцом налиты ноги,
Отяжелели руки и мозги.
А что поделать? — Обратишься к другу,
Но он твердит одно: — Не отставай!.. —
И вдруг наш старшина на всю округу
Как гаркнет: — Эй, Старшинов, запевай!
А у меня ни голоса, ни слуха
И нет и не бывало никогда.
Но я упрямо собираюсь с духом,
Пою… А голос слаб мой, вот беда!
Но тишина за мною раскололась
От хриплых баритонов и басов.
О, как могуч и как красив мой голос,
Помноженный на сотню голосов!
И пусть еще не скоро до привала,
Но легче нам шагается в строю…
Я был когда-то ротным запевалой,
Да и теперь я изредка пою.
1957
Пою любовь
Ты и неласковой была,
Не только по головке гладила, —
И леденила ты и жгла,
И беспощадно лихорадила.
Но ты была окном в зарю,
Ты крыльям помогала вырасти.
И я тебя благодарю
За милости и за немилости.
Была беспечна и вольна.
А где ж теперь былая вольница?
Стоишь, тиха и смущена,
Как провинившаяся школьница.
Но эту робость ты откинь,
Пусть радость в душу мне запросится,
Ты распахни такую синь,
Чтоб в небо захотел я броситься.
Ты иволгой свищи в лесу
И таволгой опушки выбели…
Я все равно тебя спасу,
Не допущу твоей погибели.
Пусть вновь, ворвавшись в жизнь мою,
Ты на меня обрушишь бедствия,
Я все равно тебя пою,
Пою тебя, любовь, приветствуя.
Кто мы? Друзья или враги?…
Великодушна и безжалостна,
Ты лучше душу мне сожги,
Но не оставь меня, пожалуйста!
1975
В. Н. Костецкий. Возвращение. 1945-1947
ВЛАДИМИР ТУРКИН
(Род. в 1924 г.)
{189}
В окопе
В песке лицо. Лопатка. Я.
И никого живого кроме.
Но вижу, как на муравья
С виска упала капля крови.
Солдаты мстят. А я — солдат.
И если я до мести дожил,
Мне нужно двигаться. Я должен.
За мной убитые следят.
1944
Ввысь!
Далекий век —
Дикарский век.
Встал на колено человек.
Прижался к жесткому стволу
И выгнул сук.
И, сделав лук,
Метнул стрелу
На ближний луг.
Двадцатый век —
Высокий век.
С колен поднялся человек
В рост,
Как скала.
И выгнул небо в полукруг.
И из его тяжелых рук
Ушла стрела.
И стали явью миражи.
И черной — синева.
И горизонт еще дрожит,
Как тетива…
1962
«Есть стихи — как строение…»
Есть стихи — как строение,
Все в них мудро, все верно.
Есть стихи — настроение —
Поплавковая нервность.
Хоть и видно, что мелко,
А не бросишь на ветер,
Как секундную стрелку
С циферблата столетий.
Мне внушают, что гении
Мыслью быстрой, как выстрелы,
Из-под всплеска мгновений
Извлекают нам истины.
Старики ли, мальчишки ли —
Все в том лове участвуют.
Но в секундах не слишком ли
Повторяемость частая?…
Убегают, текут
В каждом выдохе-вдохе,
Колыбелью ж секунд
Остаются эпохи.
Не пристало поэту
В космическом возрасте
Измерять этот мир
Поплавковой нервозностью.
Как секунда без века,
Как мгновенье без вечности,
Так судьба человека
Без судьбы человечества.
1963
«Надо сразу старым бы родиться…»
Надо сразу старым бы родиться,
В старую бы женщину влюбиться,
Кольца обручальные надеть
И от года к году молодеть.
Надо сразу старым бы родиться,
Чтобы ничему не удивиться.
Удивляться ж,
По ступенькам дней
Опускаясь к юности своей.
Надо сразу старым бы родиться,
Лишь потом ребенком обратиться —
Маму беззащитно обнимать,
В мире ничего не понимать.
Надо сразу старым бы родиться,
Чтобы знать, как жизнью насладиться,
Сверху вниз познав все наслажденья,
Умереть…
В предчувствии рожденья.
1966
«Мне все больней с тобой встречаться…»
Мне все больней с тобой встречаться,
Нести в себе запас тепла,
Входить в твой дом, в котором счастье
Ты не со мною обрела.
Мне все больней с тобой встречаться,
Уж не к тебе спешить, а к вам.
И только взглядом прикасаться —
Который год — к
С годами мне все чаще грустно.
Мертвеют чувства и слова.
Но боль — безвозрастное чувство.
Боль и при старости жива.
Мне все больней с тобой встречаться.
Ведь я уже осознаю,
Как ты легко и непричастно
Глядишь на эту боль мою.
И все ж спасибо, что с рожденья —
Ни в трезвый час, ни в час хмельной —
Ты не искала наслажденья
Вот в этой пытке надо мной.
1972
«Мне чувствовать не часто выпадало…»
Мне чувствовать не часто выпадало,
Как льется время, звездами звеня…
Спасибо за прекрасный ваш подарок —
За этот редкий вечер для меня.
Нет, сердце не стучало учащенно.
Но на душу мне с неба, наяву,
Такая снизошла раскрепощенность,
Как будто я по озеру плыву.
С далеких лет, как помню себя взрослым,
По гребням волн, которым нет числа,
Я плыл и плыл, не опуская весла…
А в этот час вода меня несла.
Природа надо мной держала шефство,
Все было совершенным в этот миг…
… И сам я был частицей совершенства,
Которое нечаянно постиг.
1973
НАБИ ХАЗРИ
(Род. в 1924 г.)
С азербайджанского
{190}
Радуга
Перевод В. Луговского
Опять над нами радуги дуга
соединила мира берега,
и я гляжу на радугу влюбленно:
мне кажется, что этот яркий мост
соединил все страны небосклона,
встав над безмерным миром в полный рост.
И сердце мне неслышно шепчет: «Что ж,
когда бы был ты на нее похож,
на радугу сверкающую эту,
с любовью жадной, вешней чистоты,
в свои объятья заключил бы ты
весь край родимый, всю Страну Советов!»
1945
Горы
Перевод Е. Евтушенко
Какие маленькие
горы эти издали!
На них
нам крохотными кажутся сады.
А люди — точками.
Мы совершенно искренне
вдали не чувствуем
их страшной высоты.
Вот вроде руку протяну —
и их достану!
Но стоит руку протянуть,
и — пустота!
И ты, к недоуменью и досаде,
поймешь, что ты не понял ни черта.
И ты поймешь
и с трепетом и робостью
душою всей растерянной своей,
что издали не видел ты
их пропасти,
обрывы их,
кустарники
и змей.
Какие маленькие
горы эти издали!
Но он обманчив —
внешний вид земли!
Нет, тот грешит,
ей-богу,
против истины,
кто близким то считает,
что вдали…
1956
«Легли меж нами длинные дороги…»
Перевод Е. Винокурова и В. Соколова
Легли меж нами длинные дороги.
Пусть ливни лета и снега зимы,
разливы рек и горные отроги,
я знаю, верю — будем вместе мы.
Когда тревоги будят до рассвета,
я вспомню о тебе — и мне светло,
мне кажется, тропинки всей планеты
ведут в твое далекое село.
Там зной, а здесь — метели
и сугробы и неба от земли не отличить.
От сердца к сердцу пролегают тропы,
и расстояньем нас не разлучить!
1956
Облака
Перевод Е. Евтушенко
Далеко
мой дом и река.
И откуда-то издалека
вереницей плывут облака.
Вы куда,
облака, облака?
Вы плывите
к зеленым эйлагам
{191} родным,
вы прижмитесь
к горам любимым моим,
поцелуйте вы их за меня,
облака,
передайте сыновний привет,
облака…
Пусть не знаю я вашего языка,
моя грусть,
словно вы,
чиста, велика.
Так спешите скорее туда, облака!
Облака…
Облака…
Облака…
1957
В ожидании стиха
Перевод Н. Гребнева
Не знаю, был я прав или неправ,
когда в смятенье думал каждый день
я, что, главного еще не написав,
последнее пишу стихотворенье.
Порой не спал я ночи напролет,
стараясь в строки превратить волненье…
Поэт обычно пишет, чем живет,
и тем живет, что пишет в те мгновенья.
Кончалась ночь, и с наступленьем дня
не мог я вновь осилить убежденья,
что никогда не осенит меня
то счастье, что зовется — вдохновенье!
Наверно, так сады во все года
в своем плодоношении осеннем
боятся, что, быть может, никогда
не пережить им вновь поры цветенья.
Но снова ночью я не засыпал,
и вновь не мог сдержать сердцебиенья,
и вновь стихи последние писал,
как первое свое стихотворенье.
1959
Вселенная моя
Перевод Н. Гребнева
Поэзия — вселенная моя.
Я знаю: у тебя свои орбиты,
свои обетованные края
и звезды, что доселе не открыты.
Есть у тебя пространства и слои,
туманности и яркие светила,
искусственные спутники свои
и зрелые естественные силы.
Одни созвездья блещут в полный рост,
Другие слабо светятся в тумане,
и множество давно погасших звезд
еще осколки мечут в мирозданье.
Я не мечтал о славе на века,
мечтал, чтоб на орбиту вышло слово,
хоть песня — хоть одна моя строка —
творенье притяжения земного.
Но сколько погибало строк моих,
исполненных значения и веры,
как часто в пепел превращался стих,
сгорая в слое плотной атмосферы…
Поэзия, прими в свой мир бескрайний,
согрей меня сиянием своим…
Нам небо трудно открывает тайны,
твой мир еще труднее постижим.
Но этот мир от века обитаем,
и я хочу быть каплей света в нем…
По звездной книге мы стихи читаем,
в земных стихах о звездах узнаем.
И пусть живет под светом всех созвездий,
на всех межзвездных и земных путях
поэзия вселенной — в наших песнях,
вселенная поэзии — в сердцах!
1961
Ты и я
Перевод А. Передреева
Если вершиной ты станешь,
Облаком стану я.
Грустишь ли сейчас,
Мечтаешь,
Я — тишина твоя.
Станешь цветущим полем —
Дождиком
Я прольюсь.
Станешь бескрайним морем —
В берег
Я превращусь.
Я всюду с тобою вместе.
Жилище наше — земля.
Если ты станешь песней,
Слова в этой песне — я!
И если время, бушуя,
Сотрет наших дней следы…
Как солнце, тебя разбужу я, —
Как утро, проснешься ты.
Если бы я забыл…
Перевод А. Передреева
Ты сказала: когда пойдешь
По земле,
Вспоминай меня.
Шел в горах я
И в темном поле…
И в пути моем не было дня,
Чтоб забыл хоть на миг я тебя…
Ну, а если забыл бы — вспомнил.
Таинственный поезд
Перевод А. Передреева
Весною
С любовью встречаются люди…
Но поезд таинственный
Тысячи лет
Все мчится,
Все мчится
От «любит» к «не любит»,
От станции «да»
И до станции «нет».
ОТАР ЧЕЛИДЗЕ
(Род. в 1924 г.)
С грузинского
{192}
Однодневный памятник
Перевод Е. Винокурова
Пускай из снега водрузят
мне памятник. Что годы? —
На день! Капризы пусть грозят
изменчивой погоды!
Пусть, восходя, светило дня
меня повергнет в трепет.
И сын мой первым пусть в меня,
смеясь, снежком залепит.
Пусть кожа на щеках смугла,
я буду бел, как вата,
мне очагов твоих зола
была мила когда-то.
Я легкий памятник хочу,
Хоть век мой трудным прожит!
Землетрясенье! — лишь к плечу
дитя ладонь приложит.
А вместо глаз два уголька.
Я их от света сужу.
Стоять я буду день, пока
я не растаю
в лужу.
Лишь день… Я уроню слезу
на бороду седую.
А после под ноги сползу
людей,
на мостовую.
Волос оторванную прядь
развеет вихрь по свету…
Зимою, через год, опять
явлюсь на площадь эту.
А город через много лет
меня коль позабудет,
в Тбилиси каждый снежный дед
мне памятником будет.
Баллада о Бештау
Перевод Е. Евтушенко
Холодной ночью у Бештау где-то,
Под шум ветвей и ржание коней,
Знакомые мелькнули эполеты
И раздалось тревожное:
— Скорей!
Вставай, вставай! —
Он звал меня куда-то. —
Сейчас царит ночная мгла кругом,
Ты будешь братом,
будешь секундантом,
Вот пистолеты,
нам пора, идем.
Как, ты не хочешь?
Медлить невозможно… —
И он вскочил на черного коня
И ускакал, решительный,
тревожный,
На целый век опередив меня…
Но стало по ночам теперь казаться,
Что слышен звон стремительных копыт,
Что слышно ржанье,
что в седле казацком,
Бессонный,
бледный,
Лермонтов сидит.
Стучит напрасно в разные ворота,
В раздумье поворачивает вспять,
И вновь летит,
и вновь зовет кого-то
Стать ему братом,
секундантом стать…
За окном
Перевод Б. Окуджавы
Наступил новый год.
Подоспело мгновенье.
Я опять, как всегда, тебе письма пишу.
О, мои вдохновенье и благоговенье,
удивленье, что льются по карандашу!
Но опять, как всегда, околдован поземкою,
я отправить тех писем тебе не могу.
Рву бумагу и комкаю, комкаю, комкаю,
словно снег, как школяр молодой на бегу.
Эти снежные комья в тебя я бросаю.
Ты теперь далеко, и с тобой тишина.
Я бросаю, как память о прошлом спасаю,
я хочу, чтоб в тебе взбунтовалась она.
Через версты и дни, через боль и желанье
я хочу, чтоб она проникала скорей,
чтобы я, словно снежное изваянье,
вдруг растаял под теплой слезою твоей.
А иначе? Что стоят иначе удачи?
Приходи и спасай. На земле — снегопад.
А иначе пойду я, как странник незрячий,
по январской земле за тобой наугад.
Новый год.
За окном белых хлопьев паренье,
я опять, как всегда, тебе письма пишу…
О, мои вдохновенье и благоговенье,
что бесшумно стекают по карандашу!
Уличные часы
Перевод В. Лугового
Утра первые отголоски.
Часом кажется каждый миг.
Под часами на перекрестке
Я стою, не нуждаясь в них.
Неподвижный, как столб в тумане, —
О, как страшно я тороплюсь!
Дверь аптеки.
Рецепт в кармане.
Отбивает секунды пульс.
Утро в улицу входит хмуро.
Выраженье его лица
Горько.
Горько, как та микстура
Для отца, моего отца.
Дверь аптеки откроют в восемь.
Без пяти.
Без двух.
Без одной…
В моих легких
клокочет осень,
задыхаясь,
я мчусь домой!
Переход,
поворот,
ограда,
перекресток, часы —
и вдруг —
лик часов:
«Не спеши. Не надо.
Ни к чему торопиться, друг…»
БАХТИЯР ВАГАБЗАДЕ
(Род. в 1925 г.)
Переводы В. Лугового
С азербайджанского
{193}
«Радуга жизни моей…»
Радуга жизни моей, семь прекрасных цветов,
шелест ветвей, ароматы прекрасных цветов,
солнечный полдень, прозрачное пенье воды,
боль моя, горе, спасенье от лютой беды,
смысл моей жизни, вершина земной красоты,
мудрость моя и восторг мой, ответь мне, кто ты?
Ты и услада, и горечь, и благо во вред;
губ, воспаленных любовью, горячечный бред,
и отрезвленье, и полная чаша вина,
и надо мной распростершая крылья вина,
ангел мой, ад мой, отчаянья, страхи, мечты,
жизнь моя, вихрь побережий, ответь мне, кто ты?
Враг мой и друг мой, соломинка, острый кинжал,
словно, повиснув над бездной, я руки разжал
и не пойму, то ли падаю, то ли парю,
то ли беру беззастенчиво, то ли дарю,
то ль облака, то ль могил надо мною кресты —
вечный твой пленник, царица, — ответь мне, кто ты?
Свет моих слов, размышлений запутанных тьма,
чувства полет и тяжелых страстей кутерьма,
освободитель мой или недремлющий страж,
щедрый оазис в пустыне, коварный мираж,
женщина, дух ли, явившийся из пустоты,
чтобы навеки исчезнуть? Ответь мне, кто ты?
1961
Славословие ночи
Слава ночи!
Ночное небо сегодня подобно карте
ночного неба.
Оно так ясно,
что невольно приходит в голову мысль
о фиолетовом бархате
с множеством аккуратных проколов,
подсвеченном сильной лампой, —
на удивленье
всем посетителям Планетария,
всем земным полуночникам.
До чего — же хороша ночь!
Ее прелесть одушевила
даже мертвые камни:
ущелье дышит,
полон жизни профиль скалы
на небесном фоне —
горы не желают спать!
Ночное небо
смотрит — не наглядится
на произведение собственного искусства —
ночь на земле…
Сколько глаз у ночного неба?
Множество!
И во все глаза
оно глядит в тишину.
А луна,
самый зоркий глаз,
наблюдает влюбленных…
Слава ночи!
Сегодня спать — преступленье!
Ночь наполнила чашу
тверди небесной —
наполним чаши и мы!
Выпьем
за здравие ночи!
Пусть к звонам звезд
примешается
наших бокалов звон.
Как можно спать, в самом деле,
в ночь такую, как эта,
в ночь, когда даже камни
глаз не в силах сомкнуть?
Нет, мы не станем спать!
Наша жизнь не так уж длинна,
чтоб мы спали
в ночь такую, как эта,
меж тем как большую часть нашей жизни
мы проводим во сне.
А после всего,
после жизни —
о, нам предстоит тогда славно выспаться
в течение тысячелетий,
в вечности…
Нет, мы не можем,
мы не хотим позволить себе
ночь такую, как эта,
проспать!
Сердце этого нам не простит!
Право, это бы означало —
лучшее в жизни
проспать!
Это означало бы —
проспать жизнь!
Давайте же слушаться сердца —
полнее бокалы
вином, золотым, как звезды,
и черным, как ночь сама, —
полнее бокалы,
выше —
и — слава ночи!
1967
Горный поток
Слышу твой шум в отдаленье,
горный поток.
Ты в своем вечном стремленье
не одинок.
К морю свой путь через сушу
ты проложил.
Ты в эту полночь мне душу
разбередил…
Шум твой ущельями гонит
эхо в горах.
Днем умирает твой голос
в ста голосах.
Из поднебесья ты послан,
миру долин.
Жажду селенья и поля,
ты утолил.
Может, вернуться ты хочешь
в край ледников,
где так привольно грохочешь
средь облаков?
Где очертания строги
горных вершин?
Нету обратно дороги,
к морю спеши!
Кровь моя ходит кругами,
бьется в виске.
Сердцем я под облаками
в странной тоске:
точно поток по каменьям —
в небытие
время несет поколенья,
время мое…
Что же, и малая капля
в крохотный срок
многое может!
Не так ли,
горный поток?
1967
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН
(Род. в 1925 г.)
{194}
Ранний час
Туманы тают. Сырость легкая,
И, ежась, вздрагивает сад.
Росинки падают неловкие.
Заборы влажные блестят.
Еще лежит на травах изморось,
Не шелохнется речки гладь.
И вся природа словно выспалась
И только ленится вставать.
1954
Я люблю тебя, жизнь
М. Бернесу
Я люблю тебя, Жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, Жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, Жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.
Мне немало дано:
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.
В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя!
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете.
И вершина любви —
Это чудо великое — дети!
Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность, вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Все опять повторится сначала.
Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, Жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!
1956
«Я был суров, я все сгущал…»
Я был суров, я все сгущал
И в дни поры своей весенней
Чужих ошибок не прощал
И не терпел сторонних мнений.
Как раздражался я порой,
Как в нелюбви не знал покоя!
Сказать по совести, со мной
Еще случается такое.
Но, сохраняя с прошлым связь,
Теперь живу я много проще:
К другим терпимей становясь,
К себе — взыскательней и жестче.
1956
«Под взглядом многих скорбных глаз…»
Под взглядом многих скорбных глаз,
Усталый, ветром опаленный,
Я шел как будто напоказ
По деревушке отдаленной.
Я на плечах своих волок
Противогаз, винтовку, скатку.
При каждом шаге котелок
Надсадно бился о лопатку.
Я шел у мира на виду —
Мир ждал в молчанье напряженном:
Куда сверну? К кому зайду?
Что сообщу солдатским женам?
Пусть на рассвете я продрог,
Ночуя где-нибудь в кювете,
Что из того! Я был пророк,
Который может все на свете.
Я знал доподлинно почти,
Кто цел еще, а с кем иное.
И незнакомые в пути
Уже здоровались со мною.
А возле крайнего плетня,
Где полевых дорог начал Од
Там тоже, глядя на меня,
В тревоге женщина стояла.
К ней обратился на ходу
По-деловому, торопливо:
— Так на Егоркино пройду?
— Пройдете, — вздрогнула. — Счастливо.
Поспешно поблагодарил,
Пустился — сроки торопили…
— Ну что? Ну что он говорил? —
Ее сейчас же обступили.
1956
«Трус притворился храбрым на войне…»
Трус притворился храбрым на войне,
Поскольку трусам спуску не давали.
Он, бледный, в бой катился на броне,
Он вяло балагурил на привале.
Его всего крутило и трясло,
Когда мы попадали под бомбежку.
Но страх скрывал он тщательно и зло
И своего добился понемножку.
И так вошел он в роль, что наконец
Стал храбрецом, почти уже природным.
Неплохо бы, чтоб, скажем, и подлец
Навечно притворился благородным.
Скрывая подлость, день бы ото дня
Такое же выказывал упорство.
Во всем другом естественность ценя,
Приветствую подобное притворство!
1961
«Гудок трикратно ухает вдали…»
Гудок трикратно ухает вдали,
Отрывистый, чудно касаясь слуха.
Чем нас влекут речные корабли,
В сырой ночи тревожа сердце глухо?
Что нам река, ползущая в полях.
Считающая сонно повороты, —
Когда на океанских кораблях
Мы познавали грозные широты!
Но почему же в долгой тишине
С глядящей в окна позднею звездою
Так сладко мне и так тревожно мне
При этом гулком звуке над водою?
Чем нас влекут речные корабли?
…Вот снова мы их голос услыхали.
Вот как бы посреди самой земли
Они плывут в назначенные дали.
Плывут, степенно слушаясь руля,
А вдоль бортов — ночной воды старанье,
А в стороне — пустынные поля,
Деревьев молчаливые собранья.
Что нас к такой обычности влечет?
Быть может, время, что проходит мимо?
Иль, как в любви, здесь свой особый счет
И это вообще необъяснимо?
1963
«Я спал на свежем клевере, в телеге…»
Я спал на свежем клевере, в телеге,
И ночью вдруг почувствовал во сне,
Как будто я стремлюсь куда-то в беге,
Но тяжесть наполняет ноги мне.
Я, пробудившись резко и тревожно,
Увидел рядом крупного коня,
Который подошел и осторожно
Выдергивал траву из-под меня.
Над ним стояло звездное пыланье,
Цветущие небесные сады —
Так близко, что, наверно, при желанье
Я мог бы дотянуться до звезды.
Там шевелились яркие спирали.
Там совершали спутники витки.
А с добрых мягких губ его свисали
Растрепанные мелкие цветки.
1964
«В поэзии — пора эстрады…»
В поэзии — пора эстрады,
Ее ликующий парад.
Вы, может, этому и рады,
Я вовсе этому не рад.
Мне этот жанр неинтересен,
Он словно мальчик для услуг.
Как тексты пишутся для песен,
Так тексты есть для чтенья вслух.
Поэт для вящего эффекта
Молчит с минуту (зал притих),
И вроде беглого конспекта
Звучит эстрадный рыхлый стих.
Здесь незначительная доза
Самой поэзии нужна.
Но важен голос, жест и поза
Определенная важна.
1964
«А утвержденья эти лживы…»
А утвержденья эти лживы,
Что вы исчезли в мире тьмы.
Вас с нами нет. Но в нас вы живы.
Пока на свете живы мы.
Девчонки те, что вас любили
И вас оплакали, любя,
Они с годами вас забыли.
Но мы вас помним, как себя.
Дрожа печальными огнями
В краю, где рощи и холмы,
Совсем умрете только с нами, —
Но ведь тогда умрем и мы.
1965
К портрету
Той давней, той немыслимой весной,
В любви мужской почти не виноватая,
У низенькой земляночки штабной
Стоишь ты, фронтовая, франтоватая.
Теперь смотрю я чуть со стороны:
Твой тихий взгляд, и в нем оттенок вызова,
А ноги неестественно стройны,
Как в удлиненном кадре телевизора.
Кудряшки — их попробуй накрути! —
Торчат из-под пилотки в напряжении.
И две твои медали на груди
Почти в горизонтальном положении.
В тот промелькнувший миг над фронтом тишь.
Лишь где-то слабый писк походной рации.
И перед объективом ты стоишь,
Решительно исполненная грации.
1966
«Мы помним факты и событья…»
Мы помним факты и событья,
С чем в жизни сталкивало нас,
В них есть и поздние открытья,
Что нам являются подчас.
Но вдруг мы видим день весенний,
Мы слышим смех, мы ловим взгляд…
Воспоминанья ощущений!
Они нам душу бередят.
И заставляют сердце падать
Или взмывать под небеса,
И сохраняет их не память,
А руки, губы и глаза.
1966
«Эти крыши на закате…»
Эти крыши на закате,
Эти окна, как в огне,
Самой резкою печатью
Отпечатаны во мне.
Этот город под горою,
Вечереющий вдали,
Словно тонкою иглою
Прямо в кровь мою ввели.
1968
«Не ожидала никак…»
Не ожидала никак,
Сон уже чувствуя в теле,
Стоя с подушкой в руках
Возле раскрытой постели.
Сильно светила луна.
Ярко белела рубаха.
Он постучал — и она
Похорошела от страха.
1969
«На том же месте много раз…»
На том же месте много раз
Лопата землю здесь долбила.
Могила каждая сейчас, —
По сути, братская могила.
И крест буквально на кресте,
А коль учесть, что путь наш краток,
Обидно — жили в тесноте,
И вновь теснись внутри оградок.
Давно ль успели поместить,
Тревожат их на том постое.
И нам, живым, охота жить
Не вообще, а на просторе.
А если уж лежать во тьме,
За гранью выданного срока,
То под сосною, на холме,
Откуда все видать далёко.
1969
Спичка
Вспыхнувшая спичка,
Венчик золотой.
Маленькая стычка
Света с темнотой.
Краткое мгновенье.
Но явилось там
Неповиновенье
Вьюгам и дождям.
Ночи все бездонней,
Но опять, смотри, —
Домик из ладоней,
С огоньком внутри.
Где на перекрестках
Мрак со всех сторон, —
Сруб из пальцев жестких
Слабо озарен.
1972
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ
(Род. в 1925 г.)
{195}
«Мы из столбов и толстых перекладин…»
Мы из столбов и толстых перекладин
За складом оборудовали зал.
Там Гамлета играл ефрейтор Дядин
И в муках руки кверху простирал.
А в жизни, помню, отзывался ротный
О нем как о сознательном бойце!
Он был степенный, краснощекий, плотный,
Со множеством веснушек на лице.
Бывало, выйдет, головой поникнет,
Как надо, руки скорбно сложит, но
Лишь только «быть или не быть?» воскликнет,
Всем почему-то делалось смешно.
Я Гамлетов на сцене видел многих,
Из тьмы кулис входивших в светлый круг, —
Печальных, громогласных, тонконогих…
Промолвят слово — все притихнет вдруг.
Сердца замрут, и задрожат бинокли…
У тех — и страсть, и сила, и игра!
Но с нашим вместе мерзли мы и мокли
И запросто сидели у костра.
1947
«В полях за Вислой сонной…»
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
А где-то в людном мире,
Который год подряд,
Одни в пустой квартире,
Их матери не спят.
Свет лампы воспаленной
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.
Друзьям не встать. В округе
Без них идет кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.
Пылает свод бездонный,
И ночь шумит листвой
Над тихой Малой Бронной,
Над тихой Моховой.
1953
Синева
Меня в Полесье занесло.
За реками и за лесами
Есть белорусское село —
Все с ясно-синими глазами.
С ведром, босую, у реки
Девчонку встретите на склоне.
Как голубые угольки,
Глаза ожгут из-под ладони.
В шинельке, —
видно, был солдат, —
Мужчина возится в овине.
Окликни — он поднимет взгляд,
Исполненный глубокой сини.
Бредет старуха через льны
С грибной корзинкой и с клюкою.
И очи древние полны
Голубоватого покоя.
Пять у забора молодух.
Судачат, ахают, вздыхают…
Глаза — захватывает дух! —
Так синевой и полыхают.
Девчата
Скромен их наряд.
Застенчивые чаровницы,
Зардевшись, синеву дарят,
Как драгоценность, сквозь ресницы.
1955
Моя любимая стирала
Моя любимая стирала.
Ходили плечи у нее.
Худые руки простирала,
Сырое вешая белье.
Искала крохотный обмылок,
А он был у нее в руках.
Как жалок был ее затылок
В смешных и нежных завитках!
Моя любимая стирала.
Чтоб пеной лба не замарать,
Неловко, локтем, убирала
На лоб спустившуюся прядь.
То плечи опустив,
родная,
Смотрела в забытьи в окно,
То пела тоненько, не зная,
Что я слежу за ней давно.
Заката древние красоты
Стояли в глубине окна.
От мыла, щелока и соды
В досаде щурилась она.
Прекрасней нет на целом свете, —
Все города пройди подряд! —
Чем руки худенькие эти,
Чем грустный, грустный этот взгляд.
1957
«Кто только мне советов не давал!..»
Кто только мне советов не давал!
Мне много в жизни выдалось учебы.
А я все только головой кивал:
— Да, да, конечно! Ясно. Ну, еще бы!..
Поднявши перст,
кто только не держал
Меня за лацкан!
— Да, ага, понятно!
Спасибо! Ладно! —
я не возражал:
Ну что мне стоит, а ведь им приятно…
— Да, да, согласен! Ой ли! Ей-же-ей!
Пожалуй! Как вы правы, что ж, не скрою…
Чем больше слушал я учителей,
Тем больше я хотел быть сам собою.
1960
«Художник, воспитай ученика…»
Ал. Михайлову
Художник, воспитай ученика,
Сил не жалей его ученья ради,
Пусть вслед твоей ведет его рука
Каракули по клеточкам тетради,
Пусть на тебя он взглянет свысока,
Себя на миг считая за провидца.
Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.
1961
Поэма о движении
Полы трет полотер.
Бредет он полосой.
Так трогают —
хитер! —
Ручей ногой босой.
Он тропку все торит.
Его неверен шаг.
Но вот простор открыт —
Он вышел на большак!
Полы трет полотер.
А ну смелее. Жарь!
И он вошел в задор,
Как на косьбе косарь.
Вперед он сделал крен.
Рубахи нет — штаны.
А ноги до колен
Его обнажены.
Полы трет полотер.
Он с плешью. Он костист.
Он руки вдаль простер,
Кружа, как фигурист.
Веселую игру
Он воспринял всерьез.
Чечетку бьет в углу,
Как «Яблочко» матрос.
Полы трет полотер.
Как будто на пари,
Напористый мотор
Работает внутри.
Струится пот со щек,
А пляска все лютей.
Он маятник. Волчок.
Сплошной костер страстей.
Полы трет полотер.
Паркет да будет чист!
Он мчит, —
пустынен взор! —
Как на раденье хлыст.
Ему не до красот.
Он поглощен трудом.
Ой-ёй, он разнесет,
Того гляди, весь дом!
Полы трет полотер.
Его летит рука.
Он как тореадор,
Пронзающий быка!
Он мчит. Он там. Он тут.
Устал. Как поднял воз!
Он начертал этюд
Из жестов и из поз.
Полы трет полотер.
В нем порох. В нем запал.
Вот он нашел упор.
От плоти валит пар.
Расплавил пыл его.
А ритм его слепил.
Ухваток торжество.
Телодвиженья пир.
Полы трет полотер.
А позы, как хорал!
Мимический актер
Трагедию сыграл.
Он мчит, неумолим,
От окон до дверей…
Движенье правит им.
Оно его мудрей.
1961
«Крестились готы…»
Крестились готы…
В водоем до плеч
Они входили с видом обреченным.
Но над собой они держали меч,
Чтобы кулак остался некрещеным.
Быть должен и у кротости предел,
Чтоб заповедь смиренья ни гласила…
И я кулак бы сохранить хотел.
Я буду добр. Но в нем пусть будет сила.
1961
«Боюсь гостиниц. Ужасом объят…»
Боюсь гостиниц. Ужасом объят
При мысли, что когда-нибудь мне снова
Втянуть в себя придется тонкий яд
Ковров линялых номера пустого.
Боюсь гостиниц. Это неспроста.
Здесь холодом от окон веет люто.
Здесь лампа. Здесь гардины. Здесь тахта.
Иллюзия семейного уюта.
Боюсь гостиниц. Может, потому,
Что чувствую, что в номере когда-то
Остаться мне случится одному.
Навеки. В самом деле. Без возврата.
1961
Когда не раскрывается парашют
Коль дергаешь ты за кольцо запасное
И не раскрывается парашют,
А там, под тобою, безбрежье лесное —
И ясно уже, что тебя не спасут,
И не за что больше уже зацепиться,
И нечего встретить уже по пути, —
Раскинь свои руки покойно, как птица,
И, обхвативши просторы, лети.
И некуда пятиться, некогда спятить,
И выход один только, самый простой:
Стать в жизни впервые спокойным и падать
В обнимку с всемирною пустотой.
1962
Она
Присядет есть, кусочек половиня,
Прикрикнет: «Ешь!» Я сдался. Произвол!
Она гремит кастрюлями, богиня.
Читает книжку. Подметает пол.
Бредет босая, в мой пиджак одета.
Она поет на кухне поутру.
Любовь? Да нет! Откуда?! Вряд ли это!
А просто так:
уйдет — и я умру.
1965
Не плачь
Ты не плачь, не плачь, не плачь. Не надо.
Это только музыка! Не плачь.
Это всего-навсего соната.
Плачут же от бед, от неудач.
Сядем на скамейку.
Синевато
Небо у ботинок под ледком.
Это всего-навсего соната —
Черный рупор в парке городском.
Каплет с крыши дровяного склада.
Развезло. Гуляет черный грач…
Это всего-навсего соната!
Я прошу: не плачь, не плачь, не плачь.
1965
Пророк
И вот я возникаю у порога…
Меня здесь не считают за пророка!
Я здесь как все. Хоть на меня втроем
Во все глаза глядят они, однако
Высокого провидческого знака
Не могут разглядеть на лбу моем.
Они так беспощадны к преступленью!
Здесь кто-то, помню, мучился мигренью?
— Достал таблетки?! Выкупил заказ?
— Да разве просьба та осталась в силе?…
— Да мы тебя батон купить просили!
— Отправил письма? Заплатил за газ?…
И я молчу. Что отвечать — не знаю.
То, что посеял, то и пожинаю.
А борщ стоит. Дымит еще, манящ!..
Но я прощен. Я отдаюсь веселью!
Ведь где-то там оставил я за дверью
Котомку, посох и багряный плащ.
1966
Отчий дом
И сколько в жизни ни ворочай
Дорожной глины,
вопреки
Всему ты в дом вернешься отчий
И в угол встанут сапоги…
И пусть — хоть лет под девяносто —
Старик прошамкает: «Сынок!»
Но ты принес свое сыновство
И положил его у ног.
И радость новая, как завязь…
Хоть ты от хижины отвык, —
Ты, вырвавшийся от красавиц
И от стаканов круговых.
…Пусть в поле где-то ночь пустая.
Пусть крик и песня вдалеке.
Ты все забудешь,
припадая
К покрытой венами руке.
1968
К. Ф. Юон. Утро индустриальной Москвы. 1949
СООРОНБАЙ ДЖУСУЕВ
(Род. в 1925 г.)
С киргизского
{196}
Я — комуз
Перевод Ю. Гордиенко
Я — комуз
{197} , перешагнувший перевалы и века.
Горный ветер и в порогах громыхавшая река
Дали мне свои напевы, дали наигрыши мне.
Я поведаю их людям в зимней юрте, при огне.
Много в прошлом слез и горя я хлебнул в родных горах.
Чаще пел я в дни кочевий, чем на праздничных пирах.
Под своей шершавой декой звон мечей и стук подков,
Имена батыров славных я донес из тьмы веков,
Храп коней и топот битвы, оперенный шелест стрел.
Только, жизнью умудренный, молодел, а не старел!
Из урючины душистой я оструган и долблен.
Я прошел, не унывая, сквозь рогатины времен.
Я узнал иные песни, к новым пастбищам спеша,
Зазвучала по-иному деревянная душа.
Только вслушайся! Немало струны в памяти хранят
Снежных фуг, симфоний горных, золотых степных сонат»
Голос мой звучит со сцены, а не только у костра.
Подпевает мне порою скрипка — чуткая сестра.
Переняв мои мотивы, вторят песням тут и там
Сотоварищи в искусстве — арфа, домра и дутар.
Я — комуз, не все открыты клады те, что я таю.
Ветер будущей эпохи тронул струны — я пою.
Нет, не руки комузиста прикасаются к струне —
Ветер странствий, ветер звездный в эти дни гудит во мне.
Подождите! Мало, мало инструментом быть земным!
В звездный век и я в ракете улечу к мирам иным.
И мелодия комуза, не забытая в веках,
Зазвучит на дальних трассах, даже в звездных облаках.
1965
Стригунок
Перевод А. Кафанова
Он родился как раз весной,
Той благодатною порою,
Когда холмы — в траве густой,
И небо брызжет синевою.
И рядом — мать, добра, нежна.
Спал на джайлоо он блаженно.
Во сне зеленая луна
Над ним всходила неизменно.
Мать отойдет недалеко,
И он уже скорее к маме,
Взахлеб густое молоко
Сосет капризными губами.
Опять весне приходит срок.
Серпок луны подвешен, тонок.
Стоит уныло стригунок —
Тот прошлогодний жеребенок.
Ну, как же все ему понять?
Он запах матери вдыхает.
Припасть бы к вымени, но мать
Его без жалости лягает.
«Лишь я твой баловень один,
Дай молока мне всласть напиться!» —
Капризничает новый сын,
Толкаясь в брюхо кобылицы.
Травы не видя возле ног.
Понурив шею виновато,
Припоминает стригунок,
Как жеребенком был когда-то.
1967
ДАМБА ЖАЛСАРАЕВ
(Род. в 1925 г.)
С бурятского
{198}
«Все не так, на твой взгляд…»
Перевод В. Виноградова
Все не так, на твой взгляд. Ты все время ворчишь:
Вешний ветер тебе — будто стужи дыханье,
Смелый сокол парит — недовольно бурчишь,
Жаворонок звенит — снова слышно ворчанье.
Небо хмурое — вновь раздражаешься ты.
Не оно ли должно быть по нраву тебе бы?
Ты грозу проклинаешь до хрипоты,
Но не рад ты и солнцу средь ясного неба.
Ты о горе трубишь со спокойной душой,
Но и счастье всегда ты встречаешь бесстрастно.
Что же нужно тебе?…
Ну, а нам хорошо
Нашу землю суровую делать прекрасной!
Так плетешься ты в жизни, брюзга-нелюдим.
Наши светлые дни видишь в сумрачном свете.
Это ты виноват, если мнится иным,
Что еще много темного есть на планете.
«Планеты все, знакомиться нам время…»
Перевод М. Львова
Планеты все, знакомиться нам время —
Соседи мы по солнечной системе.
Моя страна — от имени Земли —
Готовит к вам ракеты-корабли.
Не бог, а наш народ, подобно богу,
Протянет руку дружбы вам — дорогу.
Не я — так сын дойдет до тех высот,
До вас пшеницу в зернах довезет.
Мы вас снабдим всем дорогим и лучшим
И даже наши песни петь научим.
Планеты все, знакомиться нам время —
Соседи мы по солнечной системе,
И на Земле мы — за добрососедство.
Мы обещаем вам — найдутся средства
Мир оградить — от имени Земли
И в гости к вам готовить корабли.
МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ
(Род. в 1925 г.)
С грузинского
{199}
Родине
Перевод В. Соколова
Ярмо не из легких — доброе имя,
Надеюсь, я мужественно тянул.
Горжусь я порой плечами своими:
Их камень усталости не согнул.
Я слабость минутную наземь бросал,
Лишь правду и мужество в песнях любя.
И вот мне открылось: о чем ни писал,
Все песни — во имя тебя!
Научи меня, век…
Перевод Б. Окуджавы
А ведь что-то вершится без моего участья:
кто-то рождается, настигает кого-то смерть,
грохочут праздники, тихо вползают несчастья,
ливни и засуха, оцепененье и смерч,
раковины на дне океанском мерцанье,
тонкое пение спутника с высоты…
Где-то тянутся двое друг к другу сердцами,
благоухают в лугах на рассвете цветы…
От улыбки — до ярости, от рассвета — до ночи,
от хребтов голубых — до бездонного дна своего
мир бескрайний раскинулся. Он поет и грохочет.
Как бы мне охватить целиком, безраздельно, его?
Как осмыслить все это, связать эти пестрые части?
Научи меня, век, и своим озареньем коснись…
В мире что-то вершится без моего участья.
Вот поди ж ты не мучайся,
вот попробуй-ка тут отмахнись!
«Мысль странная преследует меня…»
Перевод Б. Ахмадулиной
Мысль странная преследует меня:
печалюсь я о мне не данной жизни.
Не потому, что на свою ропщу
или судьбою был бы недоволен.
Жизнь изменить свою имеешь право:
заняться новым делом, переехать
куда-нибудь, жениться, развестись
иль докторскую степень получить.
Все это можно…
Но, скажите, как
мне быть, когда заманчивого столько
и выбор так прекрасен и богат,
а выбирать возможно лишь одно —
один лишь путь, одну судьбу на свете —
«ту», а не «эту», что уже другому
досталась и навек принадлежит,
а для тебя она покрыта тайной…
За судьбами слежу я жадным взором,
печалюсь я о мне не данной жизни.
Монолог Бараташвили{200} Перевод Д. Самойлова
Собираюсь жить! Очи видят свет,
Сила есть, и ум не теряет нить…
Сколько уже лет, сколько долгих лет
Собираюсь жить, собираюсь жить!
Собираюсь жить! Сборам нет конца.
Собираюсь все и не соберусь.
Тают в кулаке, вроде леденца,
Сладость детских дней, молодости вкус.
Так и не успел радости вкусить,
Краткий мой апрель, маем ты не стал.
Я существовал, но не начал жить,
И под небом я места не сыскал…
Господи, скажи — до каких мне пор…
Кажется, уже старость у дверей…
И бегут за мной с воем волчьих свор
Тысячи надежд юности моей.
И опять я жду, и опять готов…
Не пора ли жар в сердце потушить…
Жизнь идет к концу! Страшен счет годов!
Вопреки всему — собираюсь жить!
Море
Перевод А. Тарковского
Я море люблю на безлюдье, когда ни единой
частицы души любопытным не отдает,
и не по-актерски оно широко и пустынно
шумит в средоточье своих одиноких забот.
Как не удивляться его тяжкомысленным взгорьям,
когда мне ясна их непостоянная суть?
Как радуюсь я, что своим ликованьем и горем
и не помышляет оно перед нами блеснуть.
«Друг на друга гневно наползали…»
Перевод А. Межирова
Друг на друга гневно наползали
Брови гор — и треснул небосклон,
И в долине, как в двусветном зале,
Свет широкий вспыхнул с двух сторон.
В чашах облаков перекипело
Молодое мутное вино,
Рог луны заполнив до предела,
На долину хлынуло оно.
Стопудовый мрак взвалив на спину,
Ночь брела, шатаясь, как в бреду,
И об Алазанскую долину
Тяжело споткнулась на ходу.
Поэзия
Перевод Д. Самойлова
Вы занимались рыболовством?
Здесь нет секретов ни на грош:
Закинешь удочку под мостом, —
Сидишь,
надеешься
и ждешь…
Вот так и наше стихотворство, —
И в нем секретов не найдешь:
Достал перо, о стол оперся, —
Сидишь,
надеешься,
и ждешь…
«Человек — это след…»
Перевод Д. Самойлова
Человек — это след,
Это мысль и творенье,
Память или предмет,
Или даже… забвенье.
Так, бывает, горит,
Так он сердце расплавит,
Что — как метеорит —
Ничего не оставит.
«Я жаден до людей!..»
Перевод Е. Винокурова
Я жаден до людей!.. Всегда толпою
Вокруг меня шумят мои друзья, —
Не потому, что скучно мне с тобою,
А потому, что мне без них нельзя.
Мне не утратить к людям интереса,
И я, надеюсь, им необходим.
Что я один! Я — как кусок железа —
Звеню тогда, когда столкнусь с другим…
АНДРЕЙ ПАССАР
(Род. в 1925 г.)
С нанайского
{201}
Две бабушки
Перевод Н. Старшинова
Вот Леночка по комнате большой
Ступает неуверенным шажком.
Как ласточка-касаточка весной,
Щебечет неокрепшим голоском.
А вот ее хранители — взгляни:
Две бабушки. У них полно забот,
Но внучкою любуются они,
И каждая к себе ее зовет.
Одна ей по-нанайски говорит,
Необычайной нежности полна,
Другая ей по-русски говорит,
Подбадривает внученьку она.
Две бабушки смеются во весь рот,
Сверкают слезы счастья на щеках.
А внучка им лепечет, их зовет
На двух понятных, дружных языках.
1956
ФРИДОН ХАЛВАШИ
(Род. в 1925 г.)
С грузинского
{202}
«Ничего я больше не любил…»
Перевод Cm. Куняева
Ничего я больше не любил,
кроме дома в горной деревеньке,
кроме скрипа старой колыбельки…
Сновиденья детства я навеки
всей душой запомнил, не забыл.
Ничего я больше не любил,
кроме пашни, голову пьянящей,
кроме ручейка с водой журчащей…
Время мчалось птицею летящей,
только я об этом не грустил.
Ничего я больше не любил,
кроме слов радушного привета,
радостной улыбки, полной света,
и любви, которая мгновенно
исцеляет, прибавляя сил.
Ничего я больше не любил,
кроме той работы благодатной
в сенокос да на заре прохладной,
кроме той усталости отрадной
рядом с теми, кто для сердца мил.
Ничего я больше не любил,
кроме взора девушки прекрасной,
что была моей мечтой напрасной
и моей надеждою неясной…
Я об этом память сохранил.
Ничего я больше не любил,
кроме песни той неповторимой,
песни бесконечной и старинной…
Тот, кто пел ее в земле родимой,
всю печаль в ее словах излил.
Зрелость стиха
Перевод К. Симонова
Юность стиха — как любви пора,
Как усы у мальчика над губой;
Вдруг огонь и земля, волна и гора —
Все разом заговорят с тобой!
Юность стиха — как сентябрьский шум
Молодого вина, что обручи гнет.
Сделать дело ему не придет на ум,
А незнакомой звезде кивнет.
Но если, два крыла отрастив,
Он взлетит до высот настоящей любви,
Он оттуда все увидит, твой стих:
Оленя ранят — а стих в крови!
Он не ищет себе небесных красот.
Ты бездельем райским его не томи.
Он на бой против рабства с неба сойдет
И под пули станет рядом с людьми.
Это значит, душа у него не глуха,
Значит, в ней, кроме песен, люди живут!
Так сначала приходит зрелость стиха,
А потом уж тебя поэтом зовут.
Лето
Перевод Ю. Левитанского
Я пойду по тропе,
навсегда подружившийся с нею.
Возле самых вершин
я от запаха трав опьянею.
Неизвестный цветок
буду гладить рукой молодою,
Буду сердце студить
родниковой холодной водою.
Я увижу пейзаж
в золотящейся рамке рассвета —
То писал виноградарь
горячими красками лета.
«Опять дрожат стручки фасоли на ветру…»
Перевод В. Соколова
Опять дрожат стручки фасоли на ветру,
Ночная бабочка сидит на потолке,
На стенах тени вновь затеяли игру,
И, словно с неба, тянет лесенку паук.
А дед ушел от нас.
Осталась сказка нам.
Дрова потрескивают в печке. Тишина.
Но кто расскажет нам теперь о старине,
Что так смешна была порой,
порой грустна?
Форели
Перевод Cm. Куняева
Выйду к мосту и брошу невод,
чтоб форель в воде заиграла,
а когда потемнеет небо,
я укроюсь под сенью лавра.
Посмотрю, как гуляют ветры,
как раскачивают плоскодонки,
как стоят вдалеке Кларджеты,
словно сельские одногодки.
Весь продрогший, вернусь нескоро
и форелей выпущу в воду…
Где-то бык замычит Никора —
дрогнут травы, как в непогоду.
Задымится очаг крестьянский,
старый лодочник скажет: здравствуй…
А Чорохи впадает в ярость
и шумит волной многогласной.
Под мостом клокочет Чорохи,
затихает, в море впадая.
А в руках у моста — дороги
и дыханье дальнего края.
«На рассвете, едва лишь связал я…»
Перевод Ю. Левитанского
На рассвете,
едва лишь связал я
строку со строкой,
Потекла,
потекла моя песня
широкой рекой.
О стихи мои,
пусть остаются со мной навсегда
Ваша гордая радость
и горькая ваша беда.
Я учу вас движенью,
крутому полету учу, —
Как туман
над дугой водопада,
стоять не хочу.
Я лечу,
и меня в вышине
обжигают лучи.
Я учу тебя, песня,
и ты меня, песня,
учи!
Будь светильником, песня,
огнем негасимым гори.
Забери мои мысли
и душу мою забери.
Но умри без раздумья,
исчезни, уйди от меня,
Если сам я не буду
частицею этого дня!
ЕГОР ИСАЕВ
(Род. в 1926 г.)
{203}
Про тягловую реку
Он был давно поставлен на подковы, —
За год, кажись, а может, и за два
До рождества,
Понятно, не Христова,
До твоего, понятно, рождества,
Поставлен был.
И при любой погоде
Хомут, понятно,
И, понятно, кнут.
Вот с той поры в крестьянском обиходе
Его набольше лошадью зовут.
Чуть свет: ходи!
И тут уж будь покойный, —
Пойдет,
Потянет,
Благо, не впервой.
И по прямой пойдет,
И по окольной,
Лишь был бы тот, кто правит,
С головой.
И ничего, что где-то чуть споткнется
И малость сдаст.
Бывает. Ничего.
И все равно
Красавцы-иноходцы
Не перепляшут иноходь его.
Постромки рвут,
А тяги… тяги нету,
Копытом бьют!
Да где уж, где уж им!
За ними что? — пустые километры
И степь врастяжку.
А за ним, за ним,
За тягловым,
Не просто так, врастяжку, —
Навалом степь,
Не сгорбится пока,
В снопах, в мешках,
А сверх того фуражка,
А под фуражкой —
Думы мужика.
За ним — возы!
За ним — крутые дали!
Возы… Возы…
Не счесть его возов.
И никаких — представь себе — медалей,
И никаких — представь себе — призов,
Возы… Возы…
Как избы на телегах.
Возы до слез,
До жалобы в осях…
А все, что не доверстывал до снега,
Наверстывал по снегу,
На санях.
Возы… Возы…
Вези уж, коль ты лошадь!
Всю жизнь — вези!
А жизнь его — гора.
Когда там все фундаменты заложат!
Когда там заведутся трактора!
Возы… Возы…
Со стоном подполозным.
Возы в жару
И в слякоть-непролазь…
Оно, конечно, слава паровозам!
Но разве с них дорога началась?
У них — железных —
Сила заводская
И ход — куда там! — оторопь берет!
Но говорят,
Что книга есть такая,
Неписаная книга есть.
Так вот
В ней сказано,
Быть может, что и спорно,
Но сказано
В допрежние века:
Земля — от неба,
Дерево — от корня.
И далее:
Река — от родника.
И далее:
Дорога — от копыта,
От полоза…
А полоз — то да се —
Извелся весь от страшной волокиты
И взял да закруглился в колесо.
И тут пошло.
Пошло!
На том же вздохе,
На той же тяге,
Втянутой в хомут.
Когда там развиднеются эпохи
И книгу ту до атома прочтут!
И что ж… Прочли.
Дознались.
Домечтали, —
Свели с огнем железную руду.
И вот она грохочет —
Сталь по стали —
Индустрия на собственном ходу:
— Иду-у!.. Иду-у!.. —
Раскатисто и ходко
По магистральным шпарит колеям.
Эх, кабы вся Россия посередке,
А то ведь вон какая по краям!
Она и там — у моря-океана,
Она и тут,
Где пашут, сеют, жнут,
Где гнезд пока не вьют аэропланы
И корабли к плетням не пристают.
А жизнь идет.
Не так, чтоб шибко очень,
Пешком набольше,
Редко, чтоб в седле.
Здесь хлеб растят
И знают, между прочим,
Не вся земля, что сверху — на земле,
А под землей,
Под этой вот равнинной
И под нагорной той,
Под верховой…
Рабочий класс, он — ствольный класс,
Вершинный,
А раз вершинный, — значит, корневой,
Глубинный класс!
А корень где?
Откуда
Его могучесть,
Кряжистость его?
А все оттуда, друг мой,
Все оттуда,
Все от Микулы — пахаря того.
Все от него, земного,
Не от бога, —
Сгибайся в три погибели,
Паши!
Костьми ложись, а звонкую дорогу
Достань из-под земли и положи,
Раскинь ее,
По звенышку стыкая,
И подыми
До самых облаков
О ста громах…
Так вот она какая,
Та борозда, что испокон веков
Шла по земле
За пахарем-кормильцем
И за рудничным пахарем —
туда,
Где глубоко-глубоко коренится
Под родниковым холодом руда.
Туда!
Туда! —
По ствольному отвесу,
Сырой земле и камню вперерез…
А кто сказал,
Что здесь у нас к железу,
По деревням, сторонний интерес?
Уж это зря.
Тут с лаской да с поклоном
Топор берут:
Востер ли он, топор?
А кузня, кузня — звоны-перезвоны —
Не просто кузня,
И монетный двор.
Как без нее?
Тут в каждой деревеньке,
Соломой крытой, —
Крыши подождут —
Любой железке счет ведут,
Как деньгам,
И чуть ли не по батюшке зовут
Вершковый гвоздь.
Пускай он трижды гнутый,
Не бросят, нет.
Сгодится и такой.
Спрямят его и в должную минуту,
Как новенький, нацелят под рукой
Да так вобьют,
Чтоб намертво сидел он
И связь держал в соломенном краю!
А трактор взять?
По тягловому делу
Он все равно что сродственник коню.
Идет-гудет,
Обходит всю сторонку
Без хомута, а держится возле.
Весь городской,
Железный весь,
А вот как
По-деревенски ладится к земле!
Берет ее
В пятнадцать лошадиных
Железных сил,
Напористо берет:
Прости-прощай, разлад подесятинный,
Да будет погектарный разворот!
Да будет впредь
Земля с землей родниться!
Да будет серп и молот на века,
Как верный знак того,
Что будет длиться
Сквозь все века
Заглавная река —
Река труда!
Всему, что есть на свете,
Она и рост,
И ход она дает.
Растит хлеба,
Раскидывает сети
И руды из-под спуда достает.
Идет-гудет над радугой-рекою
Поверх морей,
Дождей поверх и гроз!
А будет, будет,
Будет и такое, —
Она, поверь, без крыльев, без колес
Ударит оземь тягловым пожаром
И на такие вымахнет верхи,
Каких сам бог не видывал, пожалуй,
И дьявол сам посредством кочерги
Не ворошил.
Но там, но там,
Чуть сбоку
Звезды полей, у звездного ковша,
Она земле помолится —
Не богу,
Земная, вознесенная душа.
Да, да, земле!
Той самой, с облаками,
Родимой той
И незабвенной той,
Где родники роднятся с рудниками,
А кровь-руда
С родничною рудой.
1970
ПЕТРУ ЗАДНИПРУ
(1927–1976)
С молдавского
{204}
Русская зима
Перевод Я. Смелякова
Добрый снег без всякой злости
Все идет в конце недели,
Словно бы постель для гостя
В тишине хозяйка стелет.
Непривычно мне и просто,
Как давно уж не бывало.
Светлый снег шуршит, как простынь
От несильного крахмала.
Ели все стоят прилежно
На полянке возле края,
Детский снег для бабы снежной
Осторожно собирая.
Сев на сани и салазки,
Сунув руки в рукавицы,
Зимний снег, как в русской сказке,
Мягким светом серебрится.
Далеко, потом поближе
Поездной гудок недлинный.
Как во сне, отсюда вижу
Молдаванские долины.
Те равнины и высоты
Вижу я в оконной раме,
Их укрыл любовно кто-то
Разноцветными коврами.
Там сейчас другие сроки,
Дышит степь медвяным паром.
По холмам ее далеким
Бродят сытые отары.
Здесь же, словно для ночлега
У хозяйки домовитой,
Снегом чистым, белым снегом
Все старательно укрыто.
1962
РАИСА АХМАТОВА
(Род. в 1928 г.)
Переводы И. Озеровой
С чеченского
{205}
«Ну, нет! мне хватит суток черных!..»
Ну, нет! мне хватит суток черных!
Коли не хочешь — не цени.
Так долго я, как кот ученый,
Жила на золотой цепи.
Цепь эту порвала я смело,
Покорность прогнала с лица.
А позолота облетела,
Как с одуванчиков пыльца.
«Разлуки нет…»
Разлуки нет,
Есть времени движенье,
Разорванное…
Но, судьбе переча,
Хочу я миг его соединенья
Именовать
Счастливым словом —
Встреча!
«В сентябре желтеют травы…»
В сентябре желтеют травы,
Тяжелеют листья…
Осень!
В сентябре дожди и ветры,
Холоднее солнце…
Осень!
Почему ж бывает в сердце
Даже в летний полдень
Осень?!
«Я не гадаю: любит — не любит…»
Я не гадаю: любит — не любит,
Листки календарные, как лепестки…
Топор шариата безжалостно рубит
Свободного, нового чувства ростки.
Но мы отвергаем законы аллаха,
И дерево счастья растет на заре.
Себя мы сжигаем, не ведая страха,
На синем, в ночи засиявшем костре.
«Мне муторно, мне так сегодня муторно…»
Мне муторно, мне так сегодня муторно,
А туча — как гранитная плита.
И я плитою этой заперта
И постепенно превращаюсь в мумию.
Тоску отсчитываю не по дням,
А по слезам. О, как их шорох вечен!
А может, встать, гранит плечом поднять
И выйти утру чистому навстречу?
День солнечный прогонит этот страх,
Луч утренний осушит эти слезы.
Я просто увидала на цветах
Совсем недавно выпавшие росы.
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ
(Род. в 1928 г.)
{206}
В Эрмитаже
Ради славы и корысти
Столько вымерло огня…
И скрипач фламандской кисти
Взглядом выискал меня.
Тлеет красная ермолка
И обуглился смычок,
Вопросительно и долго
Смотрит этот старичок.
Но никто из нас не знает,
Отчего над миром дым, —
То ль огонь нас поедает,
То ли мы его едим.
На Неве косое лето,
В дымный дождь дворец одет.
Жизнь моя! — но нет ответа.
Смерть моя! — ответа нет.
«В этом доме, где дух кофейный…»
В этом доме, где дух кофейный
И гитара висит в чехле,
Где под лампой альбом семейный
На отдельном лежит столе,
Я — не гостья и не хозяйка,
Не прислуга и не родня,
Не захожая попрошайка, —
Просто бабочка у огня.
После жизни той, предыдущей,
От которой сошла и тень,
Мне блаженной судьбой отпущен
Целый век, умещенный в день:
Прокути его на поляне
Средь кузнечиков и шмелей!
Но дрожу на синем сафьяне, —
Неужели здесь веселей?
Для того ль судьбой бестолковой
Пепел в бабочку превращен?
День июльский, век мотыльковый,
Боже мой, догорает он!
Светит лампа, сафьян лоснится.
Чьи хотела припомнить лица
Или думала, как-нибудь,
Белым крылышком хоть страницу
Я сумею перевернуть?
«Пусть не на что мне опереться…»
Пусть не на что мне опереться,
Но разве не чудно, скажи,
Смеяться от чистого сердца
И плакать от всей души?
Задумано все безупречно.
И тем эта жизнь хороша,
Что счастье, как сердце, не вечно
И горем бессмертна душа.
РАШИД РАШИДОВ
(Род. в 1928 г.)
Переводы Я. Козловского
С даргинского
{207}
«Высекавшего огонь…»
Высекавшего огонь
Иноходца обошел
Неказистый с виду конь,
Пену на скаку роняя.
Скрыт до времени порой
Камень дорогой в земле.
Парень — с виду не герой —
Был отчаянным в бою.
Знал в горах один жених
Сладкие, как мед, слова,
Только с горечью о них
Вспоминают пять невест.
Не снаружи, а в душе
Человеческая суть.
Девушкам настороже
Быть до свадьбы надлежит.
1951
Суровая песня
Если в землю у воды
Ветку тополя воткнуть,
Не боящимся беды
Станет деревом она.
Если сын в семье рожден,
Пусть не балуют его,
Чтобы стал мужчиной он,
Не боящимся беды.
1957
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ
(Род. в 1928 г.)
{208}
Венок
Вот мы с тобой и развенчаны.
Время писать о любви…
Русая девочка, женщина,
Плакали те соловьи.
Пахнет водою на острове
Возле одной из церквей.
Там не признал этой росстани
Юный один соловей.
Слушаю в зарослях, порослях,
Не позабыв ничего,
Как удивительно в паузах
Воздух поет за него.
Как он ликует божественно
Там, где у розовых верб
Тень твоя, милая женщина,
Нежно идет на ущерб.
Истина ненаказуема.
Ты указала межу.
Я ни о чем не скажу ему,
Я ни о чем не скажу.
Видишь, за облак барашковый,
Тая, заплыл наконец
Твой васильковый, ромашковый
Неповторимый венец.
1966
«Нет сил никаких улыбаться…»
Нет сил никаких улыбаться,
Как раньше, с тобой говорить,
На доброе слово сдаваться,
Недоброе слово хулить.
Я все тебе отдал. И тело
И душу — до крайнего дня.
Послушай, куда же ты дела,
Куда же ты дела меня?
На узкие листья рябины,
Шумя, налетает закат,
И тучи на нас, как руины
Воздушного замка, летят.
1966
Чужая книга
После дней обаянья,
После белых ночей
С этой книгой свиданья
Все нежней и горчей.
Это очень похоже
На ближайший отлет.
Гул винта, как по коже,
По обложке идет.
Средь вокзального быта,
Вся — поющая, вся
На скамейке забыта,
Остающаяся.
Не средь шумного бала,
А под вопли грачей
Ты меня испугала
Страхом юных ночей.
Невозможностью слиться,
Невозможностью взять,
И отдать, и открыться,
То есть все рассказать.
Невозможность явиться
И в любом пустяке
Невзначай воплотиться,
Как дано пустельге.
На скамейке, подмокшей
От весеннего льда,
Голос, не превозмогший
Красоты и стыда.
Это даже не слово,
Что в сердцах говорим.
Дивный слепок с чужого,
Населенный своим.
1967
Вагон
Когда я уронил себя
Лицом в ладони
При свете лампочки ночной
В ночном вагоне,
Когда я гордость потерял,
А ты не знала,
Наш паровик то в ночь нырял,
То в день вокзала.
Ребенок плакал в тишине,
Вдруг наступавшей…
Всей жизнью ты казалась мне
Моей пропавшей.
Когда я оторвал от рук
Лицо под утро,
В окне синело. Все вокруг
Шептало смутно.
Кондуктор шел. За ним вослед
Цыганок очи…
Мне было девятнадцать лет.
В такие ночи!
Одна сказала: «Слушай, князь,
Дай погадаю…»
Я улыбнулся, поклонясь:
«Уже все знаю».
И долго ей глядел вослед
Тепло и мудро…
Мне было девятнадцать лет.
В такое утро!
Не плакал мальчик на руках,
А, рот разиня,
Смотрел, как мчалась,
Вся в снегах,
В гудках,
Россия.
Шел день, наращивая пыл
От полдня к полдню…
Тебя, соседей позабыл.
Цыганку помню.
1967
«И самый юный в мире дождь…»
И самый юный в мире дождь
Исчез за первым поворотом.
И показалось: ты идешь
По тротуарам, как по нотам.
И я впервые ждал: тобой,
Тебе навеки посвященный,
Как переулок голубой,
Не камнем — лунами мощенный.
Был в лужах весь окрестный свет.
А их оставил дождик краткий,
Как перевернутый ответ
Под легкой детскою загадкой.
Ведь воробьиной тишины
Мерцала первая отрада.
Ведь больше не было войны
И было в мире столько лада.
И снова голубь ускользал
От голубей в иные сети.
И я тогда еще не знал,
Что нет единственной на свете.
1968
«Черные ветки России…»
Черные ветки России
В белом, как небо, снегу.
Эти тропинки глухие
Я позабыть не смогу.
С веток в лесу безымянном
Падает маленький снег.
Там, в отдаленье туманном,
Тихо прошел человек.
Между сугробами дровни
Прошелестели едва.
Белая ель, как часовня,
Ждет своего рождества.
Белые ветки России
В синем, как небо, снегу.
Эти проселки седые
Я позабыть не смогу…
Острое выставив ушко,
Белка, мала и бела,
Как часовая кукушка,
Выглянула из дупла.
1969
Памяти Афанасия Фета
Здесь человек сгорел…
А. Фет
Ничего от той жизни,
Что бессмертной была,
Не осталось в отчизне,
Все сгорело дотла.
Роковые изъятья.
Не назначенный бал.
Край светлейшего платья
Разве я целовал?
Как в иную присягу
На погибель и рай
Небывалого стяга
Независимый край…
Ничего от той жизни,
Что бессмертной была,
Не осталось в отчизне.
Все сгорело дотла.
Все в снегу, точно в пепле,
Толпы зимних пальто.
Как исчезли мы в пекле,
И не видел никто.
Я грущу о зажиме
Чрезвычайной тоски,
Как при старом режиме
Вашей белой руки.
Вспомнить — сажей несметной
Так и застится высь.
— Да была ли бессмертной
Ваша личная жизнь?
Есть ли Вечная запись
В Книге Актов благих?
— Только стих.
Доказательств
Больше нет никаких.
1970
«Упаси меня от серебра…»
Упаси меня от серебра
И от золота свыше заслуги.
Я не знал и не знаю добра
Драгоценнее ливня и вьюги.
Им не надо, чтоб был я иной,
Чтоб иначе глядел год от года.
Дай своей промерцать сединой
Посреди золотого народа.
Это страшно — всю жизнь ускользать,
Уходить, убегать от ответа.
Быть единственным —
а написать
Совершенно другого поэта.
1973
ГУЛЧЕХРА СУЛЕЙМАНОВА
(Род. в 1928 г.)
Переводы Т. Стрешневой
С таджикского
{209}
Воздушный змей
Ты лети,
Мой змей воздушный,
В облака легко лети.
И мои мечты послушно
В даль с собою
Захвати.
Над горами,
Над долиной
Свой верша
Небесный путь,
Пару крыльев голубиных
Взять с собой не позабудь!
На сияющем экране
Тянет нитку парусок —
И мальчишеских исканий
И дерзания исток.
Схвачен солнечным пожаром,
Пролетай, бумажный змей,
Над дувалом,
Над базаром
В страны юности моей,
Ты,
Летающий всех выше,
Здесь покинь седую высь,
На одну родную крышу
Белой птицей опустись.
Там,
Где, голову закинув,
Взор от солнца заслоня,
Мальчик смотрит в сердцевину
Расцветающего дня.
В неокрепшей
Юной силе,
Вешним солнцем озарен, —
Словно пару ловких крыльев
За спиной почуял он.
Вспоминаю я рассвет тот,
Пору юности моей.
Где теперь мальчонка этот?
Где его воздушный змей?
В поле
Не баловень куртины пышной —
Цветок мне дорог полевой,
Непритязательной,
Такой обычной красотой.
С таким простым очарованьем
Он пахнет лугом и травой,
Как песня в поле утром ранним, —
Дыханье жизни в ней самой.
ВЛАДИМИР БЭЭКМАН
(Род. в 1929 г.)
С эстонского
{210}
Девушки моих школьных вечеров
Перевод А. Ревича
Вечеров моих школьных девушки
тащат сумки, бредут усталые,
дома дети, заботы семейные,
тяжесть буден на плечи легла.
Встретишь изредка одноклассника,
на макушке лысина светится.
Малый гордый был и уверенный,
а ведь сколько сбил каблуков.
Не заметил — а лет прибавилось,
не заметил — а дело к старости,
дети выросли, время катится,
что поделаешь? — годы идут.
Споры, свары и неурядицы,
деньги, глупые подозрения.
Где же синяя птица юности?
Улетела юность искать.
Рано, рано оружие складывать,
туфли стоптанные разыскивать.
До зимы еще время немалое,
все заветное — впереди.
Смех храните, в глазах сверкающий,
до последнего вальса щемящего,
школьный вечер храните и девушек,
все, что было единственный раз.
1963
Белые снега
Перевод Юнны Мориц
Снегопады, снегопады,
белый свет заволокло,
неба гулкие громады,
как зеленое стекло.
Стынет иней млечно-синий,
белым следом блещет мгла,
из-за льдистых дышит линий
жажда слова и тепла.
Толпы звезд мигают чудно, —
То ли знанье? то ль вопрос?
Кто ответит? Как безлюдна
даль земли, когда мороз.
Только скрежет взлета в холод
перережет неба мглу, —
там сиротство, вечный голод
этой жизни по теплу.
Смутный вешний дух отрады
ищет к нам следы колес.
Снегопады, снегопады
ненадолго, но всерьез.
1966
Мироздания
Перевод Юнны Мориц
Во Вселенной
отдаляются галактики друг от друга.
Ежеминутно, ежесекундно
они уносятся вдаль от своих собратьев
к бесконечному горизонту,
который так далеко, что даже луч не вернется.
Так исчезают галактики
почти со скоростью света
и невозвратно.
Миллион мирозданий
удаляется, чтоб не вернуться обратно.
И успеешь ли ты
взглядом или стеклом голубым
уловить на прощанье хотя бы одно мироздание
перед тем, как оно насовсем
исчезнет за темной чертой бесконечности?
1966
Часовщик
Перевод В. Куприянова
Видите —
вот оно, время,
за которое люди готовы отдать
три последние капли крови и
бессмертную душу.
Вот оно тикает.
Я день изо дня
пропадаю в чужом времени,
вечно в котором времени нет.
Часы, как куры, клюют секунды,
и волосяные пружинки в сумерки,
как паутина, заткут мне глаза.
Не будьте ребячливы —
поверьте, часы — не игрушки,
у них своя частная жизнь,
и, как у сердец, свое счастье.
И они боятся безвременья.
Знаете, часы на башне боятся удара,
я их должен лечить в тяжелые дни,
иначе — пробьет их час.
Как-то вечером на исходе лета,
когда тучи никак не могли разрешиться громом
и перехаживали с ним пятый час сверх срока,
мне пришлось двенадцать раз взбираться на башню,
чтобы выходить их.
А вы говорите — колесики.
Но порой ни к чему машинное масло,
хватает вздоха сочувствия и доброго слова.
К ним особенно чутки
большие часы на башне.
И не усмехайтесь, пожалуйста,
щербатыми зубками перфокарт.
Время было задолго до счетных машин,
и если вам недосуг вспомнить об этом,
то лучше оставьте нас.
В добрый час!
1969
КЕРИМ КУРБАННЕПЕСОВ
(Род. в 1929 г.)
Переводы О. Дмитриева
С туркменского
{211}
Старик
Я был на скачках. Около меня
Сидел старик, и напряженным взглядом
Следили мы за тем, как два коня —
Гнедой и вороной — скакали рядом.
Был слаб гнедой, не резов вороной.
Наездники искусством не блистали.
И, чтобы победить любой ценой,
Соперники мешать друг дугу стали.
Неловко плетью взмахивал ездок,
И вздрагивал чужой скакун с испугу.
Сказал старик, бесстрастный, как пророк:
«Бессильные всегда вредят друг другу!»
Другие скакуны других мастей
По кругу понеслись — ну кто же первый?
Скакал на сильном опытный жокей,
На слабом восседал жокей прескверный.
Каурый конь бросался резко вбок, —
С ноги сбивался серый в клубах пыли.
Сказал старик, бесстрастный, как пророк:
«Так слабость мстит умению и силе!»
Опять вперед помчались скакуны,
То красный выходил вперед, то сивый,
И были люди заворожены
Борьбой прекрасной, схваткою красивой.
Жокеи понимали, что подлог
Желанную победу не приблизит.
Сказал старик, бесстрастный, как пророк:
«Достойного достойный не унизит!»
1972
В горах
Он лез по острым граням скал —
Не шел красивою долиной,
В горах на высоте орлиной
Он дерзновенно возникал.
Ружье, патроны и кинжал
Он в горы брал не для убоя.
Он, видя зверя пред собою,
На спуск ни разу не нажал.
Он прижимал к плечу ружье,
Стрелял по неприступным скалам
И соскребал с камней кинжалом
Коричневое мумиё.
Его нередко с ног сбивал
Рожденный выстрелом обвал —
Прыжок рассерженной лавины.
Но он из каменной могилы,
Собрав остатки сил, вставал.
И вновь на узенький карниз
Он ставил ногу непреклонно,
Да вдруг с предательского склона
Сам заскользил, как камень, вниз…
Его считали чудаком,
Его безумцем называли,
Но он, наверное, едва ли
Был с этим мнением знаком.
Он не затем часы берег,
Чтоб слушать глупое злословье:
Он людям возвращал здоровье,
Он в горы не идти — не мог!
Так он погиб.
И нет следа
Могилы павшего героя.
Над ним, как вечное надгробье,
Стоит вся горная гряда.
1972
ШОТА НИШНИАНИДЗЕ
(Род. в 1929 г.)
С грузинского
{212}
«Вон человек повис на костылях…»
Перевод М. Синельникова
Вон человек повис на костылях.
Так день сражения висит на двух ночах,
так наша жизнь обычно повисает
меж датами рождения и смерти.
Висит меж костылями человек.
Жизнь, вставшую на шаткие ходули,
оглядывают молча пешеходы…
И плоть и душу вытоптали годы,
как гусеницы в лязгающем гуле.
Он так вцепился в костыли, как будто,
карабкаясь, застрял в могильной яме.
Вот картина в раме
из костылей,
исполненная кистью
войны.
…………………
О, душа дубравы
праматерь древа!
Пусть больше не растут ни ствол, ни корень
для виселицы… Кряжей пусть не прочат
в могильные кресты, и пусть не точат
и не строгают костылей вовеки…
Аминь!
1960
Амазонки
Перевод Cm. Куняева
Отвергли мужское начало,
и на жеребцах оскопленных
им весело мчаться…
Укрытое шкурами тело…
Стрела из колчана
взвивается —
и долетела
почти до Фазиса!
За ужин садятся толпою,
свежуют быка не по-женски —
о, страшные жертвы
богам, никому не известным!
За ветром!
За скифами!
Топот погони…
Летят оскопленные кони,
копыта их звонки.
На седлах убитою дичью
свисают легенды…
Степная луна трепещет, как грудь амазонки.
О, полночь!
О, крайности матриархата!
Исчезла прохлада,
и ложе
на остров,
сметаемый ветром горячим, похоже.
Звериная страсть из отрезанной груди струится,
из мрака
вздымаются руки,
и мужество медленно тает.
И правая грудь,
что мешала натягивать луки,
отрезанная, вырастает.
1965
Камень
Перевод М. Синельникова
Камень есть камень.
Но даже гранитом
правит немая судьба.
Вьется орнамент по мраморным плитам,
кладка амбара груба.
Кварц непокорный, песчаник ли хрупкий,
застланный сухостью мха.
Памятник,
камень расколотой ступки,
камень с обрывком стиха.
Будет ли он, словно горе, огромен,
ростом ли только велик,
Сын громовержущих каменоломен,
красный базальт базилик?
Камень для храма, тюрьмы и пекарни,
для межевого столба…
Но большинство — неприметные камни…
Может быть, это — судьба.
1969
«Гибли вы — на войне, на дуэли…»
Перевод В. Леоновича
Гибли вы — на войне, на дуэли,
честь любя.
Скольких я пережил! Неужели
пережил и себя?
Умереть в 37, в 28
Загнать коня!
Вот моя совершается осень,
осыпает меня.
Все леса побурели,
как руда…
Не хочу, чтоб афиши пестрели,
суетились года.
Верю в старость.
Не хочу ничего.
Пусть господня обрушится ярость
на меня одного.
Ибо знаю сурово
и вижу из мглы,
что забили другого
в мои кандалы.
Что другой неповинно
принял пулю — моя была! —
и травою полынной
земля поросла.
Сколько — много ли, мало
проживу-простою?
Смерть чужую душа принимала —
как свою.
1973
Судьба
Перевод М. Синельникова
Он трагик,
но позорища и срама
изведал чад — привычна клоунада…
«К чему тебе, неблагодарный, драма? —
кричат ему. — Трагедии не надо!»
Один летит
сквозь время прямо к цели, другой,
чуть жив, ползет в пыли, во прахе,
но ведь не зря воскликнул древний эллин:
«Не обогнать Ахиллу черепахи!»
Тот в тень свою сойдет, скучая в блеске, —
и назовут гиганта лилипутом,
а этот с детства носит крыл обрезки,
но их горбом считают почему-то!
1973
ДМИТРО ПАВЛЫЧКО
(Род. в 1929 г.)
С украинского
{213}
Воспоминание
Перевод П. Жура
…Босым в то утро прибежал я в школу,
Хватил мороз, тропу оледенив,
И белокрылые роились пчелы, —
Пришла зима с гуцульских бедных нив.
Звенел звонок. По снегу необутым
Я шел домой, унять не в силах дрожь.
Казалось, шел я годы — не минуты,
И каждый шаг был — как с ножа на нож.
…Когда тот путь сегодня вспоминаю,
Гуцульщина мне видится в былом,
Что прямо к Сентябрю сквозь даль без края
Идет в слезах по снегу босиком.
1950
«Зачем ты мной пренебрегаешь…»
Перевод Н. Брауна
Зачем ты мной пренебрегаешь,
На мой поклон не отвечаешь,
Когда тебя встречаю я?
Ведь если любишь ты другого
И моего не слышишь слова,
Признайся мне, любовь моя!
Чтоб сердцу с горя не разбиться,
Ему дам крылья голубицы, —
Пускай взовьется в вышине.
Оно с моим страданьем — знаю —
К родному устремится краю,
К моей карпатской стороне.
За голубым далеким кряжем
Все матери моей расскажет…
Найдет такое зелье мать,
Что быстро исцеляет рану…
И больше я тебя не стану
Ни в снах, ни наяву встречать.
1954
«Я от земли неотделим…»
Перевод П. Жура
Я от земли неотделим, —
Пахал отец мой эту землю.
Я силу от нее приемлю
Поющим существом своим.
Я рос в родимой стороне,
Как в поле колосок зернистый,
Могучий телом, духом чистый, —
Ведь кровь земли моей во мне.
Мое зерно — слова мои.
Коль их возьмут на сев весенний,
То ждут меня и воскресенье,
И света вешние ручьи,
И урожайной славы час.
Но не хотел бы лучшей доли,
Когда бы их на хлеб смололи
Народу моему хоть раз.
1956
«Поэзия, назначено тебе…»
Перевод С. Ботвинника
Поэзия, назначено тебе
Ответить сердца слабого мольбе,
Подругой в трудной сделаться судьбе,
Оружьем, побеждающим в борьбе.
Отдать народу правду слов своих,
Свет новых дней провидеть, славить их,
Быть вдохновеньем в битвах трудовых,
Хранить любовь и ненависть живых,
А мертвых славу сквозь века нести.
Ты ж в лавке, вижу, вся в пыли…
Хотел к тебе я подойти
И поклониться до земли.
Но присмотрелся ближе я —
Это не ты, лишь тень твоя!
1957
«Люблю я жизни быстрину…»
Перевод П. Жура
Люблю я жизни быстрину,
Что так стремительна, бурлива,
И я не прячусь в глушь залива,
Где сор и пена, ил по дну.
На быстрине так трудно плавать —
Волна бросает, сносит, рвет.
Кто прозябает, не живет,
Пускай глухую ищет заводь!
Там на гнилом и вязком дне
Жабье от страха замирает,
А быстрина плоты качает,
Форель играет в быстрине.
Затем с годами мускул туже,
Затем поет душа моя,
Чтоб там, где побыстрей струя,
Мне плыть, а не валяться в луже.
Я славой век не обольщусь,
И гниль мещанского болотца —
Клянусь! — вовеки не коснется
Моих светлейших, чистых чувств!
1960
Разговор с Каменяром{214} Перевод П. Жура
Он в трещину глухой скалы гранитной
Воткнул березовый засохший прутик
И наказал до тех пор поливать,
Пока не вырвется росток зеленый
И не ухватится когтями почек
За утреннее солнце деревцо…
И, словно крошка соляного камня,
Вода блестела у подножья кручи;
Я посмотрел, и показалось мне:
Слизать ту воду сможет и косуля.
Да разве этот родничок способен
На голых скалах возродить леса?
Он угадал тотчас мои сомненья,
Спросил меня, что вижу я в кринице.
И я сказал, что вижу неба синь.
Он улыбнулся мне: «Какого неба?»
«Того, что здесь, над нами», — я ответил.
«Нет, — крикнул он, — мы видим здесь надир!
Не дар дождя — в гранитном блюдце влага,
Здесь — посмотри! — земля насквозь пробита,
Воды тут хватит целый мир залить!
Тот родничок — поэта вдохновенье.
За то, что ничего в нем не увидел,
Ты в жилы камня кровь свою вольешь,
И никогда об этом не узнают.
Ведь не расскажет дерево немое,
Чем век его питала глубь земли.
Вот так и стих. Никто тебя не спросит,
Из радужного света вдохновенья
Или из тьмы твоей он крови рос!»
1966
«Сквозь униженья дым она прошла…»
Перевод Л. Хаустова
Сквозь униженья дым она прошла,
Отвергла стыд по приказанью сердца,
И мне любовь так нежно принесла,
Как мать приносит своего младенца.
Но на руки не взял я малыша —
Меня пугала одержимость эта.
Сверкнула совесть острием ножа —
Зачем я у нее просил совета?
Я зарыдать от радости не мог,
Не смел сказать, что долга не нарушу.
И слово «нет» вонзил я, как клинок,
По рукоять в безропотную душу.
Я знал, что сердце не простит мне зла,
А разум будет защищаться громко.
Она ушла и скорбно унесла
Свою любовь, как мертвого ребенка.
Я не кричал: «Любимая, вернись!»,
Я не молил, чтоб чудо победило.
Мне к горлу правда прыгнула, как рысь,
И в озлобленье за неправду мстила.
1966
«Летят по полю белы кони…»
Перевод Вс. Рождественского
Летят по полю белы кони —
Ветров январских табуны.
Мороз привстал на подоконник
И на стекле рисует сны.
Не сном ли стало то оконце
С деревьями чужих сторон,
Где в темя бьет жестоко солнце,
Где не бывал вовеки он?
1966
«Снег летит, как день, как век…»
Перевод А. Корчагина
Снег летит, как день, как век…
В поле — след, над ним — метели.
Шел сквозь вьюгу человек,
Пробивался к дальней цели.
И прошел, а снег метет, —
Тонут в нем следы людские…
Оставляет след лишь тот,
Вслед за кем идут другие.
1966
«Зима, словно античный храм…»
Перевод Н. Брауна
Зима, словно античный храм,
Легла руиной перед нами.
Открыты водам и ветрам,
Столбов и стен крошатся камни.
Разрушен мраморный порог,
Прозрачны плиты льдин, как сети.
И постепенно тает бог,
Которого лепили дети.
1967
«Заходит солнце в золотых лесах…»
Перевод Л. Смирнова
Заходит солнце в золотых лесах.
Пылают смолы на стволах, как маки,
И, как ручей весенний в буераке,
Сверкает кромка тучи в небесах.
День подает мне огненные знаки,
Но ночь, как взрыв, клубится на горах,
И кажется, что взор твой только прах,
Бесследно исчезающий во мраке.
Нет, сохранят и звезды и цветы
След твоего пылающего взгляда,
Коль он омыт слезами доброты.
Но, если жжет не пламень звездопада,
А ненависть и злобная досада
Твой дух, — страшись грядущей темноты!
1967
АГНЕССА РОШКА
(Род. в 1929 г.)
Переводы Т. Стрешневой
С молдавского
{215}
Горный камень
Я камень,
Я сдвинут лавиной,
Я в реку обрушился вниз,
Приняв на гранитную спину
Мильоны светящихся брызг.
Рожденный утробою горной,
Водой ледников отбелен,
Для берега стал я опорой
И сторожем
С давних времен.
Я корни столетнего кедра
Тугими узлами скрутил
И ствол его бронзовый щедро
Тяжелою силой
Налил.
Ко мне,
Оторочена солнцем,
Тропинка,
Умывшись росой,
По мшистым пригоркам,
По склонцам
Вбежала девчонкой босой.
Недаром, шершавый и крепкий,
Я взял над грозой перевес, —
Разбил в искрометные щепки
Бушующий молнией лес.
Я камень,
Тружусь я упорно,
Отесанный верной рукой,
И стали пшеничные зерна
Летящей по ветру мукой.
И воду прошел, и огонь я,
Чтоб стать и сильней
И добрей.
Есть в хлебе
На женской ладони
Частица работы моей.
Военные дни отшумели,
И утром,
Седым от росы,
Я внемлю пастушьей свирели
И посвисту мирной косы.
Я камень,
Надежный и вечный,
В горах пролежал я века.
Я первой стрелы наконечник,
Нацеленной
В сердце врага.
1973
«Я пред тобой замру без слов…»
Я пред тобой замру без слов,
Таюсь тропинкою окольной,
Которой так бывает больно
От грубой тяжести шагов.
1973
ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ
(Род. в 1929 г.)
{216}
«Пахнет темная чаща…»
Пахнет темная чаща теплой смолой еловой,
пахнет июльский ветер дальней волной соленой,
солнцем полуденным пахнут ветви сосны суровой,
девичьим тихим дыханьем — мой березняк зеленый.
Если бы стал я незрячим,
если бы ночью туманной
в темные дали чужие меня бы враги увели,
я бы нашел тебя, Родина, по запахам нежным и пряным,
что до меня долетели б от ивовой русской земли.
1958
Друзьям, павшим на Ладоге
Я плыву на рыбацком челне,
холодна вода, зелена …
Вы давно лежите на дне.
Отзовитесь, хлопцы, со дна.
Борька Цыган и Васька Пятак,
огольцы, забияки, братцы,
я — Шестина из дома семнадцать,
вы меня прозывали так.
В том жестоком дальнем году,
чтоб не лечь на блокадном погосте,
уезжали вы —
кожа да кости —
и попали под бомбу на льду.
Непроглядна в путину вода,
не проснуться погодкам милым,
их заносит озерным илом
на года,
на века,
навсегда.
1958
«Матери бессонны…»
Матери бессонны,
когда дети маленькие.
Матери бессонны,
когда дети большие.
Матери бессонны,
когда дети стареют.
О, святая бессонность!
Чем отблагодарить матерей?
Целовать ли им руки, гладить ли белые волосы, —
поливать ли цветы на их ранних могилах?
Не отблагодарим!..
Как солнце не отблагодарим за свет.
Как землю не отблагодарим за зелень.
Не отблагодарим!..
Надо просто что-то хорошее делать,
что-то доброе,
что-то великое делать, —
тогда улыбнутся и заплачут от счастья
матери, наши матери,
живые и мертвые.
1962
«Без березы не мыслю России…»
Без березы не мыслю России, —
так светла по-славянски она,
что, быть может, в столетья иные
от березы — вся Русь рождена.
Под березами пели, женили,
выбирали коней на торгах;
дорогих матерей хоронили
так, чтоб были березы в ногах.
Потому, знать, березы весною
человеческой жизнью живут:
то смеются зеленой листвою,
то сережками слезы прольют.
1963
«Куда соловей исчезает…»
Куда соловей исчезает,
отпев по июню? Куда?…
Кто видел его
и кто знает,
как гаснет над рощей звезда?
В июле трава налитая,
грибной и малиновый лес,
но, в летнем тумане растая,
певун несравненный исчез.
Хватил ли он горькое лихо,
свое потеряв божество,
за харчем когда соловьиха
послала на гряды его?
А может, влюбленно и сладко
мечтал он до осени петь,
но, брошен подругой-касаткой,
поклялся не петь уже впредь?
А может, в урочище затхлом,
где льется вино, как вода,
он пропил с бессмысленным дятлом
свой дивный талант навсегда?
Мой голос не соловьиный,
проста моя жизнь и груба, н
о ночью морозной и длинной
приснись мне воочью, судьба!
Приснись в негодующем гуле
иль в славе, звенящей, как медь…
Смогу ли запеть я в июле,
в июле смогу ли запеть?
1971
На могиле А. П. Керн{217}
Л. Балаю
Пасмурно было, промозгло,
капли, кружа на лету,
белые, как бы из воска,
падали ниц на плиту.
И с подступившей тревогой
я, по кладбищу пройдя,
вышел к реке неширокой,
встал под половой дождя.
Поле озимое ровно,
дождь превращается в снег…
Дивная Анна Петровна,
нежный его человек!..
И без особого толка
в памяти я ворошил
образы тех, что недолго,
но сумасшедше любил.
Чем уж рассказ ни дополни,
только одно оттени, —
как озарения молний,
были те краткие дни.
…Вымокший под ледяными
струями, думал тогда:
был я счастливым —
лишь с ними,
все остальное —
езда
в бричке, с лошадкой послушной,
чинно, а не во весь дух,
мимо толпы равнодушной
и любопытных старух.
1974
Матери
Чем дальше ухожу от даты
нелепой гибели твоей,
тем больше, в чем-то виноватый,
жду добрых от тебя вестей, —
то в чьем-то постороннем взгляде,
то в чьей-то фразе обо мне…
Не оставляй же, бога ради,
меня с бедой наедине.
1975
«Задумайтесь: это ведь счастье…»
Задумайтесь:
это ведь счастье, что вы живете.
Задумайтесь:
это ведь счастье, что вы творите.
Оно, конечно, может быть полным,
если вы честны.
1976
«Время от времени нужно…»
Время от времени нужно
душу свою очищать
так, как чердак иль подполье
мы очищаем от хлама:
выкинуть ветошь страстей,
медную рухлядь гордыни
и себялюбья зерцало
в трещинках паутинных,
и невоздержанности
позеленевший сосуд…
В чистой и ясной душе
вдруг я услышу, смятенный,
как зажужжала пчела,
мед собирая…
1976
ИБРАГИМ ЮСУПОВ
(Род. в 1929 г.)
С каракалпакского
{218}
Мухаллес{219} Перевод Г. Ярославцева
От снега искорки летят, где ты, любимая, пройдешь,
Разносит ветер аромат, где ты, любимая, пройдешь,
Была пустыня — будет сад, где ты, любимая, пройдешь,
И трели соловья звучат, где ты, любимая, пройдешь,
Там дол, шагам внимая, рад, где ты, любимая, пройдешь.
Поток Амударьи бурлив — летит отважным скакуном.
Ты, ветры за собой сманив, стоишь на берегу речном.
В глубокий омут, под обрыв, приплыл дремать ленивый сом,
Но, как джигит, в воде ретив при приближении твоем.
Там чувств порыв и сил прилив, где ты, любимая, пройдешь.
Твой легкий шаг, твой жгучий взор растопят снег, оплавят лед,
С журчаньем устремятся с гор весенние потоки вод.
Тут — буйной зелени ковер, там — ивы отдадут свой мед,
Пернатый хор вокруг озер на птичий соберется слет.
Там сокол сменит свой убор, где ты, любимая, пройдешь.
«Увидишь — расскажи о ней!» — зарю упрашивает ночь.
«Касаться щек ее не смей!» — роса пылинку гонит прочь.
И все быстрей, и все вольней, восторги удержать невмочь,
Стрекозы, бабочки кружат — цветистый хоровод, точь-в-точь!
Там пчелы загудят сильней, где ты, любимая, пройдешь.
Весна моей мечты, приди, о ясноликая моя!
Ты вечно у меня в груди, жизнь без тебя не мыслю я.
Бутоны к жизни пробуди, тепло и свет вокруг струя.
Цветами взор наш услади, каракалпакская земля.
Там всяк весенней ласки жди, где ты, любимая, пройдешь!
Арба славы
Перевод Р. Казаковой
Коль свяжешься в пути с арбою славы,
То так и знай: беды не миновать!
И канет в пустоту твой голос слабый,
Когда, застряв, на помощь будешь звать.
Пусть обод украшает позолота
И весь навес из серебра на ней,
Твоя дорога — черная работа,
Тебе б арбу хоть проще, да прочней.
Здесь слева — горный кряж, обрывы — справа…
Колени ободрав о камни круч,
Узнаешь сразу, сколько весит слава,
Приняв на плечи тяжесть темных туч.
А те, кому отваги недостало
Достичь вершины волей и трудом,
Увидят ли, как трудно дышит слава,
Хватая воздух пересохшим ртом?
Передохнув на горном перевале,
Почувствуешь прилив внезапных сил,
Хотя готов был к этому едва ли
И у судьбы пощады не просил.
И больше ноги не болят натужно…
Ты победил. Окончена борьба.
И там, где транспорта совсем не нужно,
Тебя ждет славы странная арба.
И непомерно узкою тропою
Помчит тебя она в волшебный сон,
Которым над восторженной толпою
На краткий миг ты будешь вознесен.
Но пользы в ней — не больше, чем в игрушке,
А это не игра — твоя судьба.
…Когда в дорогу отправлялся Пушкин,
Его ждала обычная арба.
АЛЬГИМАНТАС БАЛТАКИС
(Род. в 1930 г.)
С литовского
{220}
«Я ухожу, как корабли уходят…»
Перевод Б. Окуджавы
Я ухожу, как корабли уходят
От берегов туманных и глухих.
И первый хмель во мне уже не бродит,
Дорога не связала нас двоих.
Я понимаю: тот туманный берег
Недолог был и ненадежен был…
А я в тот берег ненадежный верил,
Я руки твои белые любил.
Из плена красоты твоей осенней
Не выбраться, как из силка грачу.
Я и сейчас не верую в спасенье
И тайно по глазам твоим грущу.
А мне б умчать тебя, как ветер, к свету,
Под свежую соленую волну…
Еще я долго буду помнить это,
Еще не раз себя я прокляну.
А на губах твоих опять усмешка.
Чужая ты. Ты где-то там, вдали.
И, как корабль, у берега помешкав,
Я удаляюсь от твоей земли.
Быки моста
Перевод Б. Слуцкого
Взвалив на плечи мост,
Гранитные быки
Шагают поперек
Взбесившейся реки.
От напряжения
Спины сгибаются,
Но движение
Не прекращается.
Река из берегов
Весенним днем выходит,
И льдины бьют быков.
Быки же не уходят!
Стоят могучие,
Непобедимые.
Пускай забытые —
Необходимые.
Окна
Перевод Д. Самойлова
Окна солнце пьют взахлеб,
Как глаза, лучи вбирают.
А когда настанет ночь,
Сами весело сияют.
Словно радостная весть
Окон яркие квадраты.
Свет, что пили целый день,
Отдают после заката.
Так сменяется волна
В час прилива и отлива:
Волны моря — из залива,
Волны света — из окна.
Волшебная трава
Перевод Н. Мальцевой
Как сборщик целебных растений,
Согнувшись, кругами хожу.
Ту самую травку. Из сказки.
Редчайшую травку ищу.
Луга здесь обширны. Не просто
Траву отыскать средь травы.
Немало отбил я поклонов.
Да зря. Все не та и не та.
А рядышком — баба с мешками
Готовится к долгой зиме.
Все просто и, ясно. Не глядя,
Руками обеими рвет.
И, может быть, ей попадется
Моя ненароком. В мешок.
И, может быть, в качестве корма
Достанется травка козе.
Но втрое страшней, если нету
И вовсе такой на лугу.
Той самой. Волшебной. Из сказки.
Редчайшей на свете травы.
Память
Перевод В. Шацкова
Ты, может быть, чему-то был началом,
Что кончится беспамятно с тобой.
Мотив колес затих в ночи печальной,
Задушенный оглохшей тишиной.
Осядет пыль. Следы телеги шаткой
Весна затянет новою травой,
Но в запахе дурманящем и сладком
Воскреснет привкус горечи былой.
И в долгожданном ласковом молчанье
Вдруг голоса ушедших зазвучат,
С собою принося воспоминанья
Находок, узнаваний и утрат.
Скрываются в долинах расставаний
Начала всех истоптанных дорог.
Сомнения, победы и исканья
Покрыли сердце клинописью строк.
И кровоточат буквы. Бесполезно
Забвенья ждать от памяти больной —
Нет скальпеля нить прошлого обрезать,
Звенящую надорванной струной.
Вот музыка стареющего сердца,
Сигналы возраста, которых не сменить, —
Пусть новою мечтой не загореться,
Но старую не время хоронить.
Порой вздохнешь: как быстро жизнь промчалась!
Но сдержишь скорбь надеждою святой:
Ты, может быть, чему-то был началом,
Что не умрет беспамятно с тобой.
ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ
(Род. в 1930 г.)
{221}
Наше время
Не могу отмалчиваться в спорах,
если за словами узнаю
циников, ирония которых
распаляет ненависть мою.
И когда над пылом патриотов
тешатся иные остряки,
я встаю навстречу их остротам,
твердо обозначив желваки.
Принимаю бой!
Со мною вместе
встаньте здесь,
сыны одной семьи,
рыцари немедленного действия,
верные товарищи мои!
Встаньте вы,
слепяще белозубы,
с вами я мужал и вырастал,
станции Касторной жизнелюбы,
чьи ладони грубы, как металл!
Вас зову, — в мерцании коптилок,
реве гроз и топоте сапог, —
с кем потом судьба меня сводила
на вокзалах тысячи дорог.
Мы из тех, кто шел босой за плугом,
помогая старшим в десять лет,
кто в депо грузил тяжелый уголь,
чтоб пойти с любимой на балет,
кто, в себя до дерзости поверив,
в двадцать лет пластует целину
и в зрелости обдуманно намерен
повести ракету на Луну.
Принимаем имя одержимых!
Нам дремать по-рыбьи не дано, —
кровью, ударяющей по жилам,
сердце в наши будни влюблено.
Пусть во всем, что сделано моими,
твердыми ладонями,
живет
душу озаряющее имя,
знамя поколенья, —
патриот!
1955
АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН
(Род. в 1930 г.)
{222}
Береза
Звенел топор, потом пила.
Потом — последнее усилье.
Береза медленно пошла,
Нас осыпая снежной пылью.
Спилили дерево не зря, —
Над полотном, у края леса,
Тугие ветры декабря
Могли свалить его на рельсы.
Его спилили поутру.
Оно за насыпью лежало
И тихо-тихо на ветру,
Звеня сосульками, дрожало…
Зиме сто лет еще мести,
Гудеть в тайге, ломая сосны,
А нам сто раз еще пройти
Участок свой
По шпалам мерзлым.
И, как глухой сибирский лес,
Как дальний окрик паровоза,
Нам стал привычен темный срез —
Большая мертвая береза.
Пришла весна.
И, после вьюг
С ремонтом проходя в апреле,
Мы все остановились вдруг,
Глазам испуганно не веря:
Береза старая жила.
Упрямо почки распускались.
На ветках мертвого ствола
Сережки желтые качались!..
Нам кто-то после объяснил,
Что бродит сок в древесной тверди,
Что иногда хватает сил
Ожить цветами
После смерти…
Еще синел в низинах лед
И ныли пальцы от мороза,
А мы смотрели,
Как цветет
Давно погибшая береза.
1963
Утиные Дворики
Утиные Дворики — это деревня.
Одиннадцать мокрых соломенных крыш.
Утиные Дворики — это деревья,
Полынная горечь и желтый камыш.
Холодный сентябрь сорок пятого года.
Победа гремит по великой Руси.
Намокла ботва на пустых огородах.
Увяз «студебеккер» в тяжелой грязи.
Утиные Дворики…
Именем странным
Навек очарована тихая весь.
Утиные Дворики…
Там, за курганом,
Еще и Гусиные, кажется, есть…
Малыш хворостиной играет у хаты.
Утиные Дворики…
Вдовья беда…
Всё мимо
И мимо проходят солдаты.
Сюда не вернется никто никогда…
Корявые вербы качают руками.
Шуршит под копной
И медленно тают в белесом тумане
Одиннадцать мокрых
Соломенных крыш.
1966
«О Родина! В неярком блеске…»
О Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои проселки, перелески —
Все, что без памяти люблю:
И шорох рощи белоствольной,
И синий дым в дали пустой,
И ржавый крест над колокольней,
И низкий холмик со звездой…
Мои обиды и прощенья
Сгорят, как старое жнивье.
В тебе одной — и утешенье,
И исцеление мое.
1967
«Вот и снова мне осень нужна…»
Вот и снова мне осень нужна,
Красных листьев скупое веселье,
Словно добрая стопка вина
В час тяжелого, злого похмелья.
Вот и снова готов я шагать
По хрустящим бурьянам за город,
Чтобы долго и жадно вдыхать
Этот чистый целительный холод…
Тяжелее струится вода,
Горизонт недалек и прозрачен.
И полоскою тонкого льда
Тихий берег вдали обозначен.
А вокруг ни единой души.
И обрывы от инея белы.
И в заливе дрожат камыши,
Словно в сердце вонзенные стрелы.
1967
Ирине
В тумане плавают осины.
И холм маячит впереди.
Не удивленно и несильно
Дрожит душа в моей груди.
Вот так, наверно, и застыну,
И примет мой последний взгляд
Морозом схваченную глину
И чей-то вырубленный сад.
Издалека, из тьмы безгласной,
Где свет качается в окне,
Твой лик печальный и неясный
На миг приблизится ко мне.
Уже без вздоха и без мысли
Увижу я сквозь боль и смерть
Лицо, которое при жизни
Так и не смог я рассмотреть.
1967
«Осень, опять начинается осень…»
А. Твардовскому
Осень, опять начинается осень.
Листья плывут, чуть касаясь воды.
И за деревней на свежем покосе
Чисто и нежно желтеют скирды.
Град налетел. Налетел и растаял
Легким туманом в лесной полосе.
Жалобным криком гусиная стая
Вдруг всполошила домашних гусей.
Что-то печальное есть в этом часе.
Сосны вдали зеленей и видней.
Сколько еще остается в запасе
Этих прозрачных стремительных дней?
Солнце на миг осветило деревья,
Мостик, плотину, лозу у пруда.
Словно мое уходящее время,
Тихо в затворе струится вода.
1969
«Ржавые елки на старом кургане стоят…»
Ржавые елки
На старом кургане стоят.
Это винтовки
Когда-то погибших солдат.
Ласточки кружат
И тают за далью лесной.
Это их души
Тревожно летят надо мной.
1969
«Ты о чем звенишь, овес…»
И. Ж.
Ты о чем звенишь, овес,
На вечернем тихом поле?
От твоих зеленых слез
Сердце тает в сладкой боли.
И слышны во все концы
На последнем склоне лета
Тоненькие бубенцы
Из серебряного света.
Голоса сухой травы,
Голоса сырой дороги.
О покое, о любви,
О растаявшей тревоге.
О неведомой судьбе.
И о днях моих начальных.
И, конечно, о тебе.
О глазах твоих печальных.
1973
«Мелкий кустарник, — сырая осина…»
Мелкий кустарник, —
Сырая осина,
Синие ветки
В лесной полосе.
Тонкая, легкая
Сладость бензина
После заправки
На раннем шоссе.
А впереди —
Догорают березы.
Черная елка,
Сосна и ольха.
Тихое солнце
Глядит на покосы,
На побелевшие
За ночь луга.
Утренний иней,
Конечно, растает,
Снова откроется
Зелень травы.
Словно опять
Ненадолго настанет
Легкое время
Беспечной любви.
Милая женщина,
Грустная птица!
Все в этой жизни —
До боли всерьез.
Сколько еще
Оно может продлиться,
Это дыхание
Желтых берез?
Сколько еще
За твоими глазами
В кружеве этой
Последней листвы
Там, впереди,
За полями, лесами —
Жизни, печали,
Дороги, любви?…
1974
Т. Н. Яблонская. Хлеб. 1949
АЛЬФОНСАС МАЛДОНИС
(Род. в 1930 г.)
С литовского
{223}
Неринга
Перевод Д. Самойлова
Стоит меж двух морских волнений,
Меж двух бушующих брегов,
Как статуя, что создал гений,
Среди дождей и холодов.
С заката осенью безлунной
Задует ветер ледяной…
И дышат медленные дюны,
Омыты буйною волной.
А ночью лезут оголтело
На берег волны все лютей.
И белых дюн нагое тело
Изрыто оспою дождей.
С заката осенью безлунной
Задует ветер ледяной,
И дышат медленные дюны,
Омыты буйною волной.
1957
Начало рек
Перевод Cm. Куняева
Звучали то громче, то тише
Всю ночь соловьиные трели,
И взгляды, во тьме оступаясь,
Вслепую брели еле-еле.
И мысли во тьме, словно рыбы,
Когда им пора нереститься,
Все против теченья стремились,
Куда-то хотели пробиться.
Не спрашивая, безрассудно
Тянулись к началу, к истоку.
Без устали год за годом
Искали на ощупь дорогу.
Одну — как у птицы на север
К далеким родимым гнездовьям.
Одну — как у маленькой речки
К своим океанским низовьям.
1962
Самое дорогое
Перевод Cm. Куняева
Родились, подросли, созрели,
чтоб работать, жуя папиросу,
пока головы не поседели
и покамест нету склероза.
Так работай, пока смекалист,
думай думу свою упорно,
ты ведь не записан покамест
золотом на граните черном.
Так работай же неуклонно,
тихо, как подземные воды.
Если жизнь к тебе благосклонна,
то тебе оставляют годы
чувство творчества, чувство долга,
чувство цели, и чувство власти,
и работы ровно настолько,
чтобы хлеб твой сделался слаще.
1962
Перевод Н. Мальцевой
Мы говорим. Меж пальцев сигареты,
Как молнии домашние, храним.
Как будто наше назначенье в этом,
Страшась остановиться — говорим.
В клочки друг друга рвем, сорим словами
На сцене, на работе и во сне,
И наши тени под прожекторами
Комически шныряют по стене.
Но это — камуфляж и дань рекламе.
Сюжет — вне нас. И эпилог — за ним.
Хоть ты смешон и странен, в этой драме
Ты должен быть опорою другим.
А время, наш невидимый закройщик,
Другим слова и мысли передаст.
Придет герой. Без слов свершит геройство,
Вернув спектаклю ясность и контраст.
1965
Середина зимы
Перевод Ю. Левитанского
Следы саней, все боле их и боле,
и снег блестит чешуйками слюды.
В рассветный час отчетливее в поле
испуганные заячьи следы.
На белизне, окрестности укрывшей,
как восковой рисунок, предо мной
высокий дым над низенькою крышей,
колодец, словно холмик ледяной.
Давайте же, снега, запорошите
всего меня, и на исходе дня,
как будто вокруг дерева, спляшите
вокруг меня, снега, вокруг меня!
И пусть, как заклинаньем, в этом круге
я буду защищен от голосов
ночных зверей, что бродят по округе
в безмолвье коченеющих лесов.
1967
ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧУС
(Род. в 1930 г.)
Переводы А. Межирова
С литовского
{224}
Стена
Поэма города
(Отрывок)
Памяти моей матери
I
Снаружи дома старого,
К Стене,
В морщинах и рубцах,
Лишенной окон, —
К слепой Стене
На внутреннем дворе
Прижалось время,
Прислонилась вечность.
Вкось указатель —
Молния ночная,
Стрелы неоперенной чернота
Преследует и гонит
Человека
Во тьму, в извечный страх, —
Чтоб возвратить
Назад
На несколько тысячелетий.
Убежище
Стрела вопит истошно:
Нет ничего
И не было.
Вернись
В пещерный век, —
Тебе придется снова,
Ты должен будешь
Заново открыть
Все —
И топор,
И клинопись,
И бога.
РИСУЙ НА ЧЕРНОМ ВЫСТУПЕ СТЕНЫ
СВОЙ СТРАХ
В ОБЛИЧЬЕ ЗВЕРЯ
ИЛИ ВЫЙДИ
ЕМУ НАВСТРЕЧУ
И УБЕЙ ЕГО.
Вопит истошно
Молния ночная.
А рядом слово белое
Спокойно
Вещает:
РАЗМИНИРОВАНО.
Трудно
Уверовать душой в его реальность.
Оно такое белое,
Почти
Бессильное, как ЭТОТ
Вот ребенок,
Который в ЭТОТ миг
Среди двора
На ЭТУ Стену,
Как на доску в классе,
Внимательно глядит.
Потом подходит
И ржавой шляпкой старого гвоздя,
Осколком кирпича или гранаты
Вычерчивает первое, кривое
Аз, букву А.
Постигнуты азы,
Положено начало.
Ньютоны, Лобачевские, Сократы
{226} ,
Все ваши параллельные прямые,
Параболы, трапеции, углы
И этот исполинский знак вопроса,
Стоящий перед миром,
Все это разве не следы усилий
Убить свой страх
В обличье Динозавра,
Которого никто еще не видел,
Но о котором каждому известно:
Он существует…
Серая Стена
Изрезанного трещинами крова,
Как старый холст экрана,
Год за годом,
Не избегая современных средств,
Жизнь человека
Излагает скупо.
КОНЕЧНО, МЫ НЕРЕДКО УСТАЕМ
И ЧАСТО ОШИБАЕМСЯ.
КОНЕЧНО,
ВСЕ ЭТО ТАК, —
НО ВЗГЛЯДЫ ОТ СТЕНЫ
НЕ ОТРЫВАЕМ НИКОГДА,
СТАРАЯСЬ
ПОСТИГНУТЬ ТАЙНЫЙ СМЫСЛ,
ПОНЯТЬ ЕЕ.
Вильнюс, 1965
Кровь и пепел
Героическая поэма
(Отрывок)
Прелюдия
Была деревня — и деревни нет.
Ее сожгли живьем — со всеми,
Кто должен жить,
Кто должен умереть,
И с теми, кто на свет
Родиться должен.
Была деревня — и деревни нет.
Неправда!
Есть деревня эта.
Есть!
Она горит и по сей день,
Сегодня, —
И будет до тех пор гореть, пока
Те, кто поджег деревню эту, живы.
Так расступись, огонь,
Раздайся шире, пламя,
Дай мне взглянуть на тех, которые горят…
Вот парень… Разве он
Мне не сказал однажды:
— Мне эта жизнь нужна затем, чтоб мог я жить… —
Как много он хотел и как немного!
Мой брат, ровесник мой, и почему,
О, почему ты не сказал в тот день:
— Мне эта жизнь нужна, чтобы я мог бороться. —
Как горячо в моей груди!
Что там горит? Быть может, это сердце…
Гори, о сердце! Ты должно гореть,
Чтоб не сжигали никогда людей.
Дзукиец этот, он пахал в тот день,
Пар под озимые двоил напором плуга.
Его остановили. Борозду
Не дали кончить. Плуг, вонзенный в землю,
Так и остался в ней.
Но не ржавеет он,
Нет, не ржавеет, потому что в поле
Приходит еженощно тот дзукиец,
И, засучив дерюжные штаны,
Крестом он осеняется и пашет.
И протянулась эта борозда
От Пирчюписа к Панеряй,
От Панеряй к Освенциму, в Маутхаузен,
Она, как жизнь, длинна, та борозда,
И, как траншея жизни беспредельной,
Рвам смерти противостоит повсюду.
Пусть никогда не заржавеет плуг.
МОРИС ПОЦХИШВИЛИ
(Род. в 1930 г.)
С грузинского
{227}
Исповедь сердца
Перевод В. Сергеева
Бывает, что другие рады,
А у тебя горчит во рту…
Бывает, так устанешь за день,
Что и заснуть невмоготу…
Бывает, можно, как ни странно,
В лучах ушедших дней гореть…
Бывает, одного стакана
Довольно, чтобы опьянеть…
Бывает, что звезда над крышей
Луной взойдет в твоей мечте…
Бывает, что стихи твои же,
Коль издадут их — уж не те…
Бывает, ищешь и не видишь,
Бывает, видишь — не возьмешь…
Бывает, вдруг возненавидишь
То, что любить не устаешь…
Бывает, в голосе клокочет
Из сердца вытекшая грусть…
Бывает, показать не хочешь,
Что радость распирает грудь…
Бывает, путь прямой теряют,
Находят вдруг огонь в воде…
Бывает, ложь преуспевает
И плачет истина в беде…
Бывает, критик, славя краткость,
Длиннотой букву назовет…
Бывает, что тебя за храбрость
Умалишенным трус сочтет…
Бывает, ищешь и не видишь,
Бывает, видишь — не возьмешь…
Бывает, вдруг возненавидишь
То, что любить не устаешь…
Несется жизни колесница.
Мы — пассажирами сидим…
Хотим скорей
остановиться
И дальше двигаться спешим!
1960
«Сколько я должен страдать…»
Перевод Ю. Ряшенцева
Сколько я должен страдать,
чтоб не отвергли, виня?
Сколько я должен рыдать,
чтоб услыхали меня?
Сколько бежать от узды,
чтоб отдохнуть хоть чуток?
Сколько принесть мне воды,
чтобы мне дали глоток?
Сколько мне песен пропеть,
чтобы запел и другой?
Сколько тревожиться впредь,
чтоб у других был покой?
Чтобы, прощаясь с судьбой,
молвить без всякого зла:
— Жизнь, я доволен тобой!
Жизнь, ты прекрасной была!
1964
Жизнь
Перевод Ю. Ряшенцева
Коль захочу, вступлю я в волчью стаю
И буду жить в лесу, как волк.
Но верным псом твоим опять я стану
И верно свой исполню долг.
Я буду кости греть под солнцем красным,
С высокой крыши зарычу.
И стану я судьей твоим пристрастным,
Чтоб отомстить, коль захочу.
Коль захочу, вломлюсь, забыв о страхе,
К богам, в приют их неземной.
Коль захочу, то приколю к рубахе
Луну с кулак величиной.
Коль захочу, то подружусь хоть с чертом —
Смущенным душам на беду —
И миру возражу в порыве гордом,
Шутя на эшафот взойду.
Приму и крест. Пойду по суховею,
По долам края моего.
Но что необходимо — то имею.
А сверх — не надо ничего!
1967
Стремление
Перевод В. Луговского
Впереди опять дороги,
Снова горы впереди.
В сердце новые тревоги —
Сердце прежнее в груди!
Как вначале ты храбрился,
Лихо крыльями махал!
Но ведь то, к чему стремился,
Ты, достигнув, потерял!
Пламя страсти потушила,
Став реальностью, мечта.
Покоренная вершина —
Разве это высота?
Значит, снова за горами
Горизонт твоей мечты:
Разве пламя — это пламя,
Если в нем не вспыхнешь ты?
Разве требует награды
За победу
гордый дух?
Разве может слово правды
Быть не высказанным вслух?
Разве небо — это небо,
Если в небе не летать?
… Как прекрасно и нелепо —
Обрести, чтоб потерять!
В сердце новое волненье.
В мире буйствует апрель.
Цель — порой само стремленье
В большей степени, чем цель.
1970
«Последнее стихотворенье…»
Перевод А. Цыбулевского
Последнее стихотворенье
Свое — никому нарасхват!
Так пулю, попав в окруженье,
Себе оставляет солдат.
И я называюсь солдатом
И не покоряюсь врагу.
Последняя пуля — стаккато,
Ее для себя сберегу.
И солнце мое — песнопенье,
Во тьму переходит — любя.
Последнее стихотворенье —
Последняя пуля — в себя.
1974
ЮРИЙ АНКО
(1931–1960)
С эскимосского
{228}
Партия Ленина
Перевод В. Португалова
Наша земля холодна, словно лед,
Ей мало отпущено теплых дней,
Но любит, как сын, эту землю тот,
Кто родился и вырос на ней.
Не бойся тьмы! Чтоб в дороге помочь,
Чтоб нам в торосах навек не уснуть, —
В полярную непроглядную ночь
Партия Ленина осветит наш путь.
Чтоб ветер снегом нас не занес,
Чтоб лед не сковал нам навеки глаз, —
В полярную стужу, в лютый мороз
Партия Ленина согреет нас.
Партия нас оградит от беды,
Для партии — невозможного нет:
Партия скажет — и тают льды,
Партия взглянет — и всюду свет.
Партия скажет — и счастье придет,
Партия взглянет — заря горит…
«Спасибо!» — наш эскимосский народ
Партии Ленина говорит.
1959
ВИЗМА БЕЛШЕВИЦ
(Род. в 1931 г.)
С латышского
{229}
Черный вечер
Перевод В. Тушновой
Мрак наполнен горечью пахучей,
Вздохи листьев… Увяданья грусть…
Знаешь что? Наверно, даже лучше,
Если губ твоих я не дождусь.
Может, лучше тропкой одинокой
В спящей роще не бродить вдвоем…
Вечер слишком черный и глубокий, —
Вдруг и ты со мной утонешь в нем.
1955
Алые паруса
Перевод В. Тушновой
Памяти А. Грина
Каждый знает, что они когда-то
Выплывают из костра заката.
Не считала я одна часов
В ожиданье алых парусов.
Как-то в грустный одинокий вечер
Мачты брига вспыхнули далече.
Парусов алеющий цветок
В море света потонуть не мог.
Плыл ко мне он… Волны зеленели,
Как зеленые колокола звенели,
Только бриг свернул внезапно прочь
И ушел в синеющую ночь.
Паруса погасли. Боль застлала
Зренье мне. И мне понятно стало:
Оттого их поглотила мгла,
Что поверить в них я не смогла.
1956
Облако
Перевод Д. Самойлова
Родившись однажды в озерном тумане,
Оно еще долго хранит очертанье
Знакомых заливов, родимой излуки.
Но вот его ветер-завистник подхватит,
И облако первый свой облик утратит
В тревоге и боли насильной разлуки.
И рвет его ветер, и гонит, и злится,
И облако в непостоянстве томится
И хочет к себе возвратиться, но тщетно.
И смотрит в озера блуждающий облак.
Напрасно он ищет утраченный облик,
Он к прихотям ветра привык неприметно.
1957
«Море, спаси меня, я тону!..»
Перевод Н. Мальцевой
Море, спаси меня, я тону!
Горечь былых поцелуев и ласк
Рот заливает, и волны ее
Плотно смыкаются над головой.
Руки застряли в сетях ожиданья,
Воспоминанья сквозь пальцы струятся
Легким и призрачным, белым песком.
Кто мне соломинку с берега кинет?…
Море, иду к тебе! Чтобы щека,
Если и будет опять солона —
Только от пены горячей твоей!
Если вскричу, — значит, ветер в лицо
Больно ударил меня кулаком!
А затоскую под вечер с тобою —
Лишь оттого, что увижу закат,
Тяжкую смерть одинокого солнца…
Море, спаси меня! Ты одно —
Больше любви, необъятней тоски,
Пламенней ласки. К тебе я бегу,
С криком бросаюсь в зеленые волны —
Море, спаси меня, я тону!
Дай покачаться в твоей колыбели,
Чтобы, как прежде, стал твердой землей
Берег, изъеденный памятью сердца!..
1961
«Я горе выкричать могу корявой сливе…»
Перевод Л. Осиповой
Я горе выкричать могу корявой сливе.
К ее стволу, что в ранах весь, припав.
И ветви склонятся в слезах тяжелых синих.
Пока я выплачусь, замрут, меня обняв.
Могу зарыться с головой в седые травы,
Иль в рожь зеленую, что зреет на ветру,
И маки добрые спасительной отравой
Поделятся, и я забвенье обрету.
Но против взгляда твоего нет слез, нет стона.
Пчеле, что бьется о стекло, — как быть?
А мне как быть? Я улыбаюсь непреклонно,
Ну трудно ли, скажи, тебя любить?
1963
«Отлив житейский отступает в пене…»
Перевод Д. Самойлова
Отлив житейский отступает в пене,
Цепляясь за песок корявыми корнями.
На берегу — остатки отступленья,
Обычный сор, оставленный волнами.
В осколках чешуи и в пряже рыжей пены,
Как солнце в облаках — без блеска и без зноя, —
Кусочек янтаря лежит — один, бесценный.
Кусочек янтаря — сокровище морское.
О детство!.. Ты, смола, застывшая в узоре
Еловых игл… Какими долгими веками
Должно было тебя давить и мучить море,
Чтоб нежность леса превратилась в камень.
Сомкнулся круг. Волнами свет струится:
В песке тоска нетронутости стынет.
И берег ждет того, кто должен появиться.
И ждет янтарь того, кто вновь его подымет.
1963
«Знакомый, прости меня…»
Перевод Л. Осиповой
Знакомый,
Прости меня, когда не подаю руку.
Моя ладонь лежит
На пугливой шее оленя,
Лаская, хочет унять его дрожь,
Ведь оленю в городе страшно.
Не обижайся,
Если обхожу тебя на улице:
Твои ноги могут нечаянно растоптать желтое племя лисичек, —
Грибы ходят за мной,
Как нанизанный на веревочку детский сад.
Не сердись,
Если не слышу твоих слов,
Это голубые колокольчики
Назвонили мне полные уши
Радостями и горестями рощ.
А круглые щеки хлопушки лопнут,
Если она не выболтает
Всех сплетен соснового бора…
Хлопушка в бору — важная особа.
Не смотри на меня удивленно, знакомый,
И еще раз прости —
Я слишком часто забываю,
Что все, кто ходит за мной следом,
Не видны глазам города,
И ты меня вовсе не знаешь,
Знакомый…
1968
Созвездие Гончих Псов
Перевод Л. Осиповой
Душная слабость, тяжелое тело безвольно.
Вижу сквозь веки отблеск ушедшей грозы.
Гончие Псы, созвездье мое роковое,
Слышите мой молчаливый далекий призыв?
Стиснуло горло, мне сладко бездумье немое.
Сон пересилил, устала я звать и звать.
Гончие Псы, не давайте мне сна и покоя —
Кровь мою будет ленивую скоро земля лакать.
В теплую землю вросла, оторвите скорее!
Вместе наш путь — через ночь — на рассвет.
Веки открыла, гляжу — высота пламенеет,
Гончие Псы, это ваш милосердный и яростный свет.
1970
ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ
(Род. в 1931 г.)
{230}
«Не плачь ты, осень, безутешно…»
Не плачь ты, осень, безутешно,
как перед злом, перед бедой, —
я знаю, ты бываешь нежной
и золотой, и золотой.
Пустынны голые долины,
ни стебелька, ни колоска…
Лишь отголосок журавлиный
издалека, издалека.
Твоих волос коснулся ветер,
упали тени на лицо.
Но все еще на зорьке светит
твое кольцо, мое кольцо…
Мелькают дни, выходят сроки,
и мы внезапно узнаем,
как трудно в осень одиноким,
но мы вдвоем, но мы вдвоем…
Листок последний на березе…
Выходит лето из игры.
Последний луч бросает в осень
из-за горы, из-за горы…
Сил не хватает для улыбки.
Возьму у дождика струну,
сыграю что-нибудь на скрипке
про ту весну, про ту весну…
Старая пластинка
Вращался диск, и голос вкрадчивый
был как засушенный цветок.
Плыла мелодия прозрачная,
не потревожив городок.
Был вечер теплый перед осенью,
и голос был — под стать ему…
Вращалось певчее колесико
в старинной песне, как в дыму.
А шум иглы — дыханье сиплое
крылатых лет… И вспомнил я:
так пела женщина красивая —
тревога давняя моя.
Еще в войну, в каком-то сборище,
где был у взрослых патефон,
ее услышал я, и ноюще
рванулось сердце ей вдогон!
Ах, эти грезы! Не нелепо ли?
Восторга сколько! Все в песок…
Наверно, женщины и не было,
а был всего лишь голосок —
мечта, украшенная звуками…
Но ведь была! И сквозь судьбу
еще не раз меня аукала,
звала с дороги на тропу.
…Вращался диск, печаль раскручивал,
и голос бился, как слепой,
над той рекой, над той излучиной,
где мы не свиделись с тобой…
Рубежи
Беспристрастно, как птица с вершины полета,
без добра или худа, без правды и лжи
я гляжу на бегущие в рвах и болотах,
на шуршащие в скалах ничьи рубежи.
Зеленеют солдаты. Торжественно мокнут.
Полосатый шлагбаум ложится на путь…
А в ничейном кустарнике птицы не молкнут,
всепланетные песни терзают им грудь.
Вечереют солдаты… Торжественны лица.
Я гляжу беспристрастней, чем каменный пик.
А земля, будто в трещинах, в этих границах,
подо мною, растущим к звезде напрямик!
Собираю глазами наземные краски,
запираю себя на амбарный замок…
И срываюсь! И бьюсь! Не могу беспристрастно…
И на русскую землю валюсь, как щенок.
Обнимаю корявую старую вербу,
поднимаю над полем себя, как свечу…
И в стальную, пшеничную, кровную — верю!
И вовек никому отдавать не хочу.
ИСХАК МАШБАШ
(Род. в 1931 г.)
С адыгейского
{231}
Самшитовая трубка
Перевод Л. Бахаревой
Самшитовая трубка, ты поведай
О думе своей тысячелетней,
Поведай о сраженьях и победах,
О первой радости и о беде последней.
Скажи, с кем разделила ты разлуку,
Улыбку чью и чей изгнанья стыд?
Ты расскажи о той стреле из лука,
Что до сих пор в истории летит.
О топоре, о ложке расскажи,
О первом колесе, бегущем и поныне,
Скажи о простодушии и лжи,
И о слезе — как роднике в пустыне.
Самшитовая трубка, песнь моя,
Все расскажи не ложными словами.
Хочу узнать, хочу услышать я,
Как ты курилась сладкими дымами
В минуты и веселья и удач.
А иногда была пустой — хоть плачь!
Поведай о могилах наших предков,
Лежащих в перекрестье горных троп.
О трудной человеческой работе,
О человеке, чей огромный лоб
Вместил в себя вселенские заботы.
Поведай мне о воинах погибших,
О мире, совершенства не достигшем,
Но рвущемся ежесекундно ввысь —
Как твой дымок, как жесткий лист травы,
Самшитовая трубка, разве нам —
Потомкам, — разве нам легко бывает?
Порою нас неправда убивает,
А сами преграждаем путь смертям.
Самшитовая трубка, песнь моя,
Ты не грусти. Ведь мир вокруг прекрасен.
Он труден, мир, порою он неясен.
Но что сравнить с отрадой бытия!
1964
ТАЙСТО СУММАНЕН
(Род. в 1931 г.)
С финского
{232}
Сон
Перевод Т. Стрешневой
Сегодня мне припомнилось сполна
То, что недавно видел я во сне:
Картину под названием «Война»
Я будто бы пишу на полотне.
Пишу не мертвых в зелени травы,
Не танк, молчащий,
как железный склеп,
А только руки будущей вдовы
И на столе пайковый серый хлеб.
И за движеньем бережным ножа,
Что делит этот хлеб на четверых,
Следят ее детишки не дыша,
И даже самый меньшенький притих.
Сидит он в люльке и глядит на мать.
Еще не ходит,
хил,
большеголов.
«Хлеб, хлеба!» —
не устал он повторять
И больше никаких не знает слов.
Проснулся я.
Снежок лучисто-бел,
Прозрачная, нетронутая тишь, —
Лишь паровоз далеко прогудел,
Спит сладким сном румяный мой малыш.
Зима и солнце искрятся в окне,
Сугробов розоватая гряда.
Мой мальчик спит…
И даже пусть во сне
Войны он не увидит никогда.
1967
ФАЗУ АЛИЕВА
(Род. в 1932 г.)
С аварского
{233}
«Ты мне сказал…»
Перевод И. Лиснянской
Ты мне сказал:
— Любимая, смотри,
как стало сердце, точно птица,
беспомощно и безнадежно биться
в плену твоем с зари и до зари!
— О, что ты говоришь?!
Я не силок,
опутавший тебе внезапно ноги,
и не гляди ты на меня в тревоге,
как пленный сокол!
Нет, я не силок.
Свобода я твоя,
и ты лети
в свой синий мир, в свой океан воздушный.
Кроме полета твоего, не нужно
мне ничего на жизненном пути.
А если ослабеют два крыла,
сама твоими крыльями я стану,
не дам сгуститься над тобой туману:
твоя свобода —
я всегда светла.
Ты мне сказал:
— Любимая, смотри,
вернуть покой душе не удается.
как пойманная рыбка, сердце бьется
в твоем плену с зари и до зари.
— О, что ты говоришь!
Я не крючок
с заманчивой губительной наживкой.
Не трепещи ты пойманною рыбкой,
не задыхайся!
Нет, я не крючок.
Свобода я твоя.
И ты плыви
в зеленые бунтующие воды.
Свобода я твоя.
А без свободы
нет для тебя и для меня любви!
1971
НИКОЛАЙ ДАМДИНОВ
(Род. в 1932 г.)
С бурятского
{234}
Сосна
Перевод Б. Окуджавы
1
Я представляю это так:
лет сто тому назад
Под всадником споткнулся конь, подкова зазвенела,
И пыль взлетела, и, дрожа, взглянул во тьму бурят:
В полночной тьме сосна пред ним какая-то синела.
Сосна?… Наверно, неспроста споткнулся вороной.
И ворон неспроста, видать, кричал во мраке.
И всадник вытащил тогда сосуд берестяной
И ровно на десять сторон плеснул хмельной араки.
Еще с рожденья знал степняк, что духов гнев жесток,
Что если вдруг споткнулся конь —
того и жди прорухи…
Он привязал к ветвям сосны поярче лоскуток,
Чтоб подобрели наконец разгневанные духи.
С тех пор прославилась сосна
как темных сил жилье.
И, одинокая, она жила в степи сожженной.
И всяк поярче лоскуток цеплял к ветвям ее,
И каждый голову склонял пред нею униженно.
А дождь хлестал, и сыпал снег, и наползал туман,
И у соснового ствола,
вертлявый, словно дьявол,
В тарелки медные гремел и бушевал шаман,
И сам грозил, и сам рядил, и сам судил и правил.
2
А годы плыли, как орлы, неслыханным грозя,
Сосна дремала,
на веку перевидав немало.
И вдруг ударила гроза под самые глаза,
Полуистлевшую давно повязку с глаз сорвала.
И пулемет стучал в степи,
нетерпеливый, злой.
И пена падала плашмя, с боков коней слетая,
И знамя красное взвилось над древнею землей,
А славы каппелевской дым в суровом небе таял.
И вот, роняя лоскутки, как перья из крыла,
Сосна стояла, накренясь, как древний черный ворон,
Тарелка медная, упав, к ногам ее легла,
А мимо новый день шагал,
как победивший воин.
Все меньше шло к сосне людей
по тропкам завитым,
Уже осталась в ней нужда немногим старцам ветхим.
Нелепой сказкою она казалась молодым,
Нелепой, словно лоскутки,
привязанные к веткам.
3
И вот однажды странный гул глухую степь потряс,
А это плыли трактора,
и это означало,
Что старой жизни в той степи последний пробил час,
Что гулкий говор тракторов —
иной поры начало.
Устало рухнула сосна, и встала пыль стеной,
И степь вздохнула глубоко, и степь помолодела…
И я пришел сюда опять.
И вот передо мной —
Пшеницы золотой прибой.
И нет ему предела…
РИММА КАЗАКОВА
(Род. в 1932 г.)
{235}
«Из первых книг, из первых книг…»
Из первых книг, из первых книг,
которых позабыть не смею,
училась думать напрямик
и по-другому не сумею.
Из первых рук, из первых рук
я получила жизнь, как глобус,
где круг зачеркивает круг
и рядом с тишиною — пропасть.
Из первых губ, из первых губ
я поняла любви всесильность.
Был кто-то груб, а кто-то глуп,
но я — не с ними, с ней носилась!
Как скрытый смысл, как хитрый лаз,
как зверь, что взаперти томится,
во всем таится Первый Раз —
и в нас до времени таится.
Но хоть чуть-чуть очнется вдруг,
живем — как истинно живые:
из первых книг, из первых рук,
из самых первых губ, впервые.
«Россию делает береза…»
Россию делает береза.
Смотрю спокойно и тверезо,
еще не зная отчего,
на лес с лиловинкою утра,
на то, как тоненько и мудро
береза врезана в него.
Она бела ничуть не чинно,
и это главная причина
поверить нашему родству.
И я живу не оробело,
а, как береза, черно-бело,
хотя и набело живу.
В ней есть прозрачность и безбрежность,
и эта праведная грешность,
и чистота — из грешной тьмы, —
которая всегда основа
всего людского и лесного,
всего, что — жизнь, Россия, мы.
Березу, как букварь, читаю,
стою, и полосы считаю,
и благодарности полна
за то, что серебром черненым
из лип, еловых лап, черемух,
как в ночь луна, горит она.
Ах ты, простуха, ах, присуха!
Боюсь не тяжкого проступка,
боюсь, а что, как, отличив
от тех, от свойских, не накажут
меня березовою кашей,
от этой чести отлучив…
А что, как смури не развеет
березовый горячий веник,
в парилке шпаря по спине…
Люби меня, моя Россия,
Лупи меня, моя Россия,
да только помни обо мне!
А я-то помню, хоть неброска
ты, моя белая березка,
что насмерть нас с тобой свело.
И чем там душу ни корябай,
как детство, курочкою рябой,
ты — все, что свято и светло.
«Мой рыжий, красивый сын…»
Мой рыжий, красивый сын,
ты красненький, словно солнышко.
Я тебя обнимаю, сонного,
а любить — еще нету сил.
То медью, а то латунью
полыхает из-под простыночки.
И жарко моей ладони,
в холодной палате простынувшей.
Ты жгуче к груди прилег
головкой своею красною.
Тебя я, как уголек,
с руки на руку перебрасываю.
Когда ж от щелей
в ночи
крадутся лучи по стенке,
мне кажется, что лучи
летят от твоей постельки.
А вы, мужчины, придете —
здоровые и веселые.
Придете, к губам прижмете
конвертики невесомые.
И рук, каленных морозцем,
работою огрубленных,
тельцем своим молочным
не обожжет ребенок.
Но, благодарно сжавши
в ладонях, черствых, как панцирь,
худые, прозрачные наши,
лунные наши пальцы,
поймете, какой ценой,
все муки снося покорно,
рожаем вам пацанов,
горяченьких,
как поковка!
«Быть женщиной — что это значит?..»
Быть женщиной — что это значит?
Какою тайною владеть?
Вот женщина. Но ты незрячий.
Тебе ее не разглядеть.
Вот женщина. Но ты незрячий.
Ни в чем не виноват, незряч!
А женщина себя назначит,
как хворому лекарство — врач.
И если женщина приходит,
себе единственно верна,
она приходит — как проходит
чума, блокада и война.
И если женщина приходит
и о себе заводит речь,
она, как провод, ток проводит,
чтоб над тобою свет зажечь.
И если женщина приходит,
чтоб оторвать тебя от дел,
она тебя к тебе приводит.
О, как ты этого хотел!
Но если женщина уходит,
побито голову неся,
то все равно с собой уводит
бесповоротно все и вся.
И ты, тот истинный, тот лучший,
ты тоже — там, в том далеке,
зажат, как бесполезный ключик
в ее печальном кулачке.
Она в улыбку слезы спрячет,
переиначит правду в ложь…
Как счастлив ты, что ты незрячий
и что потери не поймешь.
«Писатели, спасатели…»
Писатели,
спасатели, —
вот тем и хороши, —
сказители,
сказатели,
касатели души.
Как пламя согревальное
в яранге ледяной,
горит душа реальная
за каждою стеной.
Гриппозная,
нервозная,
стервозная,
а все ж —
врачом через морозную
тайгу —
ты к ней идешь.
Болит душа невидимо.
Попробуй, боль поправ,
поправить необидимо,
как правит костоправ.
Как трудно с ним, трагическим,
неловким, словно лом,
тончайшим, хирургическим,
капризным ремеслом.
Чертовская работочка:
тут вопли, там хула…
Но первый крик ребеночка —
святая похвала.
На то мы руки пачкаем,
скорбим при ночнике,
чтоб шевельнул он пальчиком
на розовой ноге.
МУМИН КАНОАТ
(Род. в 1932 г.)
С таджикского
{236}
Наша правда
Перевод С. Липкина
О нет, не святые мы, не чудотворцы,
Не сказочных войск силачи-ратоборцы.
О наших делах говорят как о чуде,
Но мы только люди, обычные люди.
Лишь правдой сильны мы, лишь правдой земною,
Ее оценили мы жизни ценою.
До уровня солнца ее поднимая,
Мы знаем, что светит нам правда живая,
Что наши она озарила дороги,
Всем людям понятен язык ее строгий.
А ну-ка, противник, пылающий злобой,
Взглянуть нашей правде в глаза ты попробуй!
1957
Огонь любви
Перевод С. Липкина
Любовь — это жгучее пламя тревоги,
Оно тебя жжет, но желанны ожоги.
Подальше уйдешь от огня — ты спасен,
Но этот, бездымный, что скрытно зажжен, —
Чем дальше, тем жжет он сильней, без сомненья;
От пламени этого нету спасенья!
1958
Трибуна мира
Перевод С. Липкина
Дошло предание до нас,
Что некогда гора Парнас,
Травой покрыта вечно юной,
Была священных муз трибуной.
Когда, в давно прошедший век,
Был первым древний мудрый грек,
Весь мир, который беспределен,
Внимал тому, что скажет эллин.
Но высох Греции родник,
Увял в ее горах цветник,
И утвердились в эти годы
Иноязычные народы.
Всех музыкой своей строки
Пленил волшебник Рудаки
{237} .
Слова сдались ему на милость,
Пред ним величие склонилось.
Могу ли я, простой таджик,
Судить, насколько он велик?
Но для певца, чья мысль блистала,
Трибуной Крыша Мира стала.
1958
Мое наследство
Перевод С. Липкина
Случалось, что плут, применяя бесчестные средства,
Полмира захватывал сыну и внуку в наследство.
Другому и недра земные, и моря соседство,
Поместья, сады и поля доставались в наследство.
Случалось, что брат жаждал крови и гибели брата,
Как будто им было двоим на земле тесновато…
Но мне мой отец не оставил ни денег, ни клада,
А то, чему веса, и меры, и счета не надо.
Мне жизнь мою только отец мой оставил в наследство,
Велел он сокровище это беречь с малолетства.
Я именем честным отцовским клянусь, что отчизне,
Родному народу отдам я сокровище жизни!
1958
Таджикский язык
Перевод С. Липкина
Ты ищешь разум или радость? И то и это в нем найдешь.
Ты ищешь горечь или сладость? И то и это в нем найдешь.
Фарси, дари или таджикский — его как хочешь назови:
Он для меня язык искусства, неумирающей любви.
Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком, —
Стал для меня он материнским, благословенным молоком.
Не назову его иначе, ища сравненья вновь и вновь:
Он материнская забота и материнская любовь.
Вот почему язык таджикский, с его певучей простотой,
Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.
1963
Утренний родник
Перевод О. Дмитриева
Ты течешь на заре из улыбок цветов,
нежен, светел, прозрачен…
От пристальных глаз
ты мгновенно за камень укрыться готов,
как горянка, своей красоты застыдясь.
Золотой аромат источает волна!
О твоей чистоте надо ль спрашивать мне,
коль смешались в тебе все цветы и цвета?
Ты молчишь, сто мелодий тая в глубине.
Как ты сладок, какого изящества полн!
Ты игривей красавиц Дарваза
{238} , родник!
Я губами коснусь твоих ласковых волн
и из сердца печаль изгоню в тот же миг.
Я напьюсь и туда, где сухая земля,
унесу твою часть по наклонной тропе.
Я зеленым сияньем украшу поля,
друг всего молодого, в подарок тебе!
1965
М. В. Данциг. Мой город Минск. 1967
СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ
(Род. в 1932 г.)
{239}
«Непонятно, как можно покинуть…»
Непонятно, как можно покинуть
эту землю и эту страну,
душу вывернуть, память отринуть
и любовь позабыть, и войну.
Нет, не то чтобы я образцовый
гражданин или там патриот —
просто призрачный сад на Садовой,
бор сосновый да сумрак лиловый,
темный берег да шрам пустяковый —
это все лишь со мною уйдет.
Все, что было отмечено сердцем,
ни за что не подвластно уму.
Кто-то скажет: — А Курбский? А Герцен? —
Все едино я вас не пойму.
Я люблю эту кровную участь,
от которой сжимается грудь.
Даже здесь бессловесностью мучусь,
а не то чтобы там где-нибудь.
Синий холод осеннего неба
столько раз растворялся в крови —
не оставил в ней места для гнева —
лишь для горечи и для любви.
«Сквозь слезы на глазах…»
Владимиру Соколову
Сквозь слезы на глазах и сквозь туман души
весь мир совсем не тот, каков он есть на деле.
Свистят над головой бесшумные стрижи,
несутся по песку стремительные тени.
Сквозь слезы на глазах вся жизнь совсем не та,
и ты совсем не та, и я совсем другою
тебя люблю всю жизнь, — какая слепота! —
уж лучше осязать твое лицо рукою.
Была одна мечта — подробно рассказать
о том, что на земле и на душе творится,
но слишком полюбил смеяться и страдать,
а значит, из меня не вышло очевидца.
А время шло. Черты подвижного лица
сложились навсегда, навеки огрубели.
Смешно, но это так: не понял до конца
ни женских голосов, ни ласточкиной трели.
А если понимал хоть на единый миг,
а если прозревал хотя бы на мгновенье,
то многого хотел — чтоб этот шумный мир
мне заплатил сполна за каждое прозренье.
Об этом обо всем я размышлял в глуши
под сиротливый звук полночного напева…
Сквозь слезы на глазах и сквозь туман души
надежнее всего глядеть в ночное небо.
Где вечный свет луны и Млечного огня,
и бесконечность мглы, и вспышек моментальность
оправдывают все, что в сердце у меня, —
мой невеликий мир, мою сентиментальность.
«От Великой ГЭС до Усть-Илима…»
От Великой ГЭС до Усть-Илима
вечных сосен черная гряда,
красная строительная глина,
светлая байкальская вода…
Я люблю тебя, большое время,
но прошу — прислушайся ко мне:
не убей последнего тайменя,
пусть гуляет в темной глубине.
Не губи последнего болота,
загнанного волка пощади,
чтобы на земле осталось что-то,
от чего щемит в моей груди.
Пусть она живет счастливой болью
и, прочтя свой жребий в небесах,
всю земную волю и неволю
в должный час благословит в слезах…
День и ночь грохочут лесовозы.
День и ночь в пустынный небосвод
сладкий дым ангарской целлюлозы
величавым облаком плывет.
«Облака плывут в Афганистан…»
Облака плывут в Афганистан,
Туполанг течет к Афганистану…
Я еще от жизни не устал
и до самой смерти не устану.
Я подкрался, словно в забытьи,
по гранитной осыпи к обрыву
и рывком из бешеной струи
выбросил сверкающую рыбу.
И, очаг под камнем разведя,
захмелел от золотого чаю…
Отвечаю только за себя —
больше ни за что не отвечаю!
Отвечаю, что не пропаду,
не сорвусь ни в пропасть и ни в реку…
С деревом и с пламенем в ладу
хорошо живется человеку.
Без людских печалей и потерь
Я бы одиноким и свободным
прожил век, когда бы, как форель,
сердце было сильным и холодным.
«Цокот копыт на дороге…»
Цокот копыт на дороге,
дальних колес перестук —
звук довоенный, далекий,
доисторический звук.
Некогда в детстве рожденный
влагой, землей, тишиной…
И навсегда заглушенный
временем, жизнью, войной.
«Увидеть родину весной…»
Увидеть родину весной,
апрельским утром, в первый зной,
с разноголосицей грачей, с
последним холодком заречным,
с потрескиванием свечей
в ночь пасхи, с грудой новостей,
рассказанных случайным встречным.
Проснуться и услышать вдруг,
как заливается петух,
и удивиться наблюденью,
что пахнет в городе твоем
и свежевымытым бельем,
и сладким дымом, и сиренью…
Увидеть родину, когда
она темна и холодна,
и груды огненной листвы,
смешавшись с черною листвою,
на иней мраморной плиты
летят, и понимаешь ты,
что пахнет в воздухе зимою.
«Живем мы не долго…»
Живем мы не долго, — давайте любить
и радовать дружбой друг друга.
Нам незачем наши сердца холодить,
и так уж на улице вьюга!
Давайте друг другу долги возвращать,
щадить беззащитную странность,
давайте спокойной душою прощать
талантливость и бесталанность.
Ведь каждый когда-нибудь в небо глядел,
валялся в больничных палатах.
Что делать? Земля наш прекрасный удел —
ищи среди нас виноватых.
«Добро должно быть с кулаками…»
Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемет,
что смысл истории в конечном
в добротном действии одном —
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром.
ЛЕОНИД ЛАПЦУЙ
(Род. в 1932 г.)
С ненецкого
{240}
Время
Перевод Л. Чикина
Двадцатое столетие, ты смело
Над зыбкими туманами шагало,
Над валунами снежными звенело
И над холмистой тундрою Ямала.
Стрелою ты звенящею взлетало
Из луков дедовских — отживших, грозных.
И, вновь рожденное зарею алой,
Рванулось в космос, к отдаленным звездам.
Столетие «Востоков» и «Восходов»,
На крыльях мысли, что быстрее света,
Ты на рубеж двухтысячного года
Проносишься космической ракетой.
Тебе поможет крыльев взмах железный,
И ветер над тобою будет реять.
Но только с мыслью спорить бесполезно —
Она летит во много раз быстрее.
К мирам далеким, по годам-ступеням
Лети, тебя направит мысли гений.
И, может быть, в двухтысячные годы
Ты будешь гостьей на Луне желанной
Сил набираться перед новым взлетом.
Но — торопись! Стремись к своим высотам
Всечасно, ежедневно, постоянно.
1966
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
(Род. в 1932 г.)
{241}
Таежные цветы
Не привез я таежных цветов —
извини.
Ты не верь,
если скажут, что плохи
они.
Если кто-то соврет,
что об этом читал…
Просто,
эти цветы
луговым не чета!
В буреломах,
на кручах
пылают, жарки,
как закат,
как облитые кровью желтки.
Им не стать украшеньем
городского стола.
Не для них
отшлифованный блеск хрусталя.
Не для них!
И они не поймут никогда,
что вода из-под крана —
это тоже вода…
Ты попробуй сорви их!
Попробуй сорви!
Ты их держишь,
и кажется,
руки в крови!..
Но не бойся,
цветы к пиджаку приколи…
Только что это?
Видишь —
лишившись земли,
той,
таежной,
неласковой,
гордой земли,
на которой они
на рассвете взошли,
на которой роса
и медвежьи следы, —
начинают стремительно вянуть
цветы!
Сразу гаснут они!
Тотчас гибнут они!..
Не привез я
таежных цветов.
Извини.
1958
Подкупленный
«Все советские писатели подкуплены…»
Так пишут о нас на Западе
Я действительно подкуплен.
Я подкуплен.
Без остатка.
И во сне.
И наяву.
Уверяют советологи:
«Погублен…»
Улыбаются товарищи:
«Живу!..»
Я подкуплен
ноздреватым льдом кронштадтским.
И акцентом коменданта-латыша.
Я подкуплен
военкомами гражданской
и свинцовою водою Сиваша…
Я еще подкуплен снегом
белым-белым.
Иртышом
и предвоенной тишиной.
Я подкуплен кровью
павших в сорок первом.
Каждой каплей.
До единой.
До одной.
А еще подкуплен я костром.
Случайным,
как в шальной игре десятка при тузе.
Буйством красок Бухары.
Бакинским чаем.
И спокойными парнями с ЧТЗ…
Подкупала
вертолетная кабина,
ночь
и кубрика качающийся пол!..
Как-то женщина пришла.
И подкупила.
Подкупила —
чем? —
не знаю
до сих пор.
Но тогда-то жизнь
я стал считать по веснам.
Не синицу жду отныне,
а скворца…
Подкупила дочь
характером стервозным, —
вот уж точно,
что ни в мать и ни в отца…
Подкупил Расул
насечкой на кинжале.
Клокотанием —
ангарская струя.
Я подкуплен и Палангой,
и Кижами.
Всем, что знаю.
И чего не знаю
я…
Я подкуплен зарождающимся словом,
не размененным пока на пустяки.
Я подкуплен
Маяковским и Светловым.
И Землей,
в которой сбудутся стихи!..
И не все еще костры отполыхали.
И судьба еще угадана не вся…
Я подкуплен.
Я подкуплен с потрохами.
И поэтому купить меня
нельзя.
1969
«На Земле безжалостно маленькой…»
На Земле
безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба
маленькая
и маленький очень портфель.
Получал он зарплату
маленькую.
И однажды
прекрасным утром
постучалась
к нему в окошко
небольшая —
казалось —
война…
Автомат ему выдали маленький,
сапоги ему выдали маленькие,
каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.
…А когда он упал —
некрасиво, неправильно —
в атакующем крике
вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный
рост!
1969
«— Отдать тебе любовь?..»
— Отдать тебе любовь?
— Отдай!
— Она в грязи…
— Отдай в грязи!..
— Я погадать хочу…
— Гадай.
— Еще хочу спросить…
— Спроси!..
— Допустим, постучусь…
— Впущу!
— Допустим, позову…
— Пойду!
— А если там беда?
— В беду!
— А если обману?
— Прощу!
— «Спой!» — прикажу тебе…
— Спою!
— Запри для друга дверь…
— Запру!
— Скажу тебе: убей!..
— Убью!
— Скажу тебе: умри!..
— Умру!
— А если захлебнусь?
— Спасу!
— А если будет боль?
— Стерплю!
— А если вдруг — стена?
— Снесу!
— А если — узел?
— Разрублю!
— А если сто узлов?
— И сто!..
— Любовь тебе отдать?
— Любовь!..
— Не будет этого!
— За что?!
— За то, что
не люблю рабов.
1969
Баллада о красках
Был он рыжим,
как из рыжиков — рагу.
Рыжим, словно апельсины на снегу.
Мать шутила,
мать веселою была:
«Я от солнышка сыночка родила!..»
А другой был черным-черным у нее.
Черным,
будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она,
говорила:
«Слишком ночь была черна!..»
В сорок первом,
сорок памятном году
прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба-двое, соль Земли —
поклонились маме в пояс.
И ушли.
Довелось в бою почуять молодым
рыжий бешеный огонь
и черный дым,
злую зелень застоявшихся полей,
серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба-двое, два крыла
воевали до победы.
Мать ждала.
Не гневила,
не кляла она судьбу.
Похоронка
обошла ее избу.
Повезло ей.
Привалило счастье вдруг.
Повезло одной
на три села вокруг.
Повезло ей.
Повезло ей!
Повезло! —
Оба сына
воротилися в село!
Оба сына.
Оба-двое.
Плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком — к плечу плечо,
Руки целы, ноги целы — что еще?
Пьют зеленое вино, как повелось…
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы
смертельной белизны!
Видно, много
белой краски
у войны.
1972
ВЛАДИМИР ЦЫБИН
(Род. в 1932 г.)
{242}
Сказочное
В темноте почти,
в тесноте,
на печи —
на теплое место —
к домашнему солнышку
сказки сели погреться:
ребрышко к ребрышку.
Чтоб не смог
сон уломать —
сказку сказывает мать:
— Ты не спи, малышка ушлый,
ты не спи. И сказку слушай:
птицы спят в ветвях густых —
этой сказки нет у них!
Если будешь слушать смирно,
без шлепков
и без хлопот, —
на свои на именины
тебя месяц позовет,
старый, добрый месяц лысый
под студеной шубой лисьей,
он с подоблачных высот
звезд пригоршню сыпанет
в обе руки, в обе горсти!
Нет?
Тогда другую в гости
приглашу, скажу: «Пожалуй!»
Накладу в печь больше дров,
принесет она, пожалуй,
целую подушку снов!
На печи,
на сугре ве
сказки новые сели,
сказки сели, как гуси,
кличу их: «Гули-гули!..»
Сказки слушаю, надеясь,
что придет с войны отец…
За окошком нашим месяц
тает,
будто леденец.
Вьюга ходит
вкось
по снегу,
так лишь ходит
лось
по следу, —
жж! —
и вот уже с кита
встала новая скирда!
На заре узоры гладки,
на окне морозный пух…
Сказки словно на салазки
посадили меня — ух!
Через зимы,
через ветры
я лечу,
лечу,
лечу,
через рощи, что одеты
в черно-бурую лису!
Через веси, через песни!..
Стоп! У нашего двора.
На печи как будто в пекле —
от сосновых дров жара,
на печи как будто в марте!
Укачав, как на возу,
вороной каленой масти
сон в глазах наспал слезу…
И, уставший, как от гонки,
как набегавшись в лапту,
сказки глажу я по холке
и под бок их греть кладу!
Печь, вся жаром залитая,
будет доброй до утра.
Сказки глажу,
засыпая:
— Спите, сказки! Спать пора!
1963
Последняя солдатка
В избе, где нет без мужика достатка,
на самой крайней улице села
она живет —
последняя солдатка,
степенна, крепкотела и бела.
Ни матери, ни мужа, ни ребенка —
кругом одна уже который год,
и лишь порой нетрезвый мужичонка
на огонек привычно забредет.
— Кто там? — на стук откликнется охотно,
а у самой забьется вдруг в груди.
— Я так, Марина, вижу, светят окна,
на разговор… Чтоб душу отвести. —
Поставит чай, поправит наспех платье,
отсядет в тень от строгого огня,
податливой улыбкою
и статью
ночного посетителя дразня.
К такой носить не водку, а подарки
и душу открывать свою в тоске.
А он глядит, как нежно дышат ямки
на правом и на левом локотке,
разглядывает молча, без заминки,
как дышит всею грудью тяжело,
как медленно стекает по ложбинке
от шеи — вниз
спокойное тепло…
Раскаяньем и горечью объята,
она привыкла думать напрямик:
«Ну вот пришел, а в чем я виновата?
Что из того,
что он не мой мужик!»
Она прижмется головой украдкой
к его груди, доверчива, нежна,
на этот миг — не прежняя солдатка,
а как у всех —
невеста иль жена…
Кто все поймет, а кто ее осудит…
А утром все не так уже, все — врозь.
Уйдет
и попрощаться с ней забудет
с похмельной головой
случайный гость…
Она идет, душою всей святая,
и слышит:
— Поглядите, какова! —
Она идет спокойно,
как святая,
разлучница,
солдатская вдова.
Идет она,
стеснительна по-русски,
и думает отчаянно про то,
чтоб около локтей на старой блузке
протертых дыр не увидал никто.
1967
Дожди
В моей родительской глуши,
заночевав среди соломы,
стучат,
стучат,
стучат дожди
о ставни, словно почтальоны.
Я берегу тоску избы
который год неотвратимо
по круглому комочку дыма,
что выкатился из трубы.
Она еще жива, изба,
не зря ведь тычется спросонок
в глухую ставень, как теленок,
лучом
упавшая звезда…
Я берегу тоску избы
и в памяти,
и в каждой строчке!
Туда, как пестрые столбы,
бегут года поодиночке!
Я жду, что вот за много лет
в избе, куда стучится дождик,
распустится однажды свет
и задрожит вдруг, как листочек!
О тяга в дальние места,
нам даль сверкнет — и станет тускло!
У каждого своя изба,
куда не суждено вернуться…
И все ж захолодит от стуж,
и так потянет тебя в глушь,
где в изморози, как в пуху
цыплячьем,
средь тиши и света,
прижавшись тесно к лопуху,
с росою высыхает лето.
Немало нас, что от своей
избы,
прислушиваясь к веку,
от дальних дней и от дождей
разъехались по белу свету!
Сны высыпали, как грибы,
в глаза — и стало все не просто,
что ходит мать лишь
от избы
тебя встречать до перекрестка.
Остановите, поезда,
возле нее свои вагоны.
Стоит село.
Стоит изба.
Стучат дожди, как почтальоны.
1967
Люби
Чтобы у нас с тобой
все было в жизни равно,
люби меня тоской,
люби самодержавно.
Чтоб не убыть опять
душою, —
все морока! —
люби меня прощать,
люби обидеть строго.
Не бойся, что вернусь
я к прежним подозреньям,
ведь боль моя и грусть
освещены прозреньем.
Люби, что я такой,
люби за невезучесть,
чтобы одной тобой
моя слагалась участь.
Люби, чтоб я плечом
прикрыл —
лишь бой наступит,
люби меня мечом,
ведь меч не только рубит.
Люби, чтоб лучшим был,
веди меня по краю,
как я тебя любил,
за что — и сам не знаю.
Люби меня легко,
отверженно и грустно,
и больше ничего
на свете мне не нужно.
В моих словах простых
я жил, как в глухомани.
И ты, хотя бы миг,
люби меня заране.
Попробуй доберись
в судьбе моей до сути —
как будто вниз
всю жизнь
лечу на парашюте,
и кажется: вот-вот
и приземлюсь я во поле,
и век,
как самолет,
летит со мною в штопоре.
Люби меня, скорбя,
люби до самовластья,
люби,
чтоб я себя
обрек навек
на счастье.
1968
МАМЕД АРАЗ
(Род. в 1933 г.)
Переводы В. Проталина
С азербайджанского
{243}
Гордость поэта
Как гордо жили древние поэты,
Как истинно, как искренне во всем.
И каждый знал, что он — источник света…
А мы — как свой огонь сквозь дни несем?
Величием души умы тревожа,
Поэт познал, в чем истинная честь.
Поэт, когда с него сдирали кожу,
Не забывал и в муках, кто он есть.
А горд ли тот, кто всуе подожжен,
Как будто спичкой, похвалою мелкой?
Лишь цвет огня, не пламя держит он,
Хоть и не каждый отличит подделку.
Уйдет из жизни — и прервется нить.
Был только что — и сразу канул в бездну…
И слава не сумеет исцелить
Людей, влекомых славой, как болезнью.
И ты, мое перо, не прячься в тень,
Как будто бы не отдаешь отчета,
Как бы не знаешь, что настанет день
И каждого сурово спросит: «Кто ты?»
Отчетный день —
Он всем необходим,
И в жизни нет серьезнее момента,
И слава, не подписанная им,
Фальшивому подобна документу.
Что ж, каждому — заслуженный успех.
Поэтам слава их необходима,
Как детям, тем, что биты больше всех
И больше всех наставником любимы.
Поэт любовью этою силен.
Бессмертие его такого рода,
Что лишь тогда подвластен смерти он,
Когда лишишь его любви народа.
«Не миновать и мне…»
Не миновать и мне со смертью поединка.
И прежде снег был бел и ал был цвет огня.
Такая этот мир предолгая пластинка,
Что будет петь, как пел со мной, и без меня.
Но он поет со мной,
И я иду по миру.
И мир передо мной мой расстилает путь.
И кто-то должен был меня окликнуть: «Милый…»
И этим словом все в душе перевернуть.
И ты пришла ко мне в свой срок, без опозданья…
Все помнить о тебе, все знать и заодно
Почувствовать в груди огонь того свиданья,
Что впереди опять, как жизнь, мне суждено.
Что б ни было со мной на повороте неком,
Счастлива ли любовь, приносит ли беду,
Что б ни было, скала очнется человеком,
Когда, влюбленный, к ней я грудью припаду.
Так быть должно…
И я возьму любую ношу.
И ослабею — лишь любви меня лиши.
Что может значить ум, пускай и всем хороший,
Когда не знает он веления души?
Есть в жизни суд любви,
И пусть он ждет нас где-то,
Но каждый, где б ни шел, приходит и туда.
Что б ни было, любовь должна остаться светом,
Защитником моим перед лицом суда.
Открытый путь любви не знает ложных петель.
Иди вперед, не стой, раз выпало идти.
Пускай огонь горит, ложь превращая в пепел.
Пускай огонь горит, что б ни было в пути.
ПАВЕЛ БОЦУ
(Род. в 1933 г.)
С молдавского
{244}
Пороги
Перевод В, Солоухина
Должны перешагивать мы по дороге
Пороги, пороги, пороги, пороги.
Веселой гурьбой под веселый звонок
Переступаем мы школьный порог.
Вот, за руки взявшись с девчонкою милой
И клятвой связавшись любить до могилы,
Зажмурив глаза перед бездной слепящей,
Порог переходим любви настоящей.
С невестой вдвоем в предназначенный срок
Переступаем семейный порог.
Уже не юны, но еще не солдаты,
Приходим к порогу военкомата.
И вместе с народом, потрясены,
Ступаем из мира в пучину войны.
Шампанское льется: то мы всенародно
Порог новогодний берем ежегодно.
Пороги вопросов, пороги решений,
Пороги падений, пороги свершений.
По парам, по семьям, толпой и рядами
Мы валим и валим, пороги под нами.
А время торопится, время летит,
Последний порог перейти предстоит.
Где други? Где люди? На самом краю
Один перед этим порогом стою.
Последний приступок в бездонную тьму
Переступаем по одному.
1966
Берез белоствольные арфы…
Перевод К. Ковальджи
Сквозь ливни, осенний ночной не уют,
Как светлые окна, как свечи,
Откуда-то,
Из глубины,
Издалече
Берез белоствольные арфы встают.
Полоски свеченья, огней —
Скольженье в воде лебедей,
Русалок немое круженье,
Томленье, что в цвете нашло выраженье.
А может, струятся слезою святой
На те, на могилы родные…
В ночи вырастает, как выдох земной,
Негромкая песня России…
Сквозь ливни, осенний ночной не уют,
Как светлые окна, как свечи,
Откуда-то,
Из глубины,
Издалече
Берез белоствольные арфы встают.
1973
К Молдавии
Перевод К. Ковальджи
Позволь тебя назвать и сводом синим,
Ведь голыша листвой ты укрывала,
Костры дарила вечером, а чаще
Своим зеленым сердцем согревала.
Позволь назвать сперва тебя землицей,
Хранящей исцеление для раны,
Той, что меж листьев аира таится
Воспоминанием о боли ранней.
Позволь назвать тебя сначала песней,
В душе сверкнувшей золотой зарницей, —
Богатством, что для вечности кудесник
Припас, а сам забыл на свет родиться.
Позволь еще назвать тебя, дать имя
Той влаги ключевой, живой, глубинной,
Когда ее губами пьешь сухими.
Позволь тебя назвать и сводом синим,
Чтобы, обняв от края и до края,
Благодаря за сердце, свет и слово,
В себе тебя до капли узнавая,
Тебя назвать мог матерью, Молдова!
1973
ОЯР ВАЦИЕТИС
(Род. в 1933 г.)
С латышского
{245}
«В этом доме…»
Перевод Д. Самойлова
В этом доме
дни засолены, как селедки.
С утра до вечера
плавают
в рассоле.
Здесь едят
и гостям подают
селедку
на завтрак, и на обед,
и на ужин.
О ней мечтают,
из-за нее грызутся, в восторг приходят
из-за нее.
Какую рыбу,
закуску какую
изгадили мои соседи!
Не ходи в этот дом.
Здесь пить не дают.
Попросишь
глоток воды.
Потом о роднике
вспомнишь,
реки ,
о зера,
мо ря
возжаждешь.
Станут мерещиться
волны, волны, волны…
Но ты не прильнешь к ним губами —
заперта будет дверь селедкой.
1962
Баллада о синем ките
Перевод А. Ревича
Нет, не мечтал он о странах,
где знойное солнце слепит.
Он знал холодное море,
где плавает синий кит.
Он знал: там копытами волны
колотят обшивку бортов.
Он знал: сыновей лупцуют
отцы из-за синих китов.
Кто знает, как часто брови
он хмурил от бед и обид,
но видел всегда сквозь слезы!
плыл по морю синий кит.
Хвостом колотил он волны,
и океан гудел:
— Что медлишь? Ты — мой соперник,
на бой выходи, коль смел.
Набьешь ты трескою трюмы,
но это — не для души.
Я тебе только нужен,
и я тебя жду. Спеши!
Под пристальным взглядом отцовским,
уже не помня обид,
выпрямился мальчишка,
хоть был напоследок побит.
Отец свою кожанку скинул:
— Бери. Пригодится потом. —
У сына взгляд с синевою,
с упрямством и синим китом.
И парень уходит в море,
в тяжесть свинцовых вод.
Что он делает в море,
спроси у полярных широт.
Я понял: свята свобода
и нет ничего святей.
Слышу: мой сын сегодня
запел о синем ките.
1963
Старая гейша
Перевод Л. Осиповой
Только волны, волны, волны —
в море.
Только чая, чая,
чашку чая мне дайте,
не бойтесь, я уплачу.
Только френчи, френчи, френчи…
Уходили все, кого я любила,
за море — в море, в море,
в туманы седые.
И не вернулись.
Плакать не буду, не буду, не буду.
Человек не может исчезнуть.
Только смерть, смерть,
смерть могла перейти им дорогу.
Но как же много смертей…
Только ласк, ласк, ласк
больше, чем звезд.
Поцелуев больше, больше,
больше песчинок.
Чего на земле еще больше?
Только волн, волн, волн,
с белой мертвой пеной.
Я прошу, прошу, прошу —
не надо о белом цвете.
Без вас я вижу, это — не вишни.
1964
Песня
Перевод А. Ревича
Крапива жжется,
не скули — что жжется.
Ну кто тебя просил
хватать рукой?
А боль уймется,
скоро все уймется,
но не проси
судьбу, чтоб твой покой
она хранила,
чтоб тебя хранила,
как слух хранят,
когда гремит гроза,
как жизнь, как силы, —
из последней силы,
и как зеницу ока,
как глаза.
Пусть все коснется
нас, как всех коснется,
оставит смех и горечь
на губах.
Сквозь тьму колодца,
глухоту колодца
свет, запах не пробьется,
пуля, страх.
Где запахи цветенья —
без цветенья?
Чем нам дышать?
Что ветер принесет?
Река забвенья,
быстрина забвенья
дней наших баржи
дальше понесет.
Крапива жжется,
не скули — что жжется.
И у крапивы есть
свой странный май.
А боль уймется,
навсегда уймется,
и все тогда пройдет,
и все — прощай.
1967
«Я полюбил тебя…»
Перевод Л. Азаровой
Я полюбил тебя,
летом увидев белой.
Подумал:
вот это характер! —
не сбросишь зимней
одежды
и рыжей не станешь,
хотя известно тебе,
что есть в каждом доме
двустволка
и каждый охотник
по дичи палит,
о запрете не помня.
Я подошел к тебе,
белое чудо,
и понял —
двустволкам ты знаешь счет.
Ты мне сказала,
что хочешь остаться белой
и жить
мгновенье,
зато не по воле двустволок,
а по своей воле.
И я полюбил тебя еще крепче.
1967
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ
(Род. в 1933 г.)
{246}
Гойя
Я — Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле нагое.
Я — Горе.
Я — голос
войны, городов головни на снегу сорок первого года.
Я — голод.
Я горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью голой…
Я — Гойя!
О, грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад — я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —
как гвозди.
1959
Осень в Сигулде
Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,
прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,
леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,
мы — люди, мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,
из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,
прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,
друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,
о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка.
Спасибо, жизнь, что была.
На стрельбищах в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что
в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую
перчатку
красный мужской кулак,
«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой».
Спасибо, что в рощах осенних
ты встретилась, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,
я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,
но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь,
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?
Ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,
я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,
спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,
но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном…
1961
Тишины!
Тишины хочу, тишины…
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины…
чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни,
тишины…
звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.
Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.
Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.
Как живется вам там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
Горлопаны, не наорались?
Мы в другое погружены.
В ход природы неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы поймем, что идут чабаны.
Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.
И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.
1964
Плач по двум нерожденным поэмам
Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам
{247} !
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.
На черной Вселенной любовниками
отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!
Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались
в Останкине, —
встаньте!
Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии, —
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.
Раскройтесь, гробы,
как складные ножи гиганта,
вы встаньте —
Сервантес
{248} , Борис Леонидович,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.
И вы, Член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.
О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,
встань, мама.
Вы встаньте в Сибири,
в Москве,
в городишках,
мы столько убили
в себе,
не родивши,
встаньте,
Ландау
{250} , погибший в косом лаборанте,
встаньте,
Коперник
{251} , погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,
вы помните школьные банты?
встаньте,
геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
встаньте,
встаньте.
Погибли поэмы. Друзья мои в радостной
панике —
«Вечная память!»
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой
в Атлантике плавать,
вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш не сыгранный
Гамлет?
вечная память,
где принц ваш, бабуся? А девственность
можно хоть в рамку обрамить,
вечная память,
зеленые замыслы, встаньте, как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
Вечная память!..
Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.
Вечная память.
И памяти нашей, ушедшей, как мамонт,
вечная память.
Тому же, кто вынес огонь сквозь потраву, —
Вечная слава!
Вечная слава!
1965
Тоска
Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.
Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказанье?
Сложишь песню — отпустит,
а дальше — пуще,
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный гроб на груди таскаю —
тоска такая!
Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною…
1967
Ностальгия по настоящему
Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую,
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.
Будто послушник хочет к господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.
Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие…
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.
Нас с тобой никто не расколет.
Но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.
Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.
Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья — подлинника,
по нему грущу, настоящему.
Все из пластика, даже рубища.
Надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка…
И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем рост понимания».
Хлещет черная вода из крана,
хлещет рыжая, настоявшаяся,
хлещет ржавая вода из крана.
Я дождусь — пойдет настоящая.
Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю, как тайну,
ностальгию по настоящему.
Что настанет. Да не застану.
1976
ЛЮДВИГ ДУРЯН
(Род. в 1933 г.)
С армянского
{252}
Наши песни
Перевод Л. Халифа
Из пепла,
Пропитанного слезами,
Из благоуханья цветов чудесных
Они поднимаются сами —
Наши песни.
Из угасающего звона
Всех колокольчиков вместе,
Заблудившихся где-то под солнцем, —
Сплетены наши песни.
Из стонов скитальца слезных, —
Хвороста нету если,
Сжигающего свой посох, —
Сплетены наши песни.
Из тяжелого и мокрого
Сумрака круч отвесных,
Впитавшего в себя все молнии, —
Сплетены наши песни.
Из хмеля вина задремавшего,
Из цвета его, что так весел,
Из алого цвета нашего —
Сплетены наши песни.
Из скрежета ворот открывающихся,
Где сплетенью узоров тесно,
Из радуг водопадов ниспадающих —
Сплетены наши песни.
Из смеха парней сасунских,
Вспотевших от плясок здешних,
Из удали их,
Из их судеб —
Сплетены наши песни.
Из звездной россыпи молота,
С детства известной,
Из огнебородой молодости —
Сплетены наши песни.
Из сияния золотистого
Хлебных колосьев спелых,
Из ударов сердечка чистого —
Сплетены наши песни.
Из клекота орлов, сидящих
На солнце, как на насесте,
Из надежды настоящей —
Сплетены наши песни.
Из надежды,
Дарующей радость,
Нас сплетающей вместе,
Чтобы петь перед Араратом,
Перед вечностью —
Наши песни.
Костер поэта
Перевод М. Синельникова
Этот костер — мой костер,
Это — костер поэта.
Смотри,
Огневые копыта простер
Пегас
Из крылатого света.
Кони заржали, кони…
Смотри,
В костре полыхают мои мечты,
Астральных лучей сплетенья;
В нем солнца, как лиры, горят,
И лир
Взволнованы звонкие струны.
Смотри,
Золотые сошлись языки,
И длится объятье любовной тоски,
И катятся вспышек буруны.
И в сумасшествии света
Возник
Из пламени, гибкого, как тростник,
Огненновласый младенец.
Этот костер — мой костер.
Его серповидный изгиб остер,
И пляшут серпы,
И пляска
Становится жатвой колосьев-лучей
Средь пламени, треска и лязга.
Смотри,
Как, цветеньем воспламенясь,
Изламываются деревья.
И кружатся искры, как пчелы жужжа,
Опьянены ароматом.
А пламя взмывает, и все выше летит,
И парит, как свободный орел.
Этот костер — мой костер.
Это — самосожженье поэта.
«Лирою я ответил на голос…»
Перевод М. Синельникова
Лирою я ответил на голос своей любимой…
Я песней прославил тебя… Не умолкая гремит
Песня моя, словно гимн, цветущий неопалимо,
Сложенный жрецами у подножия пирамид.
Верно, моя лира не колокольчик пастуший,
Болтающийся на шее заблудшего бычка…
Натянуты жилы тигра на лиру, ты только послушай
Струны, что звонче водопада и жалобнее смычка.
Впрочем, моя лира — это сердце мое, в котором
Дрожит и трепещет дыхание всеобщей любви,
И я стихов свободных свободным и гулким хором
Славлю свободные, вещие, мудрые чары твои.
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО
(Род. в 1933 г.)
{253}
Свадьбы
А. Межирову
О, свадьбы в дни военные!
Обманчивый уют,
слова не откровенные
о том, что не убьют…
Дорогой зимней, снежною,
сквозь ветер, бьющий зло,
лечу на свадьбу спешную
в соседнее село.
Походочкой расслабленной,
с челочкой на лбу
вхожу, плясун прославленный,
в гудящую избу.
Наряженный,
взволнованный,
среди
друзей,
родных,
сидит мобилизованный
растерянный жених.
Сидит с невестой — Верою.
А через пару дней
шинель наденет серую,
на фронт поедет в ней.
Землей чужой,
не местною,
с винтовкою пойдет,
под пулею немецкою,
быть может, упадет.
В стакане брага пенная,
но пить ее невмочь.
Быть может, ночь их первая —
последняя их ночь.
Глядит он опечаленно
и — болью всей души
мне через стол отчаянно:
«А ну, давай пляши!»
Забыли все о выпитом,
все смотрят на меня,
и вот иду я с вывертом,
подковками звеня.
То выдам дробь,
то по полу
носки проволоку.
Свищу,
в ладоши хлопаю,
взлетаю к потолку.
Летят по стенам лозунги,
что Гитлеру капут,
а у невесты
слезоньки
горючие
текут.
Уже я измочаленный,
уже едва дышу…
«Пляши!..» — кричат отчаянно,
и я опять пляшу…
Ступни как деревянные,
когда вернусь домой,
но с новой свадьбы
пьяные
являются за мной.
Едва отпущен матерью,
на свадьбы вновь гляжу
и вновь у самой скатерти
вприсядочку хожу.
Невесте горько плачется,
стоят в слезах друзья.
Мне страшно.
Мне не пляшется,
но не плясать —
нельзя.
1955
«Со мною вот что происходит…»
Б. Ахмадулиной
Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в праздной суете
разнообразные не те.
И он
не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучаемся с ним.
Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.
А той —
скажите, бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та,
у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе.
О, сколько
нервных
и недужных,
ненужных связей,
дружб ненужных!
Во мне уже осатаненность!
О, кто-нибудь,
приди,
нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность
близких душ!
1957
Подранок
А. Вознесенскому
Сюда, к просторам вольным, северным,
где крякал мир и нерестился,
я прилетел, подранок, селезень,
и на Печору опустился.
И я почуял всеми нервами,
как из-за леса осиянно
пахнуло льдинами и нерпами
в меня величье океана.
Я океан вдохнул и выдохнул,
как будто выдохнул печали,
и все дробинки кровью вытолкнул,
даря на память их Печоре.
Они пошли на дно холодное,
а сам я, трепетный и легкий,
поднялся вновь, крылами хлопая,
с какой-то новой силой летною.
Меня ветра чуть-чуть покачивали,
неся над мхами и кустами.
Сопя, дорогу вдаль показывали
ондатры мокрыми усами.
Через простор земель не паханых,
цветы и заячьи орешки,
меня несли на пантах бархатных
веселоглазые олешки.
Когда на кочки я присаживался, —
и тундра ягель подносила,
и клюква, за зиму прослаженная,
себя попробовать просила.
И я, затворами облязганный,
вдруг понял — я чего-то стою,
раз я такою был обласканный
твоей, Печора, добротою!
Когда-нибудь опять, над Севером,
тобой не узнанный, Печора,
я пролечу могучим селезнем,
сверкая перьями парчово.
И ты засмотришься нечаянно
на тот полет и оперенье,
забыв, что все это не чье-нибудь —
твое, Печора, одаренье.
И ты не вспомнишь, как ты прятала
меня весной, как обреченно
то оперенье кровью плакало
в твой голубой подол, Печора…
1963
Граждане, послушайте меня…
Д. Апдайку
Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,
ну а в голове — такая ересь,
мыслей безбилетных толкотня.
Не пойму я — слышится мне, что ли,
полное смятения и боли:
«Граждане, послушайте меня…»
Палуба сгибается и стонет,
под гармошку палуба чарльстонит,
а на баке, тоненько моля,
пробует пробиться одичало
песенки свербящее начало:
«Граждане, послушайте меня…»
Там сидит солдат на бочкотаре.
Наклонился чубом он к гитаре,
пальцами растерянно мудря.
Он гитару и себя изводит,
а из губ мучительно исходит:
«Граждане, послушайте меня…»
Граждане не хочут его слушать.
Гражданам бы выпить да откушать
и сплясать, а прочее — мура!
Впрочем, нет, — еще поспать им важно…
Что он им заладил неотвязно:
«Граждане, послушайте меня…»?
Кто-то помидор со смаком солит,
кто-то карты сальные мусолит,
кто-то сапогами пол мозолит,
кто-то у гармошки рвет меха.
Но ведь сколько раз в любом кричало
и шептало это же начало:
«Граждане, послушайте меня…»
Кто-то их порой не слушал тоже.
Распирая ребра и корежа,
высказаться суть их не могла.
Вряд ли, что с недоброю душою,
но не слышат граждане чужое:
«Граждане, послушайте меня…»
Эх, солдат на фоне бочкотары,
я такой же — только без гитары…
Через реки, горы и моря
я бреду, и руки простираю,
и, уже охрипший, повторяю:
«Граждане, послушайте меня…»
Страшно, если слушать не желают.
Страшно, если слушать начинают.
Вдруг вся песня, в целом-то, мелка,
вдруг в ней все ничтожно будет,
кроме этого мучительного, с кровью:
«Граждане, послушайте меня…»?!
1963
Любимая, спи…
Соленые брызги блестят на заборе.
Калитка уже на запоре.
И море,
дымясь, и вздымаясь, и дамбы долбя,
соленое солнце всосало в себя.
Любимая, спи…
Мою душу не мучай.
Уже засыпают и горы и степь.
И пес наш хромучий,
лохмато-дремучий,
ложится и лижет соленую цепь.
И море — всем топотом,
и ветви — всем ропотом,
и всем своим опытом —
пес на цепи,
а я тебе — шепотом,
потом — полушепотом,
потом — уже молча:
«Любимая, спи…»
Любимая, спи…
Позабудь, что мы в ссоре.
Представь:
просыпаемся.
Свежесть во всем.
Мы в сене.
Мы сони.
И дышит мацони
откуда-то снизу,
из погреба, —
в сон.
О, как мне заставить
все это представить
тебя, недоверу?
Любимая, спи…
Во сне улыбайся
(все слезы отставить!),
цветы собирай
и гадай, где поставить,
и множество платьев красивых купи.
Бормочется?
Видно, устала ворочаться?
Ты в сон завернись
и окутайся им.
Во сне можно делать все то, что захочется,
все то, что бормочется,
если не спим.
Не спать безрассудно,
и даже подсудно, —
ведь все, что подспудно,
кричит в глубине.
Глазам твоим трудно.
В них так многолюдно.
Под веками легче им будет во сне.
Любимая, спи…
Что причина бессонницы?
Ревущее море?
Деревьев мольба?
Дурные предчувствия?
Чья-то бессовестность?
А может, не чья-то,
а просто моя?
Любимая, спи…
Ничего не попишешь,
но знай, что невинен я в этой вине.
Прости меня — слышишь? —
люби меня-слышишь? —
хотя бы во сне, хотя бы во сне!
Любимая, спи…
Мы на шаре земном,
свирепо летящем,
грозящем взорваться, —
и надо обняться,
чтоб вниз не сорваться,
а если сорваться —
сорваться вдвоем.
Любимая, спи…
Ты обид не копи.
Пусть соники тихо в глаза заселяются.
Так тяжко на шаре земном засыпается,
и все-таки —
слышишь, любимая? —
спи…
И море — всем топотом,
и ветви — всем ропотом,
и всем своим опытом —
пес на цепи,
и я тебе — шепотом,
потом — полушепотом,
потом — уже молча:
«Любимая, спи…»
1963
ИМАНТ ЗИЕДОНИС
(Род. в 1933 г.)
С латышского
{254}
Мед течет в море
Перевод Юнны Мориц
Полно цветов, но мало пчел…
Сестра, лети пчелой в простор.
Потек нектар, живой укор.
Но где медовый сбор?
В росе преобладает мед,
В ложбины рек впадает мед.
Прочь льется, пропадает мед,
Нас покидает мед.
Хочу сдержать, а он плывет,
Бреду в меду, а он — вперед,
Сливается в медоворот,
Впадает в море мед.
Мать! Слышишь, мед к чертям летит!
Сестра-пчела, кто нас простит,
Кто прекратит весь этот стыд?
Мед пчелами забыт.
Но что поделать, если мед
По горизонты край займет?
Пчела устала, как пилот,
И в мед летит с высот.
Как задержать медоворот?
Иль не мешать, наоборот?
Рекой впадает в море мед,
Впадает в море мед.
«Я не нуждаюсь в пожеланьях благ…»
Перевод В. Шацкова
Я не нуждаюсь в пожеланьях благ,
Пусть не сбываются — не пожалею.
Лишь времени тяжелый мерный шаг
В душе моей ложится все больнее.
Не жажду я ни зрелищ, ни забав,
Ни тихих снов, ни громкого успеха…
Мне ничего не стоит в год собрать
Все эти ценности, не будь они помехой.
Но время слишком ценно самому.
Стыд — тратить дни в других приобретеньях,
Чем в том, что нужно чувству и уму:
В познанье, созерцании, сомненьях.
Мне и друзья и недруги — враги,
От их общенья никуда не деться.
Когда звезда спадает, в этот миг
Одна надежда у меня на сердце:
Чтоб не пришел ни родственник, ни друг
С обычным пожеланием успехов,
Я без труда добиться в год могу
Всех ваших ценностей, не будь они помехой.
ДМИТРИЙ КАРАЧОБАН
(Род. в 1933 г.)
С гагаузского
{255}
Из прошлого
Перевод Ю. Левитанского
Мы засух боялись — они нас губили.
Так кожа боится, чтоб кожу дубили.
Боялись мы голода в год недорода —
Как черта, боялись голодного года.
Как слова колдуньи, боялись мы бога —
Была его милость мала и убога.
Боялись болезней — они нас косили,
Косили до срока и в гроб уносили.
И податей, гнувших нас день ото дня,
Боялись, как волки боятся огня…
Но пуще с годами сердца распалялись,
И вышло, что нас-то бояре боялись.
Боялись бояре суда и расправы,
Боялись, как пахаря — сорные травы.
Боялись, как вывиха или увечья,
Да так, что дрожала душа их овечья.
Боялись бояре сидеть на пороге,
Как черви боятся колес на дороге.
Боялись бояре волненья в народе,
Как палки боится козел в огороде.
Боялись бояре, в постели вздыхая,
Как искры боится солома сухая.
1961
НАНСЕН МИКАЭЛЯН
(Род. в 1933 г.)
С армянского
{256}
Жизнь
Перевод А. Кафанова
Всю жизнь обтесывал он камки
И по лесам взбирался ввысь.
Возведены его руками,
Дворцы до неба поднялись.
На лбу сверкали капли пота.
Да, это был нелегкий труд!
Каменотес! Он так работал,
Как с бою высоту берут.
Но груз годов налег на плечи.
И, предвкушая торжество,
Когда он вниз сошел навечно —
Хотела Смерть схватить его.
— Попался ты наверняка мне! —
Он усмехнулся ей в ответ:
— Я отдал жизнь бессмертным камням,
А потому мне смерти нет!
Абрикосы расцвели
Перевод Б. Слуцкого
Не знающий птичьего языка,
Молчащий на ласточкины вопросы,
Я все напевы пойму, пока
Весной расцветают все абрикосы.
Я голос горы пойму любой
И то, что кричат на скалах козы,
Недаром мир наполняет любовь,
Когда расцветают весной абрикосы.
Замшелых корней разговоры ясны,
Понятно, о чем говорят откосы,
И верится людям в счастье весны,
Когда расцветают все абрикосы.
ВИКТОР ТЕЛЕУКЭ
(Род. в 1933 г.)
С молдавского
{257}
Пролог к биографии
Перевод П, Пархомовского
Скажите мне,
кто напевал мне колыбельную?
— Колосья.
— Почва.
— Перепелки.
— Посвист кос.
— И ветра тихое касанье.
— И тысячи усталых женщин, красивых
несказанно.
Не потому ль теперь везде
колосья следуют за мною?
И руки, словно глыбы в борозде,
полны глубинной тяжестью земною…
И беззаботен я, как перепел, порой.
И, как земле, нужны мне хлеб, дожди, покой.
Но я, как почва, что лучом насквозь прогрета, —
к лицу мне посвист кос и посвист ветра.
И вся бескрайность, глубина и тайны роста
мне дали ярость, нежность и упорство.
Те тысячи женщин красивые крестьянки были,
что снопы вязали,
пугая дроф тяжелых на межах,
когда с мужьями в поле выходили жать.
Но лишь теперь я, вглядываясь в дали,
стал запоздало понимать —
те женщины, и мой отец, и мать
лишь горлом пели. А лица их рыдали.
1963
«Вот колодец, жаворонок…»
Перевод К. Ковальджи
Вот колодец, жаворонок, апрель голубой,
вот пострел озорной,
вот звезда зоревая,
сторожевая,
что заходит, и всходит, и стынет вдали,
ждет посланца земли…
Вот город, земля, любовь и рассвет,
вот осень, и лист, и цвет,
вот свет, что пожаловал в дом,
вот и снег вперемежку с дождем,
вот и взрыв немой
первой почки на ветке зеленой,
вот и день обновленный
над моею землей,
над прекрасной и мудрой…
Вот человек, достающий до звезд головой,
вот и небо, поющее всей синевой,
и я, говорящий им: доброе утро.
1970
ОТАР ЧИЛАДЗЕ
(Род. в 1933 г.)
С грузинского
{258}
«Растаял год бесследной тенью…»
Перевод М. Синельникова
Растаял год бесследной тенью,
незрим не только для меня —
для всех…
Быть впору сожаленью,
но ожиданьем полон я.
Я рад, что сгинул он, как сплетня,
и закатился, как звезда
к исходу светлой ночи летней,
ушел, как юность, навсегда.
В снегах и вихрях город глохнет,
когда метелица, клубясь,
влетит в подъезд и дверью грохнет,
и сохнет на ступеньках грязь.
А год, как промельк заоконный,
как тень, влетел в тенистый лес,
как чудотворная икона
из храма спящего, исчез.
Кафе вечернее закрыто,
уже закончено кино,
и возвращенье к будням быта
в который раз предрешено.
Неистовствуют снег и ветер,
от лживых клятв и слез устав,
бездомней всех на белом свете
луна предместий и застав.
Уйдя от прошлогодних тягот,
мерцают свечи в городьбе
густых ветвей еловых…
На год
вновь приближаюсь я к тебе.
1969
До разлуки
Перевод Б. Ахмадулиной
Так время пробежало черной кошкой
по закоулкам.
И лицо зимы
с простыми и суровыми чертами
размылось в стеклах.
Только этот лист сковало льдом…
В котором отразится
во сне ли явленное или наяву —
как в зеркале,
чтобы шипы воспоминаний
не раз отверзли нам глаза души:
усталые от дней однообразья,
искусственного солнца с лживым блеском,
ворованного неба, даже жизни,
столь не осмысленной порою до конца.
Блестит сосулька, сладкий зуб зимы.
И вздох трубы, и выдох человека
с теплом, как в только что убитом звере, —
полотнищем трепещут на ветру.
И вот, как если б сотню лет спустя,
когда всем-всем — от красок и до звуков —
перенасыщен дух,
я вновь прошу
вернуть мои права на все былое.
Мне нужно их вернуть,
чтоб нас с тобой,
едва почуя трещину отхода,
не поглотило облако забвенья
своей зловеще-топкой чернотой.
Дай руку мне,
горячую обычно и слабую.
Дай сердце мне свое,
такое же горячее — и строже
которого не ведал в жизни я!
Покуда позволяет нам судьба,
давай же не утрачивать доверья —
и да прислушается к нам извечный мир,
и наши головы на грудь себе положит,
и будет он по-прежнему стараться
хоть в чем-то измениться… но не сможет.
1969
«Светоносные сумерки…»
Перевод В. Леоновича
Светоносные сумерки, напряженный покой.
Вспыхивают над лесом искры вешнего дня.
Неизбывно сияние над мраморною рекой.
Сталь топора срастается с мякотью пня.
Радуется кому-то — одному иль двоим —
пылкой жизни комочек в камине или костре.
Млечный Путь над опушкою — или стелется дым?
Ветер уснул на войлочном волокнистом ковре.
Вспыхивают светила — слепнут, замертво мчась,
и царит равновесие в мирозданье сквозном:
люди — хотя бы двое — в этот хотя бы час —
любят друг друга в доме лесном.
1975
«Кура плеснет воды и рыбы…»
Перевод Юнны Мориц
Кура плеснет воды и рыбы,
траву и птиц отдаст мне роща,
и, загораясь над горами,
Луна подскажет путь попроще.
И гость придет с открытым сердцем,
и я прочту при лунном свете
стихи, рожденные так тихо,
как без отца родятся дети.
Прочту я что-нибудь такое,
что зрелый гость поймет и юный, —
что означают для грузина
и свет Куры, и отблеск лунный.
1975
ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА
(Род. в 1933 г.)
{259}
«Цветенье сладкого левкоя…»
Цветенье сладкого левкоя,
Деревьев шум, прилив покоя,
И ветер, дующий в трубе,
И дождь, и горький дух полыни, —
На веки вечные отныне
Тебе принадлежат. Тебе,
Свет солнечный, и отсвет лунный,
И остров с медленной лагуной,
В которой облако дрожит,
И для которой волны шепчут,
И в раковинах зреет жемчуг,
Тебе, тебе принадлежит.
И тот ледник, сверкнувший глазом,
Не льдом одетый, а алмазом
С печатью гордости в судьбе,
И холмик тот на поле близком
С не позабытым обелиском —
Тебе принадлежит. Тебе.
Роса и звезды над планетой,
Мрак в жизни — той, и радость — в этой
И воздух Родины в судьбе,
Звон тундры и тайга над Обью, —
Весь мир по твоему подобью
Тебе принадлежит. Тебе.
1975
ТАНЗИЛЯ ЗУМАКУЛОВА
(Род. в 1934 г.)
С балкарского
{260}
Горские поэтессы
Перевод Н. Гребнева
В краю балкарцев, где снега и скалы
От века молчаливы и тихи,
До моего рожденья не бывало,
Чтоб сочиняли женщины стихи.
Так говорят, но я не верю в это.
Я знаю о не ведомых никем
Создательницах песен не пропетых,
Баллад неизреченных и поэм.
Как много поэтесс лежит безмолвно
На кладбищах в селениях у нас,
Они ль виновны, что беспрекословно
При жизни были немы, как сейчас!
Им уши затыкал закон проклятый
И на уста накладывал печать.
Они рождались, чтобы по адату
Безмолвно жить и молча умирать.
Я вижу их, сестер моих далеких,
Чей крик немой касается небес.
Я вижу — слезы прожигают строки
На лицах бессловесных поэтесс.
Праматери мои, мне хвастать нечем.
Из сердца слово я могу извлечь
Не потому ль, что вас лишали речи,
А мне сегодня подарили речь.
И оттого так строго и сурово
Сужу я каждый мной рожденный стих.
Я думаю:
смогла ль вместить я в слово
Молчание предшественниц моих?
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА
(Род. в 1934 г.)
{261}
Дома без крыш
Летняя ночь была
Теплая, как зола…
Так, незаметным шагом, до окраин я дошла.
Эти окраины
Были оправлены
Вышками вырезными, кружевными кранами.
Облики облаков, отблески облаков
Плавали сквозь каркасы недостроенных домов.
Эти дома без крыш — в белой ночной дали —
В пустошь меня зазвали, в грязь и в глину завели…
На пустыре ночном светлый железный лом,
Медленно остывая, обдавал дневным теплом.
А эти дома без крыш — в душной ночной дали —
Что-то такое знали, что и молвить не могли!
Из-за угла, как вор, выглянул бледный двор:
Там, на ветру волшебном, танцевал бумажный сор…
А эти дома без крыш словно куда-то шли… Шли…
Плыли, — как будто были не дома, а корабли…
Встретилась мне в пути между цементных волн
Кадка с какой-то краской, — точно в теплом море — челн;
Палка-мешалка в ней — словно в челне — весло…
От кораблей кирпичных кадку-лодку отнесло.
Было волшебно все: даже бумажный сор!
Даже мешалку-палку вспоминаю до сих пор!..
И эти дома без крыш, — светлые без огня;
Эту печаль и радость;
Эту ночь с улыбкой дня!
1961–1962
Следы
Ночь напечатала прописью
Чьи-то на глине следы…
Над плоскодонною пропастью
Эхо, как пушечный дым…
Видно, прошел тут и, шепотом,
Песню пропел пилигрим:
Долго — стреляющим хохотом! —
Горы смеялись над ним…
(Вижу, как ночь приближается
Высохшим руслом реки:
Но все равно продолжается
Песня, словам вопреки!)
Где это море? — вы спросите, —
Где этот пляшущий риф?
Где — без морщинки, без проседи —
Юный зеленый залив?
Где эти заросли тесные,
В лунной бесплотной пыльце?
Звери да птицы чудесные?
Люди с огнем на лице?
Гибкие пальцы упрямые?
Чаши? Цепочки с резьбой?
(Эхо! Не путай слова мои:
Я говорю не с тобой!
…Вишу, как ночь приближается
Высохшим руслом реки:
Но все равно продолжается
Песня, словам вопреки.)
Ночь напечатала прописью
Чьи-то на глине следы.
Над плоскодонною пропастью
Эхо, как пушечный дым.
В сумрак, исчерченный змеями,
Русло уходит, ветвясь…
В путь! — между розными звеньями
Рвусь восстанавливать связь.
1962
Старинные корабли
Как прекрасны старые корабли!
Будто жарким днем, в холодке квартир,
Крушевницы гентские их плели,
А точили резчик и ювелир.
Грациозно выгнуто их крыло.
И настолько тонкий на них чекан,
Будто их готовили под стекло.
А послали все-таки — в ураган.
(Лишь обломки их под «секло» легли…)
Хороши старинные корабли!
Были души: чистые, как хрусталь,
Тоньше кружев, угольев горячей;
Их обидеть жаль, покоробить жаль, —
А ушли они — в перестук мечей,
Словно к мысу Горн — корабли…
Да уж как не так! Перестук мечей
Сладкой музыкой был бы для их ушей!
Но ушла их жизнь… в толчею толчей,
На съеденье крыс, на расхват мышей,
На подметку туфель для мелкой тли…
Потому от них на лице земли
И следа следов не нашли…
Опустелые, как безлистый сад,
Бригантины спят:
Им равны теперь ураган и бриз, —
Паруса, как тени, скользнули вниз,
Такелаж провис…
Уж теперь и в прошлое не спешат:
Сколько могли — ушли.
…Но опять над вами сердца дрожат!
Но опять заботы на вас лежат!
И опять вам жребии подлежат,
О старинные корабли!
1975
К музе комедии
Кто смешным боится быть: кто в смешные положенья
Не стремится угодить, — тот боится униженья.
Кто боится униженья,
Кто вкусил от поношенья,
Кто забит и напряжен,
Тот не может быть смешон.
Тот же (храбрый!), кто беднягу не страшится оскорбить;
Кто не даст ему и шагу без стеснения ступить,
Кто не в меру задается,
Кто над слабостью смеется,
Кто сердечности лишен, —
Тот действительно смешон!
Не смешна мне ущемленность
(если злоба ей чужда):
Мне смешна самовлюбленность, не имущая стыда.
Не смешны ведь ни калеки, ни шуты, ни горбуны:
Душечки-сверхчеловеки — вот кто подлинно смешны!
На подмостках театральных
Лица клоунов печальных —
Известковой белизны —
Не смешны.
Торт, который в полмомента
Влеплен в «рыло» оппонента, —
Мудро, ново, ярко! — Но
Не смешно.
Избиенье (хоть бы вора!), освистание актера,
Одураченный поэт,
Строчки выстраданной кража, книг ворованных продажа, —
Остроумно? Ловко? — Нет.
Жар напрасный, гнев больной
Тоже фокус не смешной.
Не смешны: ни свист одышки, ни походка старых дев
(Над которой животишки
Надрывают старичишки,
На сто лет помолодев);
Ни носов чужих фасоны, ни проделки злых пажей,
Ни обманутые жены, ни рога во лбах мужей, —
Нет! — (пока не проступили
В них такие же лгуны), —
Не смешны мне простофили:
Мне обманщики смешны.
О Комедия святая!
Столь не часто к нам слетая,
Жалость, милость нам яви!
Путь закрой насмешке злобной,
Гогот изгони утробный, —
Суть вещей восстанови!
С простодушием лукавым
Вещий толк верни забавам,
Слезы вызови из глаз, —
О смешливая! И снова
Острым чувством Несмешного
Наделяющая нас.
1976
РАМИС РЫСКУЛОВ
(Род. в 1934 г.)
С киргизского
{262}
Россия
Перевод В. Сикорского
Тебя и взглядом не окинуть, о Россия,
Но уместились все ж в душе моей
Твои невероятные просторы.
И нет числа тем жизням, что во имя
Грядущего России отданы.
Твоя неотвратимая печаль
Глодала сердце многих поколений.
Так не забудь страдальцев имена
И подвиг тех, кто пролил кровь за счастье.
И счастье нынче у тебя размахом
С былое горе. И прекрасна ты
В своем высоком радостном сиянье.
Россия, ты — такая высота,
Куда не каждому дано подняться:
Твои недосягаемые выси
Звенят над головами древних гор.
Горишь ты во вселенной самоцветом,
Которому нет равного нигде.
Хоть раз за век мне хочется услышать
Вздох, вырвавшийся из твоих глубин,
Почуять богатырское дыханье
Твоей могучей молодой груди,
Бездонное над головою небо
И небо, отражающее море.
И окоем за бездной голубою
Обманчивую ограничил даль…
Мечты Россия
И Россия яви —
Одно и то же,
Тождество их вот —
Перед тобой!
Моя Россия,
Дай заглянуть в грядущее твое
И в прошлое — сквозь времени потопы.
Как много утомилось аргамаков,
Не в силах одолеть такой простор,
Как много было соколов могучих
Ветрами северными сметено!
О, покажи свой вечный лик, Россия,
Хоть на мгновенье предо мной рассей
Туман загадочности первозданной.
Россия, ты во времени стоишь,
Как гордый дуб, могучими корнями
Ушедший в недра темные веков,
Стоишь неколебимо и бесстрашно
Под злыми, ураганными ветрами.
Ты будешь цвесть, пока жива земля,
Россия, о великая Россия!
1965
РЫГОР БОРОДУЛИН
(Род. в 1935 г.)
С белорусского
{263}
Камни Брестской крепости
Перевод И. Бурсова
На висках земли
Мы бьемся тревожными жилками.
Мы, как воины, полегли,
А стенами были живыми.
Это наш гнев
Стонет, окаменев,
Мы сгорели в огне войны,
Мы от гари и боли черны,
Мы хотели для вас тишины,
Люди…
Я — сын земли
Перевод Ф. Ефимова
Я — сын земли,
наследник хлебопашцев.
Вослед за солнцем
Долго мне брести.
Я был бы счастлив
зернышком упавшим
в земле отцов и дедов
прорасти.
Во мне одном
и быль ее, и сказка,
ее крыло
несет меня в полет.
Шлем космонавта
пасечника маской
мне кажется:
сосед качает мед.
Издревле человек,
дождавшись ночи,
в глазах пересыпает
Млечный Путь.
Но сердце
только о земле хлопочет,
и лишь земное
не дает уснуть.
Не спит земля,
мое благодаренье:
планеты-сестры
позывные шлют.
Чем выше в небо
тянутся деревья,
тем дальше корни
в глубь земли идут.
О моем языке
Перевод Ф. Ефимова
Утверждают историки, языковеды, ученые,
Будто есть языки, на смерть обреченные,
Будто как пережиток уже отмереть готово —
Колыбельная песня моя — белорусское слово,
Будто скоро при встрече
Таращиться немо нам.
Будто Неман и Нямунас
Будут единственно — Неманом.
Я мечтаю о дружбе великой, всеобщей людской,
Но не верю тому, что родные реченья лузгой
Отвеются от семян человечества,
Что прорастают в вечности.
Облетают по осени боры-космачи,
А весной разжимает листва
Свои кулачки молодые.
Если даже слово мое замолчит,
Не стать ему мертвой латынью.
Живые слова
Не будут утерянными,
Им вовеки не стать
Медицинскими терминами.
Каждое слово
Языка моего выучат снова,
Чтобы узнать по нему,
Как Русь моя, белая
От весенней кипени,
От костей и саванов гибельных
Над пауками свастик,
Вольной волей своей дорожила
И как с кровными сестрами
Крепко дружила.
Когда слово мое
Вольется в людской океан,
Оно на себя примет
Роль ручейка в Гольфстриме, —
Будет мне сердце греть
Возрождаемое снова и снова,
Мое вековечное
белорусское слово!
И. Ф. Степанов. На освобожденной земле. 1969
ГРИГОРЕ ВИЕРУ
(Род. в 1935 г.)
С молдавского
{264}
«Когда родился я, на лбу моем…»
Перевод Я. Акима
Когда родился я, на лбу моем
Корона царская заискрилась —
Рука родная материнская,
Рука родная материнская.
Моей любимой нежная ладонь
И матери моей рука — на миг
Вы встретились впервые в волосах моих,
Вы встретились впервые в волосах моих.
Есть дети у меня. Но и теперь,
Лишь ночь распорота зарею пламенной.
На лбу своем найду я руку мамину,
На лбу своем найду я руку мамину.
О, та рука, ее рука,
Как ветвь, увядшая на склоне дней.
Состарилась на голове моей,
Состарилась на голове моей.
1965
Пересадка сердца
Перевод Ю. Кожевникова
Необходимо
мне в грудь вживить
иное сердце,
иначе
Я умру.
И мать
свое мне сердце отдает.
Но сердце продолжает все болеть.
Оно болит
особенно, когда горит земля
от жажды по дождю.
Особенно, когда отец
все не идет с войны.
Особенно, когда брожу
среди чужих людей
и месяцами не пишу
домой.
Особенно по вечерам,
когда за холм
заходит солнце,
оно болит.
Подобной боли
не знал я никогда,
но и таким терпеньем
не обладал я тоже.
1965
Наш дом
Перевод Ю. Кожевникова
Много я стихотворений
Написал, но вот понять
Лишь одно, о доме нашем,
И смогла старуха мать.
Текст, подтекст — все это к черту!
Рифм изысканность — при чем?
Я пишу стихи простые,
Словно наш крестьянский дом.
Полночь. Белый лист бумаги.
Рукавом стираю пот;
Ох, достался трудно маме
Глинобитный домик тот.
1965
Ты
Перевод Я. Акима
Чуть свет домой вернулся,
чтоб знать, что скажешь ты,
к еде не прикоснулся,
чтоб знать, что скажешь ты.
Мне девушка мигнула,
чтоб знать, что скажешь ты,
с тобой расстался было,
чтоб знать, что скажешь ты.
В морскую глубь ныряю,
чтоб знать, что скажешь ты,
с кораллом выплываю,
чтоб знать, что скажешь ты.
Я высох, словно дерево,
чтоб знать, что скажешь ты.
Пускай умру я первым,
чтоб знать, что скажешь ты.
1968
Я взял у матери…
Перевод Ю. Кожевникова
Синим поясом,
что забыла мать на приступках,
подпоясался я
и ушел.
Я взял у матери все:
молодую улыбку,
голос,
слова.
Каждый раз, когда слышу свой смех,
я вздрагиваю. И вдруг умолкаю.
Летом мой сын,
который пошел
этой осенью в школу,
мячом выбил стекло,
за которым мать поджидала меня.
Я взял у матери все:
взгляда грустную синь, снег зубов,
темноту волос.
Почти ничего
Не могу ей обратно вернуть.
О боже,
хотя бы вернуть ей
этот синий пояс
и вставить стекло.
1972
Слово «мама»
Перевод Ю. Кожевникова
Дети звенят им.
Старикам снится оно.
Больные шепчут его.
Немые думают им.
Трусы его кричат.
Сироты рыдают им.
Раненые взывают к нему.
Остальные его забывают.
О мама! Мама!
1972
ФИКРЕТ ГОДЖА
(Род. в 1935 г.)
Переводы В. Проталина
С азербайджанского
{265}
Родная моя деревня
С горизонта упало за кромку земную
пожелтевшее солнце осенним листом.
И негромко звучат,
чтоб погаснуть потом,
как огонь,
голоса…
Лишь один не засну я.
В волосах поздней ночи запутались зерна
фонарей придорожных.
Но первой росой
заблестела листва,
словно бисер узорный.
Молодая луна
с золотистой косой
по равнине свое расстелила сиянье.
Расстелила —
и тени как будто длинней.
И теперь уже небо земли зеленей —
словно поле с цветами.
Чтоб в холоде раннем
не продрогли дороги,
их, как одеялом,
застелили следами,
уйдя по домам.
Словно думы земли, закурился туман.
О деревня моя,
как ты за день устала.
Как душа моя с детства в тебя влюблена.
Как скучал без тебя я,
Родная деревня.
Все до малости дорого,
Близко в тебе мне.
Над тобою, уставшей, стоит тишина.
Но лишь солнце взойдет,
ты пробудишься снова.
Вновь проснутся дела —
и тебя не узнать…
В каждой песне — тебе
мое лучшее слово,
дорогая моя, хлопотливая мать.
Моя свобода
Вот солнце,
сверкнув в голубой волне,
коснулось каспийских вод.
И солнце во мне,
и море во мне,
и дождь для меня идет.
Цветы я красивыми быть учу,
деревья счастливыми жить учу
и землю доброю быть учу —
это нетрудно мне.
И эти здания
все мои,
и степи дальние
все мои,
во всех садах соловьи мои,
и горы вокруг мои…
Так радостно видеть бывает мне
и птиц в веселой голубизне,
и рыб, сверкающих в глубине,
игрой встревоживавших воды…
Поэтому вольное сердце во мне —
это и есть свобода.
ЛИВИУ ДАМИАН
(Род. в 1935 г.)
Переводы Ю. Кожевникова
С молдавского
{266}
Чтоб писать
Нужно бросить на чашу весов что-то совсем простое,
простое, как камень, как древесина, как пух,
как горькое сердцебиенье,
тугою
лентой бинтующее дух.
Нужно бросить на чашу весов, что бросить
вовсе нельзя и нельзя проглотить, —
как лугового тумана проседь,
что хочет за стадом куда-то плыть.
Нужно бросить на чашу трепещущее и высокое,
словно лист, что только дыханием мы поддерживаем над головой,
когда душа, совсем одинокая,
защищает все, что есть за душой.
Нужно бросить на чашу все, без чего распадется и рассыплется
жизнь на мильоны простейших частей,
как без воды из колодца,
как без воздуха меж ветвей.
Ну, а если слезу твою тоже бросить на чашу,
и смех заразительный женщины, мне незнакомой совсем,
и тоски тростниковую чащу, —
с чем останусь, писать буду чем?
1974
Утро белоснежно
Утро белоснежно,
и любовь бела.
И слеза звездою
по лицу стекла.
Белоснежно утро,
острой белизной,
как косой, коснулось
до лица слезой.
Белоснежно утро,
бедер белизна…
Слезы покатились
пропастью без дна.
Утро белоснежно,
белое вдали —
и слеза со смертью
по лицу прошли.
1974
БОРИС ОЛЕЙНИК
(Род. в 1935 г.)
С украинского
{267}
Похороны учителя
Перевод Н. Ушакова
Памяти
Алексея Антоновича Вовнянко
Как несли его к нему в новый дом,
Как по улице проносили, —
Был веселый май, все дышало теплом…
А руки стыли.
Покрывала пыль перекрестка крест.
Старики жалели покойника.
Громыхал, трепетал, ошибался оркестр,
Играли школьники.
А когда миновали школьный сад,
Как антоновка — всех моложе
Подбежала одна, и сразу назад:
— Алексей Антонович, что же вы!
Не услышал он или сделал вид,
Что заснул, — высоко несли его.
Лишь рукой шевельнул, так шевелит
Осень сухими листьями.
У обочин шоферы затихших машин
В рукава сигареты прятали, —
Его ученики — все, как один,
А он — преподаватель их.
По хатам не ссорились мужики,
Стояли на улицах чинные.
А были его ученики
Старинные.
Ну а пьяница — тот хулиганил, галдел,
Такое при детях калякал, —
Увидел его и протрезвел
И, протрезвев, заплакал.
А герой-генерал, вся грудь — ордена
За подвиги боевые —
Прочитал телеграмму, побелел как стена
Впервые.
Скорбной вербой поник я и сам тогда.
Все напасти в душе подытожил,
Для чего к ним прибавилась эта беда,
Для чего, для чего, для чего же…
Как могли, наш учитель, вы умереть?
Были вы моей детскою верой,
Были другом моим и останетесь впредь
Образцом для меня и примером.
И хотя б в непогоду, хотя б в смертный час
Ливень лил, ветер выл не смолкая,
Но зачем, почему вы оставили нас
В удивительном месяце мае?
Он ответил:
— Дружок, не томись, не страдай,
На моей не терзайся могиле.
Потому-то и выбрал я месяц май,
Чтобы жизнью вы дорожили.
«Ты — звездою… А я — кленом…»
Перевод Л. Смирнова
Ты — звездою… А я — кленом…
Ты — звездою…
Ах, когда бы и осталось так в веках!
И ходил бы между небом и землею
Белый ветер в самодельных сапогах.
А девчата из проектных институтов
Эти клены ставят в профиль и анфас.
Подровняют их, подпилят и подкрутят,
Как-никак, а есть порядок и… асфальт.
Все замерят, предусмотрят все детали,
Запланируют положенный газон,
Чтоб вдоль улицы колоннами шагали,
Чтоб не лезли, где не надо, на рожон.
А мы яростные песни в жизни пели,
И любили, и страдали от обид,
И детей своих сажали на пропеллер,
И срывались с предначертанных орбит.
Не печалься, дорогая! С небосклона
Ты склоняйся надо мною иногда…
Ты — звездою… А я — кленом…
Будут клены!
Только б ты не угасала, как звезда…
Белая мелодия
Перевод В. Шацкова
Глянул: белые лилии,
Белоснежные линии —
Я во сне?
Серебристою ниткою
Дали белые вытканы —
Выпал снег.
Тихо бродит безмолвие,
Дышит снегом приволье,
Дышит негой приволье,
Дышит вечностью даль.
Небо — выгнутым зеркалом,
Звезды — льдинками звенькают,
«Дзииь-дзинь» — тоненько звенькают,
Как на люстре хрусталь.
Я один.
Только след на снегу.
Только тени
белесые бегают
По библейской нетронутой белости,
Только иней смеется и ластится,
И к плечу прикасается лапкою…
Кто плечо мое трогает ласково?
Озираюсь —
лишь тени вокруг.
Только тень
белой белкою
бегает.
Скок на ветку
серебряно-белую,
Вверх и вниз,
Вверх и вниз,
Скок да скок…
Ветка с веткой.
А я одинок.
Белый ветер в сугробах нетронутых
Строит замок для фей зачарованных.
Они кружатся призрачно-белые,
И танцуешь ты
празднично-белая
Подарила мне взгляд
с белой лоджии,
И застыл я, навек завороженный…
Белый замок уплыл белым облаком,
Лишь осталась мелодия отзвуком.
Кружит снежною вьюжною ночью…
Белым-белая…
Как одиночество…
ВЛАДИМИР САНГИ
(Род. в 1935 г.)
С нивхского
{268}
«Я северянин. Нивх…»
Перевод автора
Я северянин. Нивх.
Мне колыбель — метели,
С рожденья я на «ты»
С бураном и тайгой.
И где бы ни был я —
Везде мне снятся ели,
И, словно предков зов,
Я слышу ветра вой.
Конечно,
Есть края,
Где вся земля — ручная.
Конечно,
Есть края,
Где зреет виноград.
Но там — я только гость,
Там по тебе скучаю,
О край суровый мой.
Я новой встрече рад.
И я иду туда,
Где кочевали деды.
Я пью истоки рек,
И радуюсь я вновь,
Когда один в кустах
Иду медвежьим следом
И слышу, как во мне
Опять играет кровь.
Угрюмая тайга
Меня встречает нежно,
А реки резво мчат,
Играючи, звеня.
Да разве есть края
Под солнцем иль под снегом,
Чтоб звали так меня,
Как ты, моя земля!
1959–1963
МАЙРАМКАН АБЫЛКАСЫМОВА
(Род. в 1936 г.)
С киргизского
{269}
«Аил мой милый… Дикая природа…»
Перевод Р. Казаковой
Аил мой милый… Дикая природа.
Не новый дом от гор невдалеке,
мой добрый дом, хранящий сказки рода,
где дым над крышей в сладком завитке,
где можно от восхода до захода
играть на камышовом чердаке…
Летела юность, как сплошная шалость,
рвала цветы и припадала к ним,
как будто это к матери прижалось
дитя — и стало с матерью одним…
Босая юность… Мы к тебе не жалость,
а зависть удивленную храним.
В горах росла я. Эти склоны — голы,
те — в зелени дымящейся, как шерсть…
Люблю высокогорные просторы.
Вы, горы, словно жизнь,
а в жизни есть пустые склоны,
что не красят горы, и все,
чего в родных горах не счесть…
Но юным днем, голубизной сиявшим,
в хрустальность и прозрачность первых слов
война вломилась самолетом вражьим,
шипеньем бомб над сказкой тихих снов,
над Ала-Тоо, над знакомым кряжем,
над родиной — основою основ.
А мама умерла. Ушла так рано.
Другим мои капризы не нужны…
Жить без нее так страшно и так странно.
Но мама — это где-то до войны.
А у меня — зеленая поляна
да там речонка в полторы волны…
Как горько надо мной склонились ивы,
как горько отвечало эхо скал,
как будто голосок его пугливый
со мною вместе мать мою искал…
А шквал трепал кустов прибрежных гривы,
седые ивы за косы таскал…
Спросите, как я выросла без мамы.
Я расскажу, как ласковы арчи
{270} и как лучи рассвета горячи,
как скалы научили быть упрямой,
как горы говорили мне: «Молчи!
Не унывай. Ходи легко и прямо…»
И молодость любви была полна,
не важно, что была она сурова,
что обожгла великая война
все камышинки у родного крова,
любила так, что умереть она
была готова — и воскреснуть снова!
Я вспоминаю это все не часто,
задевши память кончиком пера…
А дни идут,
а годы мчатся,
мчатся, и вот все чаще — эти вечера,
когда, нахлынув, сердце рвет на части
та славная и трудная пора…
1965
ЭРКИН ВАХИДОВ
(Род. в 1936 г.)
Переводы А. Наумова
С узбекского
{271}
Башня
У древней башни купол набекрень —
как старый шлем, во вмятинах и шрамах.
И вход забит…
А сбоку, на бедре,
дыра зияет, как сквозная рана.
Как дерево, истлели кирпичи,
в изломах трещин обнажая торец,
слиняли краски в солнечной печи,
и письмена затейливые стерлись.
А мимо — мчит асфальт,
и новый клуб
напротив
окна в удивленье пялит.
Еще он просто по-мальчишьи глуп —
в него пока не заложили память…
Он думает о башне:
«Ну и ну!
Впервые вижу древность таковую.
Чего она торчит здесь, не пойму?
Давно бы ей пора на боковую.
Сломать ее, поставить новый дом…»
Он слишком юн еще
и, как ни хочет,
никак не может разобраться в том,
что с башнею напротив происходит.
Зачем приходят люди и опять
колдуют над орнаментами теми
и, ветхие, готовые упасть,
упорно восстанавливают стены…
Нет, он понять не в силах!
Для него
тут только разорительная смета,
ему противно башни торжество,
в нем сантиментов нет
ни сантиметра.
Он не постиг, едва свой путь начав,
что жить нельзя без прошлого
и тени
на этих вот истлевших кирпичах
укрыли память прошлых поколений —
их чаянья,
их боль и мастерство —
то, без чего и не было б, пожалуй,
сегодняшней разумности его,
его красы и стройности поджарой;
что времени не рвущаяся нить
вручается в безвестное идущим —
и так порою важно им
сравнить,
поставить рядом
прошлое — с грядущим…
Родник
Всю медленную нежность мест родных
я оценил и понял по-иному,
когда в жару, о ледяной родник,
ты жажду мне утишил понемногу.
Весь труд пути, и одурь, и жару
я напрочь смыл глубинною прохладой
и ощутил: тому, чем я живу,
из тех же недр
пробиться к сердцу надо…
Пока я пил, пока родник бежал
в ладонь мою
и дальше в камни мчался,
я чувствовал, как рук остывших жар
по жилам снова
в сердце возвращался.
ЭНН ВЕТЕМАА
(Род. в 1936 г.)
С эстонского
{272}
Вопрос о лошадке-качалке
Перевод В. Шацкова
Герр штурмфюрер! Прошло
после капитуляции
двадцать спокойных лет.
И вот
с лошадкой-качалкой на поводу
иду к вашей совести
вопрос пустяковый выяснить.
Нет!
Не глобальный вопрос
грабительства —
убийства — насилия — зверства.
Детский пустячный вопрос
о деревянной лошадке.
Я ездил не раз
в автомобиле, на самолете,
на корабле и настоящем коне,
как тот,
что хрустит гладиолусом
в вашем цветущем саду.
Но,
как вам известно с детства,
бывают далекие страны,
в которые можно добраться
лишь на лошадке-качалке.
В прошлой войне, начавшейся
по вашему произволу,
под рухнувшей кровлей дома
сгорели права на вождение
моей деревянной лошадки.
О доме давайте забудем —
давно уже выстроен новый,
но прав на вожденье лошадки
нигде я достать не могу.
Так что, штурмфюрер в штатском,
не знаю, как нам помириться,
если вы мне не вернете
потерянные права.
Хотя бы годика на два.
1965
ИВАН ДРАЧ
(Род. в 1936 г.)
Переводы В. Шацкова
С украинского
{273}
Баллада о золотой луковице
Она — золотая богиня горланящих рынков —
Амулетом качается на гирляндах венков,
Обвивающих шею горбатой Горпины.
Она — златовласая нимфа с косою,
Вплетенною в косы подружек,
Провожаемая миллионами жадных зрачков,
Ждет того, кто развяжет золотистый девический пояс.
Она — золоченая главка подземных церковок —
Дрожит за свою золотую нетленную душу
Перед языческой жестокостью тупого ножа,
Тысячу раз обагренного, покупающего ее золото
За тускнеющий хлам медяков!
Она уже чувствует, как немеют ее золотые груди
В объятиях бродяги-жигана Огня.
Она, — королева красоты деревенских базаров, —
Пригорюнясь, сидит на гауптвахте солдатского вещмешка,
Золотая фея, плененная свирепым Аппетитом!
Она — родная сестра краюхи черного Хлеба
И двойняшка-сестрица белокафтанного щеголя Чеснока,
Она — золотая граната в львиной пасти студенческого голода,
Извечная соперница разваренной рохли Картошки,
Верная подруга кухонной скромницы Соли,
Маленькая Жанна д’Арк, сражающаяся с полчищами микробов,
Она — нежная Лаура безвестного Петрарки
{274} ,
Некоего курносого Петра из технического училища на Подоле,
Укрытая в теплице его самодельного сундучка;
Неужели она — простодушная золотце-Золушка,
Что безвременно сгинет в темнице желудка,
Неужели она, золотая красавица, не догадывается,
Как ей суждено умереть:
То ли украсить белыми светозарными нимбами
Святые дары черствого пшеничного ломтя,
То ли нежно-лиловыми кольцами хула-хупа
Крутиться на серебряном стане Шампура
Перед кровавым откормленным Шашлыком…
Начинается золотая агония предсмертного стриптиза:
Она сбрасывает золотистую шубку,
Она сбрасывает золотящийся джемпер,
Она сбрасывает золотое тончайшее платьице,
Она сбрасывает золотенькую рубашечку-кожурку
И, оголенная, белая, плачет над поруганной чистотой —
Золотая Луковичка из огородов моего деревенского детства,
Золотая весталка из таинственного Храма Бытия,
Сжавшаяся в золотой кулачок испуга…
Лебединый этюд
Ночь, укрой меня тьмою, укрой меня синью усталой
И взмахни надо мною своим лебединым крылом,
Пусть навеются сны — облаков лебединая стая —
И качает их месяц обструганным светлым веслом.
Виноградной лозой зацветут автострады бетонные,
Окунет свои косы в пахучий любисток заря,
И, созвездием Лебедя, в отраженных огнях Ориона
Ты по спящей лагуне поплывешь в голубые моря.
Ночь! Укрой меня тьмою, укрой меня синью усталой
И взмахни надо мною своим лебединым крылом.
Кружат голову думы, плывут лебединою стаей,
Отсвет месяца дышит дремотным покоем и сном…
Калина
Пью сок густой багряных терпких ягод;
Пью алый сок морозных жгучих зорь,
Пью листопада утомленный шелест,
Пью пряное теченье октября —
Расплавленное золото распада.
Дыханье перехватывает нежность
От горечи в вине любимых губ,
От вечности в напитке материнства…
Хрустит осадок грусти на зубах,
И саднит горло сладость увяданья.
Тянусь к тебе
сквозь поросль прошлых лет
И трепетной
горячею ладонью
Касаюсь ягод девичьей груди.
Ты хлещешь меня веткою наотмашь
И стан ствола надменно отклоняешь —
Аристократка с сельскими корнями…
Все оттого,
что мои ноги в туфлях
Свой след босой не могут отыскать.
Девичьи пальцы
Сколько стона, сколько муки в пальцах,
Сколько дрожи в крике их немом,
В пальцах — истомившихся страдальцах,
Трепетно лучащихся теплом.
Сколько бликов, отсветов, мерцанья,
Призрачных блуждающих огней
В страстных безъязыких заклинаньях
Пятерых полночных ворожей.
Бледные, в наручниках запястий,
Пленницами бьются до зари
Пальчики — рабыни нежной страсти
На бессрочной каторге любви.
Как же их утешить, бессловесных,
Как же их, пугливых, не спугнуть,
Не обжечь огнем прикосновений,
Холодностью губ не полоснуть!
Пять лампад, пять светлячков, пять зорек
В полутьме мерцают надо мной…
Господи! Как сладостен и горек
Мед ваш светлый, солнечно-густой!
Баллада любви
Земля из пепла. Вихрились столетья,
Роняя пепел зорь из рукава.
Рванись к ним мыслью — вспышка мозг осветит,
И в пепел тело, и душа — вдова.
Земля из кремня. Стали камнем предки
И пыль дорог — святой прах естества…
Как будто мне лицо прошили реки,
Как будто мной от века Рось жива!
Земля из пыли от обломков сабель,
Что въелась в кожу со времен Орды,
Когда орлы, слетаясь, рвали падаль
И солнце жгло запекшиеся рты.
Отечество! Как жалки наговоры!
Сквозь очи предков бьет разрыв-трава…
Кто грудь могил священных опозорит,
Того земля откажет укрывать.
Нам жить на ней. Жать жито, сеять, строить
И дымом домен полнить небосвод…
Твое бытье былинное, народ мой,
В моей крови клокочет и поет!
Сонет
(Подражание Петрарке)
Благословен тот месяц, вечер, миг,
Моей души благословенны раны,
Благословен тот взгляд, что в грудь проник
И сердце жжет страданьем непрестанным.
Благословен волнения родник
И этот плен томительно-желанный,
Где бог любви стрелой своей настиг,
Неотразимой, быстрой и нежданной.
Благословенна речь, которой я
Ее прославил, где любовь моя
Рождала медь сонетов многозвонных.
Благословенны вы, ее канцоны;
Иных не исповедую имен —
Ей каждый слог навеки посвящен.
ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ
(Род. в 1936 г.)
С украинского
{275}
«Тем спасибо…»
Перевод Н. Ушакова
Тем спасибо
у нас на звезде,
кто согражданам строил дом,
кто указывал путь воде,
чтоб всегда была
в доме том.
Настоящую радость дает
не случайность в нашей судьбе,
а сознанье:
на свете живет
человек, благодарный тебе.
Песня
Перевод Юнны Мориц
Если не будет хлеба — не дадут умереть от голода,
Если не будет рубахи — кто-нибудь даст свою.
Если совсем одиноко — пройдись по улицам города,
Он поймет, улыбнется и примет тебя в свою толчею.
Не спится?
Значит, усталость время для сна выбирает,
Она заставит спуститься толпы видений с лестниц.
Если нет за душою песни, тогда человек умирает,
И даже не похоронишь
Как надо, —
Ведь нету песни…
«Поведай-ка, трава…»
Перевод Юнны Мориц
Поведай-ка, трава,
Как ты приходишь в свет, —
Взрезаешь воздух, новизною вея,
Поведай о рождении поверья,
Где папоротник прячет
Редкий цвет.
Раскрой секрет своих волшебных слов,
Очарованья,
Взлетов затаенных, —
Ты поднимаешь на ножах зеленых
Бетон, лежащий
В несколько слоев.
Проходишь сквозь асфальт —
И ты права,
Готова к наводненью и к морозу.
…Так проросла поэзия сквозь прозу.
О, продиктуй мне свой закон,
Трава!
Осень
Перевод Юнны Мориц
А кони мчатся в золоте
Табун, приговоренный к вечной скачке, —
Мерещатся над крышами домов
Хребты коней в божественной раскачке.
Табун, который облакам — пример,
Летит, загадочный в любом своем усилье.
У осени — своя система мер
И собственные кони в карусели.
На черепичных треуголках дач
Еще журчит, бог весть откуда, ливень.
Там кони листопада пьют из туч,
А ветер им расчесывает гривы.
Ты
Перевод Е. Винокурова
Ты приходишь ко мне не сразу, а как бы понемногу —
то в товарище,
то в женщине,
то в минутном знакомом.
Ты приходишь ко мне не сразу, а как бы понемногу.
И я не могу собрать тебя в одного человека,
которого я когда-то знал…
Ты раздробился, и напрасно
искать тебя, потому что я
всюду вижу твои копии,
которые близки тебе
только своими случайными признаками.
Эти копии яростно враждуют
между собою.
И все же это ты…
Только низкую душу
можно собрать по частям.
И снова ты придумываешь себя,
чтобы казаться не тем, кто ты есть.
Ты хочешь быть идолом
всех вероучений
и полководцем всех армий,
даже враждующих между собой.
Скажи: что я должен делать,
если в иконных брызгах ста зеркал
я теряю твой облик?
А когда ты выносишь вперед руку,
я не знаю для чего:
для удара или для рукопожатья?
Скажи: что я должен делать,
если ты приходишь ко мне не сразу, а как бы понемногу?
Я не могу собрать тебя
в одного человека, которого я когда-то знал.
Освобождение
Перевод Е. Витковского
В 1837 году под Петербургом убили Пушкина.
В 1837 году в Петербурге выкупили из крепостной зависимости Шевченко.
Свободен Пушкин — в небе свободно.
Свободен Шевченко — имеет право
Отныне ездить когда угодно
Хоть от Кавказа и до Варшавы.
В люди его предлагали вывести:
«Иди на задних лапках за нами».
Ему сулили царские милости
И соблазняли его чинами.
Ему похвалы выдавали законники —
Грехов отпущенье в письменном виде.
Его исключали из светской хроники:
Из этого, думали, что-то выйдет.
А после, глазки прищурив заячьи,
Храня в зрачках ледяной заслон,
К нему приглядывались, размышляючи,
Во сколько монет обойдется он.
Почем она, улыбка поэта?
За сколько и кто подхихикнуть может?
«Смейся!» — велят. Несмотря на это,
Губы поэта гримаса корежит.
Пытают, грозят — пошло, томительно, —
Слова словно погреб,
Слова как грязь…
Доволен царь, когда сочинители
Показывают зубы, только смеясь!
Одного — повесили, другой — веселится,
Один — во злате, другой — во зле.
А ты сквозь набрякшие подлостью лица
Плывешь, плывешь, как лодка во мгле.
На берег выйдешь — там тоже пусто,
Но — снова смейся! Не потому ли
Шевченко смеется, словно Пушкин,
Который только что встретил пулю.
Над мертвым Пушкиным царь колдует,
А ты свободный — над всем встаешь,
А судьи почтенные негодуют
И в пальцах унять пытаются дрожь.
Клеветники по следу пущены —
Наивернейшие слуги застенка…
Над непросохшею кровью Пушкина
Уже проступает кровь Шевченко.
На царских поминках — зловонный ладан.
Есть ярость, когда свободы нет.
Поэт умрет за народ, коль надо,
А это значит — вечен поэт!
Друг другу видны и слышны давно вы,
И вдоль дороги — то здесь, то там —
Яблони важно кивают вам,
А на ладони — цветок пунцовый,
Словно бы с кровью пополам.
АЛЕКСАНДР КУШНЕР
(Род. в 1936 г.)
{276}
«Когда тот польский педагог…»
Когда тот польский педагог
{277} ,
В последний час не бросив сирот,
Шел в ад с детьми и новый Ирод
{278} Торжествовать злодейство мог,
Где был любимый вами бог?
Или, как думает Бердяев
{279} ,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?
Так, тень среди других теней,
Чудак, великий неудачник.
Немецкий рыжий автоматчик
Его надежней и сильней,
А избиением детей
Полны библейские преданья,
Никто особого вниманья
Не обращал на них, ей-ей.
Но философии урок
Тоски моей не заглушает,
И отвращенье мне внушает
Нездешний этот холодок.
Один возможен был бы бог,
Идущий в газовые печи
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.
«Четко вижу двенадцатый век…»
Четко вижу двенадцатый век.
Два-три моря да несколько рек.
Крикнешь здесь — там услышат твой голос.
Так что ласточки в клюве могли
Занести, обогнав корабли,
В Корнуэльс из Ирландии волос.
А сейчас что за век, что за тьма!
Где письмо? Не дождаться письма.
Даром волны шумят, набегая.
Иль и впрямь европейский роман
Отменен, похоронен Тристан
{280} ?
Или ласточек нет, дорогая?
«Сентябрь выметает широкой метлой…»
Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу.
Сентябрь выметает широкой метлой
Хитиновый мусор, наряд кружевной,
Как если б директор балетных теплиц
Очнулся и сдунул своих танцовщиц.
Сентябрь выметает метлой со двора,
За поле, за речку и дальше, во тьму,
Манжеты, застежки, плащи, веера,
Надежды на счастье, батист, бахрому.
Прощай, моя радость! До кладбища ос,
До свалки жуков, до погоста слепней,
До царства Плутона
{281} , до высохших слез,
До блеклых, в цветах, элизейских полей
{282} !
«О слава, ты так же прошла за дождями…»
О слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, —
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!
Сломалась в дороге твоя колесница,
На юг улетела последняя птица,
Последний ушел из Невы теплоход.
Я вышел на Мойку: зима настает.
Нас больше не мучит желание славы,
Другие у нас представленья и нравы,
И милая спит, и в ночной тишине
Пусть ей не мешает молва обо мне.
Снежок выпадает на город туманный.
Замерз на афише концерт фортепьянный.
Пружины дверной глуховатый щелчок.
Последняя рифма стучится в висок.
Простимся без слов, односложно и сухо.
И музыка медленно выйдет из слуха,
Как после купанья вода из ушей,
Как маленький, теплый, щекотный ручей.
«Кто-то плачет всю ночь…»
Кто-то плачет всю ночь.
Кто-то плачет у нас за стеною.
Я и рад бы помочь —
Не пошлет тот, кто плачет, за мною.
Вот затих. Вот опять.
— Спи, — ты мне говоришь, — показалось.
Надо спать, надо спать.
Если б сердце во тьме не сжималось!
Разве плачут в наш век?
Где ты слышал, чтоб кто-нибудь плакал?
Суше не было век.
Под бесслезным мы выросли флагом.
Только дети — и те,
Услыхав: «Как не стыдно?» — смолкают.
Так лежим в темноте
Лишь часы на столе подтекают.
Кто-то плачет вблизи.
— Спи, — ты мне говоришь, — я не слышу.
У кого ни спроси —
Это дождь задевает за крышу.
Вот затих. Вот опять.
Словно глубже беду свою прячет.
А начну засыпать,
— Подожди, — говоришь, — кто-то плачет!
Кружево
Суконное с витрины покрывало
Откинули — и кружево предстало
Узорное, в воздушных пузырьках.
Подобье то ли пены, то ли снега.
И к воздуху семнадцатого века
Припали мы на согнутых руках.
Притягивало кружево подругу.
Не то чтобы я предпочел дерюгу,
Но эта роскошь тоже не про нас.
Про Ришелье, сгубившего Сен-Мара.
Воротничок на плахе вроде пара.
Сними его — казнят тебя сейчас.
А все-таки как дышится! На свете
Нет ничего прохладней этих петель,
Сквожений этих, что ни назови.
Узорчатая иглотерапия.
Но и в стихах воздушная стихия
Всего важней, и в грозах, и в любви.
Стих держится на выдохе и вдохе,
Любовь — на них, и каждый сдвиг в эпохе.
Припомните, как дышит ночью сад!
Проколы эти, пропуски, зиянья,
Наполненные плачем содроганья.
Что жизни наши делают? Сквозят.
Опомнимся. Ты, кажется, устала?
Суконное накинем покрывало
На кружево — и кружево точь-в-точь
Песнь оборвет, как песенку синица,
Когда на клетку брошена тряпица:
День за окном, а для певуньи — ночь.
НИКОЛАЙ РУБЦОВ
(1936–1971)
{283}
Добрый Филя
Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог…
Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной,
Добрый Филя живет.
Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!
Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть…
— Филя! Что молчаливый?
— А о чем говорить?
Тихая моя родина
В. Белову
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. —
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил…
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор,
Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Прощальная песня
Я уеду из этой деревни…
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.
Мать придет и уснет без улыбки…
И в затерянном сером краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.
Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня?
Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеется во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней…
Не грусти! На знобящем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.
Мы с тобою как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.
Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Все мне слышится, словно в бреду.
Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пошлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.
Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
— Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она…
Звезда полей
Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою…
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром…
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей…
АРАМАИС СААКЯН
(Род. в 1936 г.)
Переводы Е. Николаевской
С армянского
{284}
Люди
О, звездный жар!..
Но при твоем рожденье
Не звезды — люди радовались щедро.
И помощи, поддержки, снисхожденья
Ты у людей просил, а не у ветра.
О, праздничность деревьев!..
Но плясали
У вас на свадьбе люди, пели, пили…
Полет орла красив под небесами.
Летел ты в небо. Люди возносили.
А смерть подступит к твоему порогу, —
Случится это так или иначе, —
На их плечах отправишься в дорогу,
Не горы — люди о тебе заплачут.
И если вспомнят о тебе не скоро,
Спустя года, — похвалят ли, осудят, —
То вспомнят не деревья и не горы,
Не ветер и не звезды —
Только люди…
Ереван
Горит твоя под синевой
Чистейшая струя!
Да будет светлым полдень твой
И светлой ночь твоя.
В мечтах, во сне и наяву,
В толпе и в тишине —
Не знаю, я ль в тебе живу
Иль ты живешь во мне?
О Ереван, моя звезда,
Мой дом, мой кров, мой путь!
Пройду, исчезну навсегда,
А ты — вовек пребудь…
Красота
Я думаю, вопрос предельно ясен:
Конечно, малышами мир прекрасен.
Прекрасен он и теми, несомненно,
Кто в школу ходит, — нашей юной сменой.
Прекрасен мир и ярок неизменно
Влюбленными — со всех широт Вселенной.
Прекрасен он — о том скажу без риска
Великою любовью материнской.
Прекрасен мир умелыми руками:
И землепашцами, и моряками.
Проверено веками — спор напрасен:
Седыми стариками мир прекрасен…
«Хотел бы я от кочек и колдобин…»
Хотел бы я от кочек и колдобин
Твой путь очистить, милая моя,
Чтоб, радуясь, что прям он и удобен,
Не знала ты, что это сделал я.
Хотел бы я, ночною мглой объятый,
Класть на окно твое охапки роз,
Чтоб на рассвете в руки их брала ты,
Не зная, что их я тебе принес.
И если смерть тебе расставит сети,
Пусть на пути ей встанет жизнь моя,
Чтоб долго-долго ты жила на свете,
Не зная, что и это сделал я.
А. Степонавичюс. Новые стройки. 1968
ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ
(Род. в 1936 г.)
{285}
Жара
Ах, какая женщина,
Руки раскидав,
Спит под пыльной яблоней.
Чуть журчит вода.
В клевере помятом сытый шмель гудит,
Солнечные пятна бродят по груди.
Вдоль арыка тихо еду я в седле.
Ой, какая женщина! Косы на земле!
В сторону смущенно
Смотрит старый конь.
Солнечные пятна шириной в ладонь…
1962
Айналайн
Обращение к дорогому человеку — айналайн. «Кружусь вокруг тебя» — подстрочный перевод. «Принимаю твои болезни» и «любовь моя» — смысловые переводы.
Кочую по черно-белому свету.
Мне дом двухэтажный построить советуют,
а я, как удастся какая оказия,
мотаюсь по Африкам, Франциям, Азиям.
В Нью-Йорке с дастанами выступаю,
в Алеппо арабам глаза открываю,
вернусь,
и в кармане опять —
ни копья;
копье заведется —
опять на коня!
Последний ордынец
к последнему морю!
На карту
проливы, саванны и горы!
А нас хоронили — ногами на запад,
лежат миллиарды — ногами на запад
под желтым покровом монгольской степи —
тумены ногаев, найманов, казахов, —
не зная,
что
Азия западней
Запада.
Запад —
восточней Китайского моря,
а нас хоронили ногами на запад!..
Шумит за спиною последнее море.
Кружись, айналайн, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю,
я кочую, кружусь по дорогам твоим…
1962
«Эдуард Багрицкий птиц любил…»
Эдуард Багрицкий птиц любил.
В кабинете маленьком орали
попугаи, кенары, ульбилы,
чижики…
Молчал —
караторгай
Жаворонок из Тургайской области,
он степям своим давно наскучил.
Мы ему: «Лети на юг!»
Не хочет.
Прячется, дрожит в Тургайской области.
Ежится.
Зимою там бураны.
Неприятные, по десять баллов.
В шерсть (как в сено) на спине барана
закопается и дрыхнет, баловень.
А чабан поймал, полузамерзшего,
и отдал проезжему газетчику.
Тот продал караторгая летчику,
летчик — подарил.
Поэт поморщился,
но подарок принял,
сунул в клетку,
в дальний угол, на пол.
Чай распили.
Гость поправил синюю пилотку.
Улыбнулся. Улетел.
Разбился.
И Багрицкий в телеграмму плакал.
Кенары кричали, попугаи
равнодушно брякали:
«Дурак».
На полу молчал караторгай.
Он молчал, мой жаворонок черный.
О, молчанье — это тоже голос.
Он молчал. Он потерял еще раз
свой Тургай,
заснеженную область.
Улыбаюсь жизнелюбым гениям!
Договоры с жизнью расторгая,
Человек припас на случай кенара
и навечно взял караторгая.
И когда я приезжаю в область,
я подолгу слушаю ночами:
жаворонок под огромным облаком
голосит о летчике молчаньем.
1963
Разлив
По азимуту кочевых родов,
по карте, перечеркнутой
историей,
по серым венам
древних городов
я протекаю
бурой каплей донора.
Приятно, знаешь,
глянуть на года,
возвысить степь, не унижая горы,
схватить ладонь твою и нагадать
тебе дорогу дальнюю и город.
Жарища.
Дремлет в будке старшина,
чем пешеходы, кажется, довольны.
Я город прохожу. Вдруг —
тишина.
И крик —
громадная улыбка Волги.
По берегу улыбчивой земли
иду травой. И знаю, что надолго
влюбляюсь в этот город, в эту Волгу.
Все предсказанья — чушь,
когда — разлив.
1964
Круглая звезда
Под круглой плоскостью степи
углами дыбятся породы.
Над равнодушием степи
встают взволнованные руды,
как над поклоном —
голова,
как стих,
изломанный углами.
Так в горле горбятся слова
о самом главном.
Далекое уводит нас.
Все близкое
кругло, как воздух,
За миллионы лет от глаз —
углами
голубые звезды.
Нас от звезды
спасают крыши,
но мы ломаем —
и летим.
Над вдохновенными горами
унылый круг луны потух.
И молнии кардиограммой
отмечены уступы туч.
И радуга
не коромысло,
она острей углов любых.
Нас обвиняют в легкомыслии,
а мы —
фанатики в любви!
Мы долетаем!
И встречают —
равнина. Поле. Борозда.
Изломы гор. Зигзаги чаек.
Простая круглая звезда.
1964
«Я видел, как лебедь подался на юг…»
Я видел,
как лебедь подался на юг —
зажить на лиманах,
ушел, как на высылку,
от пастбищ вороньих уехал,
от вьюг.
Вернулся весной,
когда озеро высохло.
Живут мои птицы на голом такыре
{286} ,
ночами кричат голосами такими!
Дерутся и плачут они от позора,
а рядом
сверкают чужие озера.
Но лебедь, он — горд и упрям,
как собака,
он посуху будет скитаться и плакать,
поверит в сайгака,
в шакалью судьбину!..
Я вас понимаю,
я вас не покину.
И тех, кто озяб за горами-долами
в дождях по колено,
в болотах по горло,
согреет надежд ваших белое пламя.
Машите крылами
в любую погоду.
1973
ДОНДОК УЛЗЫТУЕВ
(Род. в 1936 г.)
Переводы Е. Евтушенко
С бурятского
{287}
Из цикла «Пятнадцать песен»
«Я слышал однажды в бурятской степи…»
Я слышал однажды в бурятской степи
песню не песню, стихи не стихи.
Тихо качаясь на черном коне,
старый бурят напевал мне:
— Этой земли высока трава,
над этой травой высока синева
Но ты, мой друг,
не забудь одного:
народ — он вечно превыше всего!
Я столько уже по земле хожу.
Весь мир обойти я готов!
Какие мысли — узнать я хочу —
скрыты в головках цветов.
Мелодии листьев и птичьи песни
звучат и владеют мной,
и пьяный я от запаха ая-ганга —
травы хмельной.
— А можно ли вечно жить? — я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил: — Можно…
Запомни, парень, советы мои —
добром отвечай на добро земли.
И станешь жить, как советую я, —
не будет жизнь быстротечна.
Тело твое не запросит земля,
и будешь ты жить вечно…
«Камушек в речку кидаю…»
Камушек в речку кидаю…
Она
звенит, твои ноги целуя.
Речка искусно, словно струна,
натянута вдоль Шибертуя.
Зайди в эту ясную воду босая,
на волны ее цветы бросая,
и спой… Пусть песенки этой слова
плывут, как плывут цветы и трава,
мимо лесов и мимо скал,
мимо степей, среди гор зажатых,
в Хилок, в Селенгу, а потом в Байкал,
где скрыта душа бурята.
Тайге, где сплетенья легенд и ветвей,
полям, где владенья перепела,
каждое слово песни твоей
речкою будет передано.
Да, музыкальные реки у нас!
Давайте споем же прямо сейчас,
чтоб слышалась песня издалека,
звонкая, словно эта река!
ИМАНТ АУЗИНЬ
(Род. в 1937 г.)
Переводы В. Андреева
С латышского
{288}
«Безлиственные, серые аллеи…»
Безлиственные, серые аллеи…
А тут еще мороз придет, начнет кусать.
Под пеплом тягот души еле тлеют.
Гряди, рассвет, чтоб пепел разбросать!
Ведь кто-то на такой извечный
Вопрос: «Зачем?» — ответить нам велит.
Схвати-ка заступ, — вот он, скоротечный
И горький миг, как мерзлый ком земли.
Живу и вроде становлюсь беднее —
Быстрее годы стали мельтешить.
Ваш блеск, мгновения, бледнее и бледнее,
И нет желанья вас остановить.
Воспоминания?! Любовь и та желтеет.
А пламенный порыв — остывшая зола.
Лишь иногда несмело посветлеет
Полоска неба — празднично ала.
Сомнениям платил бы дань я,
Когда бы образ твой мне перестал светить!
Живу не ради вас, воспоминания.
1969
Конфеты, печенье, серебряные бумажки
На могиле детей замученных дети сложили:
конфеты, печенье, бумажки серебряные —
лучшую часть своего богатства.
Обычай древний! Но разве дети об этом думают?
Они хотят порадовать души детей,
что, может, глядят вот тем одуванчиком
либо падают птичьей трелью из синевы небес.
Полакомьтесь, поиграйте и вы, замученные!
Вашей крови горячие реки
выпиты армией фюрера.
Вы рядом с бойцами покоитесь.
Кто-то уносит конфеты, печенье, серебряные
бумажки и протирает могильные плиты,
все-таки это — кладбище.
Но на другое утро снова на детских могилах:
конфеты, печенье, серебряные
бумажки.
Что толку твердить о древних поверьях,
о духах предков, о сердце людском?
На скромное рижское кладбище иду я солнечным
днем апрельским, когда обитают души
в цветках одуванчиков, в птичьих трелях.
Вот они, эти могилы маленьких мучеников,
где детские руки сложили заботливо:
конфеты,
печенье,
бумажки серебряные.
1971
Непреходящее
1
Глядел я в бездонное небо дня
И в небо ночное, звездами горящее.
Кто-то сказал мне:
«Вот эти светила —
Нечто непреходящее».
Под этим морем далеких огней
Можно любить, сомневаться, верить,
Но вот не дано мне их никогда,
Л им — меня своим веком мерить.
И я свой взгляд опустил долу,
Глядя на кроны ив шелестящие.
Кто-то сказал мне:
«Ивы тоже —
Нечто непреходящее».
Знаю, они все снова и снова
Стремятся в зеленый наряд обрядиться.
Их соки могли бы течь в моих жилах,
А кровь моя —
В их стволах струиться.
Я взгляд опускал все ниже и ниже,
Туда, где толпа растекалась гудящая.
Кто-то сказал мне:
«Там братья твои,
Люди тоже — непреходящее».
2
Ах! — я печально развел руками, —
Поверив в движение, люди не помнят
О смерти, но я-то не раз видел,
Как этих людей в могилах хоронят.
Не раз я слыхал их грустную песню,
Спетую перед последней чертою:
«Я строю дом себе дерева белого,
Крою крышу себе муравою».
Мой собеседник умолк на мгновение,
Потом сказал: «Что же, время умеет
Сгибать нас, но в людях есть нечто такое,
Что никогда не стареет:
Свои мечты, уходя из мира,
Передают они в мир приходящим.
Есть всегда в любом человеке
Частица непреходящего».
3
Я слышал, как девушка песню пела,
Я видел, как яблоньку дед растил,
Они какую-то тайну знают
И ей пути пролагают в мир.
К ним я пойду, и пойду я с ними
Дорогою полдня, от зноя звенящего.
Я знаю: в светилах, ивах и людях
Пульсирует непреходящее!
1972
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА
(Род. в 1937 г.)
{289}
Газированная вода
Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловень надменный,
таинственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной.
Затем, самонадеянный фантаст,
монету влажную он опускает в щелку
и, нежным брызгам подставляя щеку,
стаканом ловит розовый фонтан.
О, мне б его уверенность на миг
и фамильярность с тайною простою!
Но нет, я этой милости не стою,
пускай прольется мимо рук моих.
А мальчуган, причастный чудесам,
несет в ладони семь стеклянных граней,
и отблеск их летит на красный гравий
и больно ударяет по глазам.
Робея, я сама вхожу в игру,
и поддаюсь с блаженным чувством риска
соблазну металлического диска,
и замираю, и стакан беру.
Воспрянув из серебряных оков,
родится омут сладкий и соленый,
неведомым дыханьем населенный
и свежей толчеею пузырьков.
Все радуги, возникшие из них,
пронзают небо в сладости короткой,
и вот уже, разнеженный щекоткой,
семь вкусов спектра пробует язык.
И автомата темная душа
взирает с добротою старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиться из ковша.
1960
Мотороллер
Завиден мне полет твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слез,
что льют без повода в начале лета.
И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.
Прощай! Твой путь лежит поверх
меня и меркнет там, в зеленых отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.
И тело твое светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.
Так слабенький твой голосок поет,
и песенки мотав так прост и вечен.
Но, видишь ли, веселый твой полет
недвижностью моей уравновешен.
Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.
Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдаленных.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зеленых.
Так проносись! — покуда я стою.
Так лепечи! — покуда я немею.
Всю легкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.
1960
«Влечет меня старинный слог…»
Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.
Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспыльчивость и щедрость!
Но снизойдет и на меня
последнего задора тщетность.
Когда-нибудь очнусь во мгле,
навеки проиграв сраженье,
и вот придет на память мне
безумца древнего решенье.
О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за пол-мгновенья с человеком,
любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю — и табун родимый
нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.
Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои лишь след,
оставленный подковой.
1959
Слово
«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна», —
так написал мне мальчик из Перми.
В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.
И впрямь — в Перми живет ребенок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью. И когда горит огонь
созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.
Как говорит ребенок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
гортани, погруженной в темноту,
была такая чистота проема,
чтоб уместить, во всей красе объема,
всезнающего слова полноту?
О нет, во мне — то всхлип, то хрип, и снова
насущный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.
Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю — и обагрю платок.
В безмолвии, как в землю, погребенной,
мне странно знать, что есть в Перми ребенок,
который слово выговорить мог.
1965
Уроки музыки
Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя — как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лед глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя,
как всех, учили музыке. (О, крах ученья!
Как если бы, под богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)
Не ладили две равных темноты:
рояль и ты — два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты — две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.
Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до-диез
мизинец свой не окунет союзник.
А ты — одна. Тебе — подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотеченье звука.
Марина, до! До — детства, до — судьбы,
до — ре, до — речи, до — всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о, карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вкруг головы окружность.
Марина, это все — для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я — как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да — плачу.
1965
Молоко
Вот течет молоко. Вы питаетесь им.
Запиваете твердые пряники.
Захочу — и его вам открою иным,
драгоценным и редким, как праздники.
Молоко созревает в глубинах соска,
материнством скупым сбереженное,
и девчонка его, холодея со сна,
выпускает в ведерко луженое.
Я скажу вам о том, как она молода,
как снуют ее пальцы русалочьи,
вы вовек не посмеете пить молока,
не подумав об этой рязаночке.
Приоткройте глаза: набухают плоды
и томятся в таинственной прихоти.
Раздвигая податливый шорох плотвы,
осетры проплывают по Припяти.
Где-то плачет ребенок. Утешьте его.
Обнимите его, не замедлите.
Необъятна земля, но в ней нет ничего.
Если вы ничего не заметите.
Мазурка Шопена
Какая участь нас постигла,
как повезло нам в этот час,
когда бегущая пластинка
одна лишь разделяла нас!
Сначала тоненько шипела,
как уж, изъятый из камней,
но очертания Шопена
приобретала все слышней.
И, тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,
стояла девочка-мазурка,
покачивая головой.
Как эта с бледными плечами,
по-польски личиком бела,
разведала мои печали
и на себя их приняла?
Она протягивала руки
и исчезала вдалеке,
сосредоточив эти звуки
в иглой расчерченном кружке.
ОЛЕГ ДМИТРИЕВ
(Род. в 1937 г.)
{290}
«Старикам остаются закаты…»
Старикам остаются закаты.
Смотрят пристально в алую высь,
Словно в летнее небо куда-то
Молодые от них подались.
Раз в году, а бывает, и чаще,
С непокрытой седой головой
Поглядят они вслед уходящим,
Уезжающим на легковой.
И сидят, как восточные бонзы,
Не меняя единственной позы —
Чуть подавшись
Лица, словно отлиты из бронзы,
Отражают далекий закат.
Коль на холм заберется дорога,
Может, высмотрит взгляд молодой,
Как сидят старики у порога,
Освещенные теплой зарей.
Жизнь кончается. День на исходе.
Но прекрасна вечерняя даль
Столько милости в сельской природе,
Что на сердце не давит печаль.
Постижение
Морским, песчаным, долгим берегам
Моя душа обязана стократно.
Когда волна ползла к моим ногам
И отходила медленно обратно, —
Я понимал, чего хотел прилив,
В чем заключался вечный труд отлива…
Когда, ракушки, ил и камни скрыв,
Их море вновь являло терпеливо, —
Две истины открыла мне вода,
У берега отсвечивая бледно:
«Все в мире исчезает без следа»;
«Ничто на свете не пройдет бесследно».
Воспоминание о Полине
В час золотого смещенья света
На берегу я бродил морском
И очутился в грядущем где-то,
В дне, неизвестно еще каком.
Там говорила мне тихо, длинно
Самые ласковые слова
Женщина маленькая, Полина —
Та, что знакома со мной едва.
Мне обнимать ее страшно даже,
Словно в ладонях держать птенца.
Волосы лишь осторожно глажу:
Вдруг золотая на них пыльца…
Где-то гуляем в Замоскворечье,
Все переулочки ей дарю
И нескончаемо, бесконечно
В это родное лицо смотрю.
Обожествляю такие лица —
Зори надежды в небе потерь!
Ах, как умеет оно светиться…
Это я знаю даже теперь.
Кто-то окликнул — я оглянулся.
Словно из сказки
Чудак старик
К синему морю опять вернулся,
Тщетность неясной мечты постиг.
Но начертал на холодной глине
Из непонятного озорства
Воспоминание о Полине, —
Чтобы стирала волна слова.
ВЛАДИМИР КОЯНТО
(Род. в 1937 г.)
С корякского
{291}
Родник
Перевод автора
Родниковой воды
Напьюсь,
Освежу лицо
И грудь.
Если в сердце
Проникнет грусть,
И туда не забуду
Плеснуть.
В роднике
Вода — бирюза,
Как хрусталь —
И звонка и чиста.
Это родины
Милой глаза.
Это матери
Нежной уста.
1963
ЮННА МОРИЦ
(Род. в 1937 г.)
{292}
Рождение крыла
Все тело с ночи лихорадило,
Температура — сорок два.
А наверху летали молнии
И шли впритирку жернова.
Я уменьшалась, как в подсвечнике.
Как дичь, приконченная влет.
И кто-то мой хребет разламывал,
Как дворники ломают лед.
Приехал лекарь в сером ватнике,
Когда порядком рассвело.
Откинул тряпки раскаленные,
И все увидели крыло.
А лекарь тихо вымыл перышки,
Росток покрепче завязал,
Спросил чего-нибудь горячего
И в утешение сказал:
— Как зуб, прорезалось крыло,
Торчит, молочное, из мякоти.
О господи, довольно плакати!
С крылом не так уж тяжело.
1964
Южный рынок
Инжир, гранаты, виноград —
Слова бурлят в стихах и прозе.
Кавказа чувственный заряд
Преобладает в их глюкозе.
Корыта, ведра и тазы
Они коробят и вздувают,
Терзают негой наш язык
И нити мыслей обрывают!
Прекрасны фруктов имена!
Господь назвал их и развесил
В те золотые времена,
Когда он молод был и весел,
И образ плавал в кипятке
Одушевляя в языке
Еще не изданные виды.
А ветры шлепали доской,
Тепло с прохладой чередуя
В его скульптурной мастерской.
Серьезный ангел, в пламя дуя,
Хозяйство вел. Из образцов
Готовил пищу. Пили кофе.
А всякий быт в конце концов
Враждебен мыслям о Голгофе.
Я это знаю по себе,
По гнету собственных корзинок.
Я это знаю по ходьбе
На рынок, черный от грузинок,
Влачащих овощ на горбе.
1966
Античная картина
Славно жить в Гиперборее
{295} ,
Где родился Аполлон,
Там в лесу гуляют феи,
Дует ветер аквилон.
Спит на шее у коровы
Колокольчик тишины,
Нити мыслей так суровы,
Так незримы и нежны.
Толстоногую пастушку
Уложил в траву Сатир.
Как ребенок погремушку,
Он за грудь ее схватил.
А в груди гремит осколок
Темно-красного стекла.
А вблизи дымит поселок,
Ест теленка из котла.
Земляничная рассада
У Сатира в бороде,
И в глазах не видно взгляда,
Он — никто, и он — нигде.
Он извилистой рукою
Раздвигает юбок стружки,
Пустотою плутовскою
Развлекая плоть пастушки.
А она пылает чудно
Телом, выполненным складно.
Все творится обоюдно, —
То им жарко, то прохладно.
А корова золотая
Разрывает паутину,
Колокольчиком болтая,
Чтоб озвучить всю картину.
1973
«В серебряном столбе…»
В серебряном столбе
Рождественского снега
Отправимся к себе
На поиски ночлега,
Носком одной ноги
Толкнем другую в пятку
И снимем сапоги,
Не повредив заплатку.
В кофейнике шурша,
Гадательный напиток
Напомнит, что душа —
Не мера, а избыток
И что талант — не смесь
Всего, что любят люди,
А худшее, что есть,
И лучшее, что будет.
1970
О жизни,
о жизни и только о ней!
О жизни, о жизни — о чем же другом? —
Поет до упаду поэт.
Ведь нет ничего, кроме жизни, кругом,
Да-да, чего нет — того нет!
О жизни, о жизни — о, чтоб мне сгореть! —
О ней, до скончания дней!
Ведь не на что больше поэту смотреть —
Всех доводов этот сильней!
О жизни, о ней лишь, — да что говорить!
Не надо над жизнью парить?
Но если задуматься, можно сдуреть —
Ведь не над чем больше парить!
О жизни, где нам суждено обитать!
Не надо над жизнью витать?
Когда не поэты, то кто же на это
Согласен — парить и витать?
О жизни, о жизни — о чем же другом? —
Поет до упаду поэт.
Ведь нет ничего, кроме жизни, кругом,
Да-да, чего нет — того нет!
О жизни, голубчик, — сомненья рассей:
Поэт — не такой фарисей!
О жизни, голубчик, твоей и своей
И вообще обо всей!
О жизни, — о ней лишь! — а если порой
Он роется: что же за ней? —
Так ты ему яму, голубчик, не рой,
От злости к нему не черней,
А будь благодарен поэту, как я,
Что участь его — не твоя:
За шторами жизни — такие края,
Где нету поэту житья!
Но только о жизни, о жизни — заметь! —
Поэт до упаду поет.
А это, голубчик, ведь надо уметь —
Не каждому бог и дает!
А это, голубчик, ведь надо иметь,
Да-да, чего нет — того нет!
О жизни, о ней, не ломая комедь,
Поет до упаду поэт.
О жизни, о жизни — и только о ней,
О ней, до скончания дней!
Ведь не на что больше поэту смотреть
И не над чем больше парить!
1975
ВЛАДИМИР ФИРСОВ
(Род. в 1937 г.)
{296}
«В моей крови гудит набат веков…»
В моей крови гудит набат веков,
Набат побед и горьких потрясений!
И знаю я — до смерти далеко.
И вновь зову веселье в час весенний…
Бывает так, что белый свет не мил.
Но вот
В полях последний лед растаял.
И я окно распахиваю в мир
И календарь моей весны листаю…
В тот календарь,
Что весь пропах листвой,
Характер вписан строчкой голубою.
В характере моем —
И озорство,
И выдержка солдата перед боем…
Я слышу —
Соловьи росу клюют.
И солнце поднимается все выше.
За сотни верст
Я в это утро слышу:
Опять на взгорье петухи поют.
За сотни верст…
Идут девчата вновь
Встречать зарю, что встанет над деревней.
О, как у них течет по жилам кровь!
Точь-в-точь как сок по молодым деревьям.
Идет весна!
И, душу веселя,
Зеркальными играет лемехами.
И весело
Вращается Земля —
С девчатами,
С ручьями,
С петухами!
1963
Памяти Сергея Есенина
Проходят годы, как проходит лето…
Пылит заря рябиновой пыльцой.
И падают в холодные рассветы
Листы берез, омытые росой.
И на душе печально и тоскливо.
Наверно, оттого,
Что над рекой
Одна, как прежде, остается ива
С невысказанной вечною тоской.
По ком она печалится, тоскует?
Что снится ей, когда темным-темно?…
Река молчит.
Кукушка не кукует.
И журавли отчалили давно.
Тоскует ива
И к земле клонится,
Все ищет что-то, глядя в тишину.
И не с кем ей печалью поделиться,
И не с кем ждать далекую весну.
И так всегда.
Проходит год за годом.
Столетия вот так же протекли.
И неизменно
Русская природа
Хранит печаль тоскующей земли.
Печаль
По всем скорбящим
И ушедшим
В безвестную рябиновую даль…
Как не понять, о чем береза шепчет, —
Ей тоже не с кем разделить печаль.
Как не понять, о чем леса тоскуют,
О чем молчит холодная река?!
Но не найти мне родину другую,
Где бы печаль
Была вот так легка.
Легка,
Как лист, сорвавшийся с березы,
Чиста,
Как синь росинок на листах.
И не беда,
Что я роняю слезы,
Невидимые в дальних городах.
1964
Первый учитель
Памяти А. А. Коваленкова
Я помню сожженные села
И после победного дня
Пустую,
Холодную школу,
Где четверо, кроме меня.
Где нам однорукий учитель
Рассказывал про Сталинград…
Я помню
Поношенный китель
И пятна — следы от наград.
Он жил одиноко, при школе.
И в класс приходил налегке.
И медленно
Левой рукою
Слова
Выводил
На доске.
Мелок под рукою крошился.
Учитель не мог нам сказать,
Что заново с нами
Учился
Умению ровно писать.
Ему мы во всем подражали,
Таков был ребячий закон.
И пусть мы неровно писали,
Зато мы писали, как он.
Зато из рассказов недлинных
Под шорох осенней листвы
Мы знали
Про взятье Берлина
И про оборону Москвы.
В том самом году сорок пятом
Он как-то однажды сказал:
— Любите Отчизну, ребята. —
И вдаль, за окно, указал.
Дымок от землянок лучился
Жестокой печалью земли.
— Все это, ребята, Отчизна.
Ее мы в бою сберегли…
И слово заветное это
Я множество раз выводил.
И столько душевного света
Я в буквах его находил.
А после —
Поношенный китель
Я помню, как злую судьбу.
Лежал в нем
Мой первый учитель
В некрашеном светлом гробу.
Ушел, говорили, до срока,
Все беды теперь — позади.
Рука его
Так одиноко
Лежала на впалой груди!
И женщины громко рыдали.
И помню, как кто-то сказал:
— Медалей-то, бабы, медалей!
Ить он никогда не казал…
Могилу землей закидали.
И после
В военкомат
Огромную пригоршню сдали
Достойных солдата наград.
Мой первый учитель!
Не вправе
Забыть о тебе никогда.
Пусть жил ты и умер — не в славе,
Ты с нами идешь сквозь года.
Тебе я обязан тем кровным,
Тем чувством, что ровня судьбе.
И почерком этим неровным
Я тоже обязан тебе.
Тебе я обязан
Всем чистым,
Всем светлым,
Что есть на земле,
И думой о судьбах Отчизны,
Что нес ты на светлом челе!
1971
ОЛЬГА ФОКИНА
(Род. в 1937 г.)
{297}
Родина
Простые звуки родины моей:
Реки неугомонной бормотанье
Да гулкое лесное кукованье
Под шорох созревающих полей.
Простые краски северных широт:
Румяный клевер, лен голубоватый,
И солнца блеск, немного виноватый,
И — облака, плывущие вразброд.
Плывут неторопливо, словно ждут,
Что я рванусь за ними, как когда-то…
Но мне, теперь не меньше их крылатой,
Мне все равно, куда они плывут.
Мне все равно, какую из земель
Они с высот лазурных облюбуют,
Какие океаны околдуют
И соберут их звонкую капель.
Сижу одна на милом берегу,
Варю уху на старом пепелище,
И радость ходит по душе и брызжет,
Как этот кипяток по чугунку.
Другим, без сожаленья, отдаю
Иных земель занятные картинки.
…И падают веселые дождинки
На голову счастливую мою.
Утренняя песенка
Полон тайной новизны,
Ветер в окна заплеснулся
И качнул, как лодку, сны,
И заснул, а ты — проснулся,
Ты проснулся, ты проснулся,
Полон тайной новизны.
Ты глядишь, рассвету рад,
Как подарку в день рожденья.
Даже птицы все подряд
Поздравляют с пробужденьем.
— С пробужденьем, с пробужденьем! —
Даже птицы говорят.
И, внезапно озарен,
Ты встаешь с мечтой о чуде.
Мир звенит со всех сторон.
— Чудо будет! Чудо будет!
— Чудо будет, чудо будет, —
Мир звенит со всех сторон.
У тебя над головой
Много солнца, много сини.
Пляшет, пляшет, как живой,
Хлеб на дне твоей корзины.
Хлеб на дне твоей корзины
Пляшет, пляшет, как живой.
Пусть корзина глубока,
Как и хлеб, она сгодится,
Потому что далека
Путь-дорога до Жар-птицы,
До Жар-птицы, до Жар-птицы
Путь-дорога далека!
Розовое мыло
В цветной бумажке розовое мыло,
Ты пахнешь чем-то очень дорогим,
Ты пахнешь чем-то несказанно милым,
Но чем же? Память, память, помоги!
Чуть уловимый запах земляники,
Едва заметный — ржи и васильков,
И аромат лесных тропинок диких,
И душный мед некошеных лугов,
И — вместе все…
Когда такое было?
Но память вновь меня не подвела:
Ты пахнешь детством, розовое мыло!
Как позабыть об этом я смогла?
…Была война. Дымы больших пожаров
Не залетали в нашу глухомань,
Но как-то в сельсовет пришел подарок,
Пришла посылка с надписью: «Для бань».
Я материнских глаз не позабыла:
Они светились, радовались так,
Как будто дали ей не кубик мыла,
А самородок золота в кулак.
…Намытое, давно скрипело тело,
Уж мать в предбанник выносила таз,
Но я открыть упорно не хотела
Зажмуренных от мыльной пены глаз.
Тогда, впервые за четыре года,
Мне снова пахло теплым молоком,
Пахучим хлебом, и тягучим медом,
И васильками, и — живым отцом…
Родник
В угоре за деревней
Заброшенный родник.
Свалил в него коренья
Какой-то озорник.
Какой-то неумеха
Дырявый свой сапог,
Наверно, ради смеха,
Поставил в желобок.
А этот камень кинул,
А этот — палкой ткнул,
Насыпал липкой глины,
Ушел — и не взглянул.
А я о том не знала,
Я дома не была,
А то бы им попало
За грязные дела!
Печаль твоя понятна,
Звоночек мой живой…
Бегом бегу обратно
За заступом домой.
И бережно копаю,
И весело пою,
И струйка голубая
Спешит в ладонь мою.
Несу по огороду
На утренней заре
Серебряную воду
В серебряном ведре.
ЮВАН ШЕСТАЛОВ
(Род. в 1937 г.)
С мансийского
{298}
«В морозной свежести земля…»
Перевод М. Дудина
В морозной свежести земля,
И шуба в бисере на ней.
Зима спешит, снежком пыля,
Под стук копыт, под скрип саней.
В пушистом инее леса
Сверкают золотом насквозь.
Костром в кустах мелькнет лиса.
В снегу по грудь проходит лось.
Пушистый снег, морозный день
Зовут меня, мансийца, в лес,
По следу твоему, олень,
Спешу с ружьем наперевес.
Зима спешит, снежком пыля,
И сердце с ней, и счастье с ней.
Люблю тебя, моя земля,
И стук копыт, и скрип саней!
1958
Лирическое отступление
(Из «Языческой поэмы»)
Перевод В. Фалея
1
Бум, бум, бум!
То не дятел? Не ветер? Не буря?
Бум, бум, бум!
То не в роще шаманские бубны?
Бум, бум, бум!
Это в атомный век не бывает!
Бум, бум, бум!
Это небо машины взрывают?
Бум, бум, бум!
Это сердце с извечной трибуны —
Бум, бум, бум!
Вам грохочет торжественным бубном!
2
Тук, тук, тук!
Это в роще зеленой?
Тук, тук, тук!
Я в бересте пеленок…
Тук, тук, тук!
Сердце — в тело одето.
Тук, тук, тук!
Ищет дальнее детство.
Обхожу в тишине
Берега Вензентура.
И лечу до планет
С самой древней культурой.
Но, пути сокращая
На самый на краткий,
Я опять возвращаюсь
В древнюю Камрадку.
Здесь, в озерном краю,
Утром мама ходила.
На коленях стою
У родимой могилы.
Улетят корабли —
Да вернутся к гнездовьям.
Нет теплее земли,
Нет уютнее дома.
Голос мамы во мне…
Плакал десятилетним.
Думы мамы во мне…
Думал двадцатилетним.
В тридцать лет тишина.
И не хочется шуму.
Рано, рано она
Унесла свои думы.
Я на краешке дня.
Ветер листья колышет.
Мама, слышишь меня?
Никогда не услышишь.
3
Голос матери
Мой сынок! Не печалься
У темного камня.
И дыханьем ветра
Тебя я ласкаю!
Ходят шелестом трав
Мои ноги босые.
И цветами глядят
Мои очи на сына.
Глажу нежно, любя,
Кудри с малого детства.
И гляжу на тебя —
Не могу наглядеться.
Ты подрос, дорогой,
Вместе с краем суровым.
Я повсюду с тобой,
Слышу каждое слово.
Земля моя кружится — и я кружусь.
Солнце повернется — и я повернусь.
Лижут планету и тень, и свет.
Кружат заботы, как хмель в голове.
По поднебесью гагарой лечу.
Толщу воды осетром строчу.
Смело шагаю с каменных стен
В космос за тайной мансийских легенд.
Водным зверьком проплыву по реке
И муравьем постою на цветке.
В озере — тени и плеск плавников.
В венчике — шепот и смех лепестков.
Я ли не сказочный доктор Земли?
Слушаю: сердце твое не болит?
В полночь любуюсь на звездный зенит.
Лебедь мансийский на струнах звенит.
Дедов легенда — торжественный звон
Сказку рождает для новых времен.
УЛУРО АДО
(Род. в 1938 г.)
С юкагирского
{299}
«Посмотрите, люди Земли…»
Перевод Г. Плисецкого
Посмотрите, люди Земли:
Юкагиры костер развели.
Пусть он жалок еще и мал,
Но как жарок уже и ал!
Приходите, братья, к нашему костру —
Наших песен вкусить простоту.
Принесите, подкиньте дровец
В наш костер, в наш пожар сердец.
Чтобы он веселей запел,
Чтобы звезды крылом задел.
Чтоб увидел огромный мир
Огонек, что зажег юкагир!
1963
АНТОНИНА КЫМЫТВАЛЬ
(Род. в 1938 г.)
С чукотского
{300}
Звезда
Перевод В. Португалова
Озорничает ветер,
И, людям на беду,
Он облачком завесил
Веселую звезду.
Напрасны все усилья, —
Красива и горда,
Как лампочка, сияет
Веселая звезда.
Ей не страшны ни ветер
И ни мороз седой.
Зовут ее повсюду
Полярною звездой.
1959
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ
(Род. в 1938 г.)
{301}
Пророк
Дышала буря! Край плаща светился.
Я в глубине асфальта раздвоился,
размножился в струях бегущих я…
И к вам, мои далекие друзья,
толпой своих подобий устремился!
И тысячью дорог — тысячелик —
я к вам пришел в один и тот же миг.
Зарницы воздух жгли, крутилась пена!
И стон, и вздох, и ликованья крик —
все ваши чувства сразу я постиг!
И обнял я всех вас — одновременно…
И сотни женщин предали меня!
И сотни язв нутро мое терзали!
И сотни ваших мыслей возвышали
мой бедный ум. Пустыни и моря
песок и пену мне в лицо швыряли.
И жгло меня, и било, и трясло!
Не для веселья, видно, я родился.
Но я с веселым другом веселился.
И слабому я оправлял крыло.
И хворый звал меня, изнемогая…
Я был все время около него.
Секундная ползла, как часовая.
И в первый день я прожил тыщи дней,
не помня жизни собственной своей.
И я забыл, что за других страдаю.
Но тварь дерзала в спину закричать:
— Ты равен мне! И за меня страдать
как смеешь ты, когда я процветаю? —
Ей злая радость ослепила ум,
как будто сзади накатился гул,
и грузовик тяжелый, многотонный
задел меня! И хрустнул череп тонкий.
Кровь полилась из носа, из ушей.
Но боли я не чувствовал своей.
Очнулся я… Вокруг леса сияли
и птицы жадно пищу добывали.
Бурлил ручей, и оползал овраг.
Пила с водой косуля аммиак.
Вдали асфальт сливался с небосводом.
И спутник сделал тысячный виток.
И никому не нужен был пророк!
Все шло своим неумолимым ходом.
«Два облака белых плывут по лазури…»
Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
Ну вот мы и встретились после разлуки!
Не вечной разлуки, земной…
Над жизнью, в которой мы прочно
забыты, над синим холодным Днепром,
над кладбищем, где мы не рядом зарыты,
сегодня мы рядом плывем.
Два облака белых. Одно розовеет,
в лазури приветствуя день.
Другое опять отдалиться не смеет,
лежит на нем первого тень.
Нам встретится дым. И о юности милой
ты вспомнишь и нежно взгрустнешь.
Я ливень пролью над твоею могилой…
А ты над моей не прольешь.
Ты первой иссякнешь в пылающем небе,
рванусь за тобою, звеня!
Но в клевере, в глине, в полыни и в хлебе
ты разве дождешься меня?
Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
А может, и не было вовсе разлуки,
не вечной разлуки, земной?
АЛИТЕТ НЕМТУШКИН
(Род. в 1939 г.)
С эвенкского
{302}
Песня девушки на рассвете
Перевод А. Сорокина
На рассвете бледно-синем, на рассвете
Пела девушка о счастье, о разлуке,
Только ели чуть качались, только ветер
Трогал теплые обласканные руки.
Пела девушка: «Ты стала, ночь, короче,
И заря над лесом выплыла лисою.
У меня коса черней таежной ночи.
Я хочу закрыть зарю своей косою.
Но все ярче, все светлей на горизонте.
В небе звезд уж стало очень, очень мало.
О, не пойте, птицы, милого не троньте,
Он от ласк моих счастливый и усталый.
Я пойду к нему, прижмусь к его коленям,
Только ты, заря, его пока не трогай.
Пусть же ягелем насытятся олени,
Пусть геологи поспят еще немного.
Но дойдет до Юктекона, до прилуки,
Мой любимый, мой единственный на свете».
Пела девушка о счастье, о разлуке
На рассвете бледно-синем, на рассвете.
1959
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ
(Род. в 1939 г.)
{303}
«Душа чему-то противостоит…»
Душа чему-то противостоит —
безверью ли, тоске иль вырожденью,
но ей, как одинокому растенью,
в чужую тень склониться предстоит.
Взгляни, как сладко ягоды висят,
но слаще среди них чужая ветка.
— Малина ваша проросла в наш сад, —
через забор мне говорит соседка.
Да что малина, если с давних пор
и сорняки опутали округу,
и поле с лугом тянутся друг к другу,
и безоглядно тянется простор —
куда? К чему? Не все ли нам равно! —
к земле чужой или к звезде горящей,
к неведомой, но чаемой давно
какой-то бездне противостоящей.
Что делать, мы горим по одному,
одной любовью души освящая.
Любимая моя, и ты чужая?
О, как тянусь я к сердцу твоему!
1967
«…и дверь впотьмах привычную толкнул…»
…и дверь впотьмах привычную толкнул —
а там и свет чужой, и странный гул —
куда я? где? — и с дикою догадкой
застолье оглядел невдалеке,
попятился — и щелкнуло в замке.
И вот стою. И ручка под лопаткой.
А рядом шум и гости за столом.
И подошел отец, сказал: — Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои. — И место указал.
— Но ты же умер! — я ему сказал.
А он: — Не говори, чего не знаешь.
Он сел, и я окинул стол с вином,
где круглый лук сочился в заливном
и маслянился мозговой горошек,
и мысль пронзила: это скорбный сход,
когда я увидал блины, и мед,
и холодец из поросячьих ножек.
Они сидели, как одна семья,
в одних летах отцы и сыновья,
и я узнал их, внове узнавая,
и вздрогнул, и стакан застыл в руке:
я мать свою увидел в уголке,
она мне улыбнулась, как живая.
В углу, с железной миской, как всегда,
она сидела, странно молода,
и улыбалась про себя, но пятна
в подглазьях проступали все ясней,
как будто жить грозило ей — а ей
так не хотелось уходить обратно.
И я сказал: — Не ты со мной сейчас,
не вы со мной, но помысел о вас.
Но я приду — и ты, отец, вернешься
под этот свет, и ты вернешься, мать!
— Не говори, чего не можешь знать, —
услышал я, — узнаешь — содрогнешься.
И встали все, подняв на посошок.
И я хотел подняться, но не мог.
Хотел, хотел — но двери распахнулись,
как в лифте, — распахнулись и сошлись,
и то ли вниз куда-то, то ли ввысь,
быстрей, быстрей — и слезы навернулись.
И всех как смыло. Всех до одного.
Глаза поднял — а рядом никого,
ни матери с отцом, ни поминанья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне —
сознанье смерти или смерть сознанья.
И прожитому я подвел черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полу-жизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.
1975
МАРИС ЧАКЛАЙС
(Род. в 1940 г.)
С латышского
{304}
День укропа
Перевод В. Микушевича
День укропа, день в дурмане,
Горе, сладкое, как тмин.
Без очков душа в бурьяне
Огуречных именин.
Как планета — из сарая,
Перебежкой громовой
Бочка жаркая, сырая
Оставляет след кривой.
Прямо в братскую могилу,
Доброволец-лист идет.
Опустился через силу,
Как взошел на эшафот.
Огурец уже на месте,
Добросовестный службист.
Как разборчивой невесте,
Свекле твист милей, чем Лист.
Осознав, что все в порядке,
Циник, жизнелюб, толстяк,
На своей уютной грядке
Ухмыляется желтяк.
Тлеет, веет, полыхает,
В лабиринте летних троп,
Пахнет он, благоухает,
Он главенствует, укроп.
Нынче наши ноздри шире,
Ноздри, как у лошадей.
Завтра будет осень в мире
И для звезд, и для людей.
Справив это новоселье,
Прежде чем листве конец,
Каин-пьяница с похмелья
Съест соленый огурец.
1968
Песенка про Дон-Кихота
Перевод Н. Мальцевой
Неужто снова — мимо трав зеленых,
Канав, заборов, и цветущих кленов,
И наших сонных домиков, — с разгона
На мельницу он мчится непреклонно?…
Неужто он до огорчений жаден?
Неужто не спасет его от ссадин
Уменье все, что гоже и негоже,
Переплетать тисненой прочной кожей?
Неужто вправду там, как луч десницы,
Смех Дульцинеи тихо серебрится?
Пред взором город мельниц громоздится.
О Дульцинеи, приоткройте лица!
И — сквозь судьбу, и — мимо трав зеленых,
Канав, заборов и цветущих кленов,
По улочкам, кривым и немощеным,
Прямым путем — к цирюльням немудреным…
Ну, а когда исход уже известен?
Все точно так же. Праздник чист и честен.
Ни лжи, ни страха не познав с пеленок,
Рождаясь, мысль смеется, как ребенок.
Пой, не смолкай! Я становлюсь сильнее.
Тьма задохнется, корчась и бледнея,
От песни той. И я увижу — где я.
Сиди в окне и пой мне, Дульцинея!
Не умолкай! Ведь песня мимо кленов,
Канав, цирюлен, мимо трав зеленых,
По лабиринтам улиц немощеных
Всегда дойдет до мельниц укрепленных.
Глоток вина и хлеб. И можно снова
Идти сквозь мрак — ведь рыцарь держит слово.
Звезда горит лукаво и высоко.
О Дульцинеи, пойте свет из окон!
1971
«Будешь плакать, коли с юных лет…»
Перевод В. Микушевича
Будешь плакать, коли с юных лет
Моря, моря, моря нет как нет.
Море девушке принадлежало.
Море убежало.
Шел я, пел я среди бела дня.
Море было домом для меня.
И сказал я девушке: — Войдем
В наш стеклянный дом,
Где пируют рыбы!
— Разве мы войти могли бы?
Видишь, двери нет. —
Девушка в ответ. —
В гости нас не звали.
Впустят нас едва ли. —
Девушке сказал я напрямик:
— Хочешь, все это растает вмиг?
Грустно девушка мне отвечала:
— Лета бы дождаться нам сначала! —
Между тем ночная мгла сгущалась,
Месяц нам светил, земля вращалась,
В сумраке бесснежной той зимы
Шиш судьбе показывали мы.
Хочешь сетуй, хочешь веселись —
Буря на камнях оставит слизь.
Шел я, напевая, той зимой.
Шел я к морю, нет, к себе домой.
1972
АБДУЛЛА АРИПОВ
(Род. в 1941 г.)
С узбекского
{305}
«— Проснись скорей…»
Перевод Н. Гребнева
— Проснись скорей, что без толку валяться?
Не надо спать иль спящим притворяться.
Играют блики солнца на стене.
Что ж ты молчишь, не отвечаешь мне?
И слезы на ресницах серебрятся.
Ты почему не хочешь просыпаться?
— Я спал, я видел молодость во сне!
1967
Поэт
Перевод Н. Гребнева
Не думай, что поэт
земного сторонится.
Он не обходит зол
и не таит добра.
На то он и поэт,
что легок, словно птица,
хоть груз его тяжел,
как снежная гора.
1968
«Благословенно прожитое мною…»
Перевод Н. Гребнева
Благословенно прожитое мною,
все, что уже не повторится впредь,
все то хорошее и то дурное,
чем мне гордиться и о чем жалеть.
Все было: и падения и взлеты,
но, размотав клубки своих дорог,
я видел то, что не увидел кто-то,
и то сказал я, что другой не смог.
Хоть мне неведомо, что предо мною,
но я благословляю наперед
все то хорошее и то дурное,
что ждет меня и что уже не ждет.
И пусть за тем ближайшим поворотом
лучи не мне назначенных дорог.
Что не увижу я, увидит кто-то,
и кто-то скажет то, что я не смог.
1969
Золотая рыбка
Перевод А. Наумова
Едва от рожденья — попала она
в тот грязный, заиленный хауз
{306} ,
и крошки ловила, и илом со дна
играла,
и в нем задыхалась.
И все, что на свете ей видеть пришлось, —
лишь хауз, да палые листья
разросшихся талов,
да небо, насквозь
прошитое веткою лысой.
Лишь хауз заброшенный с грязной водой,
с листвой полусгнившей да илом…
И горько, что рыбке моей золотой
вот это —
и кажется миром.
1968
ЯАН КАПЛИНСКИ
(Род. в 1941 г.)
С эстонского
{307}
Песня о жизни и смерти
Перевод В. Шацкова
1
Для тех, кто зарабатывает деньги,
и тех, кто зарабатывает славу,
и тех, кто зарабатывает женщин,
я умер.
Для тех, кто в чтении находит только скуку,
и тех, кто истину находит только в книгах,
и тех, кто пользы не находит в песне,
и тех, кто выгоду в стихах находит,
я умер.
Для тех, кто голосит о торжестве сознанья,
и тех, кто шамкает о смерти интеллекта,
и тех, кто превозносит чистый разум,
и тех, кто никогда не произнес: «Я не разумен», —
я умер.
Я умер.
Но как же тогда продолжаю любить потемневшую роспись,
скульптуры ольмеков и римлян, полотна японцев и эстов?
Любить всех, оставивших в камне
и в глине, в немеркнущих красках
глаза свои, руки и кровь?
2
Я знаю:
на тяжелой, влажной пашне,
на трещинах камней, на стоптанной дороге,
хранящей след животных и людей,
я оживаю.
В лиловой тишине, когда сзывают стадо,
в рассветном беге розовых коней,
в смоленых желваках натруженных уключин,
держа весло, лопату и перо,
я оживаю.
Когда учусь у пахарей и формул стремиться к точности,
и у ночных костров учусь добру, и открываю в песне
или картине слепок чьих-то рук,
я чувствую: не всякий смертный умер,
и я живу и мыслю вместе с ним.
Бессмертные, мы молча размышляем
о зарослях дождей и перелетах птиц,
о радующей тяжести пшеницы,
об узловатой речи рыбаков
и пенящемся говоре южанок,
о плитах То омпеа и валунах Байкала,
о тех, кто был, кто есть, и тех, кто будет.
И в смене смерти, роста и рожденья
я чувствую.
Я знаю.
Я живу.
1964
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ
(Род. в 1941 г.)
{308}
Отцу
Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать?
Оставил нас одних на целом свете,
Взгляни на мать — она сплошной рубец.
Такая рана видит даже ветер,
На эту боль нет старости, отец!
На вдовьем ложе, памятью скорбя,
Она детей просила у тебя.
Подобно вспышкам на далеких тучах,
Дарила миру призраков летучих:
Сестер и братьев, выросших в мозгу…
Кому об этом рассказать смогу?
Мне у могилы не просить участья.
Чего мне ждать?…
Летит за годом год.
— Отец! — кричу. — Ты не принес нам счастья!.. —
Мать в ужасе мне закрывает рот.
Гимнастерка
Солдат оставил тишине
Жену и малого ребенка
И отличился на войне…
Как известила похоронка.
Зачем напрасные слова
И утешение пустое?
Она вдова, она вдова…
Отдайте женщине земное!
И командиры на войне
Такие письма получали:
«Хоть что-нибудь верните мне…»
И гимнастерку ей прислали.
Она вдыхала дым живой,
К угрюмым складкам прижималась,
Она опять была женой,
Как часто это повторялось!
Годами снился этот дым,
Она дышала этим дымом —
И ядовитым, и родным,
Уже почти неуловимым…
…Хозяйка юная вошла.
Пока старуха вспоминала,
Углы от пыли обмела
И — гимнастерку постирала.
ЛОИК ШЕРАЛИ
(Род. в 1941 г.)
С таджикского
{309}
Песня труду
Перевод И. Лиснянской
Что же ты ищешь в поле, склонив молодое лицо?
Юность,
надежду
или щепотку соли?
Или же ты потеряла свое золотое кольцо
и ищешь под каждым кусточком в хлопковом поле?
Среди воды и глины, жары и глины
каждое утро я вижу тебя,
каждый вечер я вижу тебя —
запястья твои, и локти твои, и спину
среди воды и глины, жары и глины.
Только не вижу твою высокую грудь
в хлопковом поле,
молочном, как Млечный Путь, —
ты нагибаешь стан свой к каждой коробочке,
в каждой коробочке хлопка —
по ясной звездочке.
Ты собираешь в подол
свой звезды цвета зимы,
не с купола неба ты их собираешь — с земли.
Я вижу тебя, и я позабыть не смогу,
как ярко-зеленому шарообразному кураку
{310} с утра дотемна ты приносишь земные поклоны,
чтоб белые звезды не жили в зеленом полоне.
И так ты в ладони берешь этот шар курака,
что кажется, землю саму ты нянчишь в ладони.
А солнце Востока из своего далека
так накаляет поле, как наковальню кузнец, —
и ты, как железка в печи,
как лепешка в печи, наконец,
и словно тлеющий уголь твоя щека.
Зимою лицо твое тоже светлого цвета —
ты не темней, чем красавицы Душанбе,
но лето, душное лето, кирпичное лето
обычно кирпичный цвет кожи приносит тебе.
Губы твои — шершавые,
руки твои — усталые,
но силы, ушедшие силы, ищут только в земле.
И чтоб описать красоту твою
средь белого хлопка и солнца алого,
нету пера на моем столе,
нету пера на столе!
Бороздки каналов между рядами саженцев
по-праздничному заплетенными,
твоими косичками кажутся,
а если сверканию хлопка сравнение есть —
то это только твоя пресветлая честь!
И, на мгновенье презрев свой письменный стол,
одно лишь могу говорить тебе в этот вечер:
Земля — твой престол,
Земля — твой вечный престол,
единственный трон, который незыблем и вечен…
О ты, чья красота
подымает землю,
о ты, чья красота
украшает землю,
о таджичка, избравшая вечный трон,
научи ты меня обычаю
земле отдавать поклон,
чтобы белый мой стих мог быть
с белым хлопком сравним
или, подобно тебе,
постоянно был связан с ним.
1966
Относительно споров вокруг Авиценны
Перевод Cm. Куняева
Одни говорят:
Другие, что он — араб.
Споры идут из века в век.
Кто виноват?
Кто прав?
Иные считают
что он таджик,
а иные — что перс…
Так каков же его родной язык?
Кем он был, наконец?
Язык фарси был его языком,
но знал он много других.
А лучше всего
он был знаком
с языком страданий людских.
Боль человечества он понимал —
зачем ему рубежи,
если он в себя принимал
язык мировой души?
Он знал язык травы и цветка,
слышал вздохи земли…
Знание этого языка
спорщики не учли.
1970
«Если с неба падает звезда…»
Перевод Cm. Куняева
Если с неба падает звезда —
больно мне от горестной приметы.
Если ломят дерево ветра —
больно слышать, как стенают ветви.
Вижу, что тропинка заросла, —
сразу мысль, что ты меня забыла…
Вижу — речка высохла до дна:
больно мне, как будто кровь остыла.
Если вдруг скончается дитё —
все горюют, слез своих не прячут.
Женщины бездетные — и то,
словно умер их ребенок, плачут.
Сердце, сердце! Что это с тобой?
Можно ль быть чувствительней и шире!
Если боль Вселенной — наша боль,
мир во мне иль мы в бескрайнем мире?
1970
ПАУЛЬ-ЭРИК РУММО
(Род. в 1942 г.)
С эстонского
{312}
Встретились путник и куст
Перевод В. Шацкова
Розовый шиповник на окраине луга.
Лютики, ромашки, бурые лужи дороги.
С какой стороны подошел я, не помню.
Небо сбросило поклажу грузных туч.
Влажен по грудь, по губы рисунок мира.
Опрокинуто ведерко на изгороди.
Солнце Опускается.
Розовые размывы до горизонта.
Розовый шиповник на окраине луга.
Когда все это возникло? Надолго ли?
Пчелы уже отлетели ко сну.
И бабочки. Луга наедине с собой.
Запах меда. Цветенье. Умиротворенность.
Розовый шиповник в мире, в закате, в цвету.
Тот, кто заблудился, дойдет? Хоть однажды?
РАВИЛЬ ФАЙЗУЛЛИН
(Род. в 1943 г.)
Переводы Р. Кутуя
С татарского
{313}
«Когда звезда моей жизни…»
Когда звезда моей жизни
над миром зажглась?
Не знаю.
А мама знает.
Когда улыбнулся я первый раз?
Не знаю.
А мама знает.
Когда первые слезы из глаз скатились?
Не знаю.
А мама знает.
Закроет ли небо
атомный гриб?
Не знаю.
И мать не знает.
Скажите ей, старой,
кто знает об этом.
Мой путь яснооко
мать видеть должна.
Скажите…
И думает старая
думу вечную.
Та дума свята, чиста:
«Сын ушел на войну
таким же вечером…
Сын вернется с войны
таким же вечером…
Этим мостом деревянным…
Он не знает другого моста».
Мой язык
Язык народа моего,
как тысячи других:
несуетлив и скромен.
Сродни пожатию руки,
неслышному движенью крови.
Как деревенской девушки наряд,
застенчив он и прост, —
парламенты на нем не говорят,
конгрессы открывать не привелось
на моем языке…
Не украшает чеки он и деньги,
не объявляет войны никому.
На языке моем смеются дети
в густом ромашковом дыму лугов.
Язык народа моего,
как тысяча других,
певуч, протяжен,
свой лад-печаль «Рамай» и «Аллюки»
о нем расскажет.
«Караурман», «Сарман» и «Гульджамал» —
щемящая душа народа,
как будто бы упал туман
и сон рассветный встретила природа.
Общедоступен он,
но не в единый миг
хлеб зреет,
нить прядется,
дубится кожа,
бьет родник.
Кому испить его воды придется,
тот не забудет мой язык.
Булгары
Оседают руины. Седая,
сном столетий полынь встает.
Небо выше. Паломников стаю —
птиц бездомных — несет небосвод.
Плач и стон… Тишина такая,
что мерещится лёт стрелы,
конский топот вдали затихает,
вьется облачко мертвой золы…
Я один. К валуну моя лодка
прислонилась. Не звякнет цепь.
Воздух Булгар, твой свет короткий
узкий месяц, руины, степь.
Указатель имен
Абашидзе Григол — II, 113.
Абашидзе Ираклий — I, 739.
Абылкасымова Майрамкан — II, 779.
Адалис Аделина — I, 413.
Аджиев Анвар — II, 119.
Адо Улуро — II, 835.
Айбек — I, 568.
Айни Садриддин — I, 87.
Акопян Акоп — I, 55.
Алигер Маргарита — II, 164.
Алиева Фазу — II, 695.
Алимджан Хамид — I, 745.
Альвер Бетти — I, 608.
Аманжолов Касим — I, 813.
Анко Юрий — II, 685.
Антокольский Павел — I, 298.
Араз Мамед — II, 724.
Арипов Абдулла — II, 844.
Асеев Николай — I, 137.
Атаджанов Ата — II, 464.
Аузинь Имант — II, 808.
Ахмадулина Белла — II, 811.
Ахматова Анна — I, 145.
Ахматова Раиса — II, 630.
Бабаджан Рамз — II, 436.
Багрицкий Эдуард — I, 263.
Бажан Микола — I, 531.
Байрамукова Халимат — II, 275.
Балтакис Альгимантас — II, 664.
Барбарус Иоханнес — I, 163.
Барто Агния — I, 610.
Бахшиев Мишши — I, 772.
Бедный Демьян — I, 96.
Безбородов Михаил — I, 664.
Безыменский Александр — I, 347.
Белшевиц Визма — II, 686.
Белый Андрей — I, 90.
Берггольц Ольга — I, 773.
Берулава Хута — II, 546.
Бобинский Василь — I, 352.
Боков Виктор — II, 120.
Борисов Исаак — II, 510.
Бородулин Рыгор — II, 766.
Боцу Павел — II, 726.
Бровка Петрусь — I, 571.
Брюсов Валерий — I, 64.
Буков Емилиан — I, 748.
Бээкман Владимир — II, 642.
Вааранди Дебора — II, 237.
Вагабзаде Бахтияр — II, 590.
Ванаг Юлий — I, 477.
Ваншенкин Константин — II, 594
Васильев Павел — I, 781.
Васильев Сергей — I, 816.
Вахидов Эркин — II, 781.
Вациетис Ояр — II, 728.
Велюгин Анатолий — II, 514.
Венцлова Антанас — I, 618.
Ветемаа Энн — II, 782.
Виеру Григоре — II, 768.
Викулов Сергей — II, 467.
Винокуров Евгений — II, 603.
Вознесенский Андрей — II, 733.
Воронько Платон — II, 62.
Вургун Самед — I, 623.
Гаврилюк Александр — I, 822.
Гали Муса — II, 519.
Галкин Самуил — I, 327.
Гамзатов Расул — II, 520.
Гастев Алексей — I, 93.
Гафури Мажит — I, 91.
Гафуров Абуталиб — I, 95.
Геловани Мирза — II, 276.
Герасименко Кость — I, 665.
Гира Людас — I, 110.
Глебка Петро — I, 581.
Годжа Фикрет — II, 771.
Голованивский Савва — I, 785.
Голодный Михаил — I, 479.
Гончаров Виктор — II, 408.
Горбовский Глеб — II, 690.
Гордейчев Владимир — II, 667.
Городецкий Сергей — I, 102.
Гофштейн Давид — I, 154.
Граши Ашот — I, 822.
Грибачев Николай — I, 789.
Григулис Арвид — I, 630.
Грот Ян — I, 444.
Грубиан Матвей — I, 752.
Гудзенко Семен — II, 472.
Гулиа Дмитрий — I, 69.
Гулям Гафур — I, 482.
Гурян Татул — II, 20.
Давтян Ваагн — II, 476.
Дамдинов Николай — II, 696.
Дамиан Ливиу — II, 773.
Данилов Семен — II, 278.
Деляну Ливиу — I, 827.
Державин Владимир — I, 706.
Джалил Джасмэ — I, 711.
Джалиль Муса — I, 633.
Джабаев Джамбул — I, 43.
Джансугуров Ильяс — I, 239.
Джафаров Абумуслим — I, 753.
Джусойты Нафи — II, 551.
Джусуев Сооронбай — II, 611.
Дильбази Мирварид — II, 21.
Дмитерко Любомир — I, 829.
Дмитриев Олег — II, 817.
Долматовский Евгений — II, 172.
Доризо Николай — II, 530.
Драч Иван — II, 784.
Друнина Юлия — II, 552.
Дудин Михаил — II, 245.
Дурян Людвиг — II, 740.
Евтушенко Евгений — II, 743.
Ергалиев Хамид — II, 255.
Ерикеев Ахмед — I, 468.
Жалсараев Дамба — II, 613.
Жаров Александр — I, 540.
Жароков Таир — I, 712.
Жигулин Анатолий — II, 668.
Жумамуратов Тлеуберген — II, 177.
Забашта Любовь — II, 303.
Забила Наталья — I, 486.
Заболоцкий Николай — I, 487.
Заднипру Петру — II, 629.
Залендин Салехжан — II, 557.
Зарьян Наири — I, 415.
Звягинцева Вера — I, 240.
Зенкевич Михаил — I, 184.
Зиедонис Имант — II, 751.
Зульфия — II, 180.
Зумакулова Танзиля — II, 759.
Ивнев Рюрик — I, 186.
Инбер Вера — I, 169.
Иоаннисиан Ионнес — I, 48.
Ипай Олык — II, 24.
Исаакян Аветик — I, 72.
Исаев Егор — II, 623.
Исаковский Михаил — I, 419.
Истру Богдан — II, 125.
Казакова Римма — II, 698.
Казаков Миклай — II, 306.
Казин Василий — I, 356.
Казияу Али — I, 89.
Кайтуков Георгий — I, 837.
Каладзе Карло — I, 666.
Каландадзе Анна — II, 558.
Каляев Санджи — I, 586.
Каменский Василий — I, 104.
Каноат Мумин — II, 703.
Каплински Яан — II, 846.
Капутикян Сильва — II, 339.
Карачобан Дмитрий — II, 752.
Карим Мустай — II, 346.
Квитко Лев — I, 270.
Квливидзе Михаил — II, 614.
Кедрин Дмитрий — I, 672.
Кемпе Мирдза — I, 677.
Кербабаев Берды — I, 242.
Кешоков Алим — II, 128.
Кильчичаков Михаил — II, 355.
Киреенко Кастусь — II, 306.
Кириллов Петр — I, 796.
Кирсанов Семен — I, 642.
Клюев Николай — I, 113.
Клычков Сергей — I, 156.
Ковалев Дмитрий — II, 187.
Коган Павел — II, 311.
Козловский Яков — II, 441.
Копштейн Арон — II, 191.
Корнилов Борис — I, 682.
Коротич Виталий — II, 788.
Кочетков Александр — I, 427.
Коянто Владимир — II, 819.
Крапива Кондрат — I, 307.
Кросс Яан — II, 411.
Крученюк Петря — II, 280.
Кугультинов Давид — II, 480.
Кудаш Сайфи — I, 249.
Кузнецов Юрий — II, 847.
Кулемин Василий — II, 444.
Кулешов Аркадий — II, 131.
Кулиев Кайсын — II, 282.
Кульбак Моисей — I, 311.
Кульчицкий Михаил — II, 359.
Куняев Станислав — II, 706.
Курбаннепесов Керим — II, 645.
Кучияк Павел — I, 332.
Кушнер Александр — II, 792.
Кымытваль Антонина — II, 836.
Лазарев Григорий — II, 293.
Лайцен Линард — I, 101.
Лапцуй Леонид — II, 710.
Лахути Абулькасим — I, 117.
Лебедев-Кумач Василий — I, 362.
Лебедев Михаил — I, 77.
Левитанский Юрий — II, 489.
Леонидзе Георгий — I, 333.
Липкин Семен — I, 839.
Лиснянская Инна — II, 632.
Лисянский Марк — II, 68.
Лихачев Михаил — I, 446.
Луговской Владимир — I, 447.
Луконин Михаил — II, 313.
Лукс Валдис — I, 587.
Лупан Андрей — II, 25.
Львов Михаил — II, 258.
Маари Гурген — I, 495.
Майоров Николай — II, 360.
Малдонис Альфонсас — II, 675.
Маликов Кубанычбек — I, 844.
Малышко Андрей — II, 29.
Мамакаев Магомет — I, 797.
Мандельштам Осип — I, 188.
Маргиани Реваз — II, 264.
Маркарян Маро — II, 193.
Маркиш Перец — I, 274.
Марков Сергей — I, 650.
Мартынов Леонид — I, 590.
Марцинкявичус Юстинас — II, 678.
Маршак Самуил — II, 120.
Матвеева Новелла — II, 760.
Матусовский Михаил — II, 200.
Мауленов Сарыбай — II, 495.
Машбаш Исхак — II, 693.
Межелайтис Эдуардас — II, 364.
Межиров Александр — II, 536.
Менюк Джордже — II, 319.
Микаэлян Нансен — II, 753.
Мирмухсин — II, 446.
Миртемир — I, 797.
Миршакар Мирсаид — II, 38.
Мирцхулава Алио — I, 498.
Михалков Сергей — II, 72.
Мозурюнас Владас — II, 499.
Мориц Юнна — II, 820.
Моро Артур — I, 754.
Мотвилла Витаутас — I, 470.
Музаев Нурдин — II, 80.
Мулдагалиев Джубан — II, 414.
Муратов Игорь — II, 43.
Мушфик Микаил — I, 715.
Мысик Василь — I, 687.
Нагнибеда Микола — I, 849.
Наджми Назар — II, 320.
Намсараев Хоца — I, 157.
Нарбут Владимир — I, 132.
Наровчатов Сергей — II, 373.
Наседкин Василий — I, 279.
Недогонов Алексей — II, 139.
Нейман Юлия — I, 694.
Немтушкин Алитет — II, 838.
Нерис Саломея — I, 547.
Нигер (Иван Джанаев) — I, 313.
Нишнианидзе Шота — II, 647.
Нонешвили Иосиф — II, 322.
Ованесян Рачия — II, 382.
Огнецвет Эди — II, 269.
Озеров Лев — II, 143.
Олейник Борис — II, 774.
Олейник Степан — I, 719.
Орешин Петр — I, 129.
Орлов Сергей — II, 449.
Осмонов Алыкул — II, 205.
Островой Сергей — I, 856.
Отрада Николай — II, 326.
Охтов Абдула — I, 755.
Ошанин Лев — II, 44.
Павлович Надежда — I, 281.
Павлычко Дмитро — II, 650.
Панченко Пимен — II, 294.
Парве Ральф — II, 385.
Пассар Андрей — II, 618.
Пастернак Борис — I, 174.
Пачев Бекмурза — I, 44.
Первомайский Леонид — I, 723.
Петров Михаил — I, 599.
Петровых Мария — I, 729.
Поделков Сергей — II, 50.
Поженян Григорий — II, 503.
Полетаев Николай — I, 158.
Попов Леонид — II, 388.
Поцхишвили Морис — II, 682.
Прокофьев Александр — I, 428.
Пысин Алексей — II, 418.
Рагим Мамед — I, 696.
Рамазанов Гилемдар — II, 544.
Рафибейли Нигяр — II, 81.
Рахими Мухаммеджан — I, 456.
Рахим-заде Боки — I, 801.
Рашидов Рашид — II, 633.
Рауд Март — I, 502.
Решетников Леонид — II, 423.
Рза Расул — I, 804.
Рождественский Всеволод — I, 283.
Рождественский Роберт — II, 711.
Рошка Агнесса — II, 656.
Рубцов Николай — II, 796.
Рудерман Михаил — I, 600.
Руммо Пауль — I, 756.
Руммо Пауль Эрик — II, 852.
Рустам Сулейман — I, 657.
Ручьев Борис — II, 83.
Рыленков Николай — I, 758.
Рыльский Максим — I, 288.
Рыскулов Рамис — II, 764.
Саакян Арамис — II, 799.
Сагиян Амо — II, 148.
Самойлов Давид — II, 428.
Сангаджиева Бося — II, 454.
Санги Владимир — II, 778.
Сарыг-оол Степан — I, 734.
Сарывелли Осман — I, 601.
Саянов Виссарион — I, 506.
Светлов Михаил — I, 510.
Севак Паруйр — II, 561.
Сейтлиев Кара — II, 206.
Сейфуллин Сакен — I, 251.
Сельвинский Илья — I, 375.
Семпер Иоханнес — I, 214.
Сеспель Мишши — I, 384.
Симонов Константин — II, 210.
Скалбе Арвид — II, 506.
Слуцкий Борис — II, 389.
Смеляков Ярослав — II, 91.
Смирнов Сергей — II, 100.
Смуул Юхан — II, 508.
Соколов Владимир — II, 634.
Солоухин Владимир — II, 569.
Сосюра Владимир — I, 366.
Софронов Анатолий — I, 859.
Стальский Сулейман — I, 60.
Старшинов Николай — II, 573.
Субботин Василий — II, 455.
Суворов Георгий — II, 397.
Судрабкалн Ян — I, 255.
Сулаймони Пайрав — I, 385.
Сулейменов Олжас — II, 801.
Сулейманова Гулчехра — II, 640.
Сумманен Тайсто — II, 694.
Сурков Алексей — I, 386.
Сютисте Юхан — I, 395.
Сян-Белгин Хасыр — I, 766.
Табидзе Галактион — I, 198.
Табидзе Тициан — I, 233.
Тажибаев Абдильда — I, 767.
Такташ Хади — I, 456.
Танк Максим — II, 54.
Тарабукин Николай — I, 812.
Тарба Иван — II, 459.
Тарковский Арсений — I, 701.
Татьяничева Людмила — II, 218.
Телеукэ Виктор — II, 754.
Тильвитис Теофилис — I, 557.
Тихонов Николай — I, 314.
Тоголок Молдо — I, 46.
Токомбаев Аалы — I, 561.
Токтогул — I, 50.
Тряпкин Николай — II, 328.
Туманян Ованес — I, 62.
Турганов Борис — I, 460.
Туркин Владимир — II, 578.
Турсун-заде Мирзо — II, 5.
Туфан Хасан — I, 437.
Тушнова Вероника — II, 224.
Тычина Павло — I, 204.
Уйгун — I, 604.
Улзытуев Дондок — II, 806.
Уметалиев Темиркул — I, 735.
Усенко Павло — I, 474.
Уткин Иосиф — I, 519.
Ухсай Яков — II, 13.
Ушаков Николай — I, 399.
Файзуллин Равиль — II, 853.
Фатьянов Алексей — II, 399.
Федоров Василий — II, 332.
Фефер Ицик — I, 439.
Фирсов Владимир — II, 824.
Фокина Ольга — II, 829.
Френкель Илья — I, 524.
Хазри Наби — II, 582.
Хаким Сибгат — II, 15.
Халваши Фридон — II, 619.
Хамза Хаким-заде Ниязи — I, 160.
Хаппалаев Юсуп — II, 270.
Хелемский Яков — II, 150.
Хлебников Велимир — I, 106.
Хузангай Педер — I, 705.
Хурюгский Тагир — I, 238.
Цадаса Гамзат — I, 79.
Цветаева Марина — I, 220.
Цеков Пасарби — II, 509.
Цуг Теучеж — I, 45.
Цыбин Владимир — II, 718.
Чак Александр — I, 463.
Чаклайс Марис — I, 841.
Чарот Михась — I, 325.
Чаренц Егише — I, 340.
Челидзе Отар — II, 587.
Чиковани Симон — I, 525.
Чиладзе Отар — II, 756.
Чумак Василь — I, 467.
Чухонцев Олег — II, 839.
Шварцман Ошер — I, 162.
Шведов Яков — I, 607.
Шенгели Георгий — I, 260.
Шерали Лоик — II, 849.
Шесталов Юван — II, 832.
Шестинский Олег — II, 658.
Шефнер Вадим — II, 228.
Шиваза Ясыр — I, 659.
Шинкуба Баграт — II, 300.
Шираз Ованес — II, 154.
Шкляревский Игорь — II, 836.
Шогенцуков Адам — II, 272.
Шогенцуков Али — I, 443.
Шубин Павел — II, 162.
Щипахина Людмила — II, 759.
Щипачев Степан — I, 405.
Эйдеман Роберт — I, 298.
Эллан (Блакитный) Василь — I, 262.
Элляй Серафим — I, 567.
Эмин Геворг — II, 401.
Эралиев Суюнбай — II, 462.
Эренбург Илья — I, 211.
Эркай Никул — I, 663.
Эсенова Тоушан — II, 235.
Юсупов Ибрагим — II, 662.
Юсуфи Хабиб — II, 273.
Яндиев Джемалдин — II, 274.
Яшвили Паоло — I, 229.
Яшин Александр — II, 106.
Примечания
1
Я должен любить без взаимности
(польск.).
(обратно )
2
Господи, господи, зачем ты покинул меня!
(древнееврейск.).
(обратно )
3
Все-таки она вертится!
(итал.).
(обратно )
Комментарии
1
Турсун-заде Мирзо (род. в 1911 г.) — таджикский поэт. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.
(обратно )
2
Стр. 8.
Шариат — совокупность юридических и религиозных обрядовых норм, основанных на общих правилах ислама. Изложены в Коране (священная книга ислама, содержит изложение веры, правила нравственности) в отличие от
адата , основанного на обычном праве.
(обратно )
3
Ухсай Яков (род. в 1911 г.) — чувашский поэт.
(обратно )
4
Стр. 13.
Иванов Константин (1890–1915) — классик чувашской литературы.
(обратно )
5
Хаким Сибгат (род. в 1911 г.) — татарский поэт.
(обратно )
6
Гурян Татул (1912–1942) — армянский поэт. Погиб в дни обороны Севастополя.
(обратно )
7
Дильбази Мирварид (род. в 1912 г.) — азербайджанская поэтесса.
(обратно )
8
Ипай Олык (1912–1943) — марийский поэт.
(обратно )
9
Лупан Андрей (род. в 1912 г.) — молдавский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
10
Малышко Андрей (1912–1970) — украинский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
11
Стр. 29.
Астурия — область в Северной Испании; важнейший в стране район угледобычи.
(обратно )
12
Прометей — мифический герой, богоборец и защитник людей, похитивший для них огонь с неба и совершивший целый ряд других подвигов. За помощь людям был прикован богами к скале.
(обратно )
13
Миршакар Мирсаид (род. в 1912 г.) — таджикский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
14
Муратов Игорь (1912–1972) — украинский поэт.
(обратно )
15
Ошанин Лев (род. в 1912 г.) — русский поэт.
(обратно )
16
Поделков Сергей (род. в 1912 г.) — русский поэт.
(обратно )
17
Танк Максим (род. в 1912 г.) — белорусский поэт. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
18
Стр. 61.
Джангарчи — исполнитель калмыцкого народного эпоса «Джангар».
(обратно )
19
Воронько Платон (род. в 1913 г.) — украинский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
20
Стр. 67.
Гарсиа Лорка Федерико (1898–1936) — испанский поэт и драматург. Убит в Гранаде фашистами.
(обратно )
21
Лисянский Марк (род. в 1913 г). — русский поэт.
(обратно )
22
Михалков Сергей (род. в 1913 г.) — русский поэт. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.
(обратно )
23
Музаев Нурдин (род. в 1913 г.) — чеченский поэт.
(обратно )
24
Рафибейли Нигяр (род. в 1913 г.) — азербайджанская поэтесса.
(обратно )
25
Стр. 82.
Алагёз (Арагац) — горный массив в Армянской ССР.
(обратно )
26
Ручьев Борис (1913–1973) — русский поэт.
(обратно )
27
Смеляков Ярослав (1913–1972) — русский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
28
Стр. 94.
Перро Клод (1613–1688) — французский архитектор, строитель восточного фасада Лувра в Париже, одного из наиболее совершенных произведений французского классицизма.
(обратно )
29
Стр. 97.
Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) — князь. В 1564 г. изменил родине и бежал в Литву. Вел переписку с Иваном Грозным (1530–1584). Автор «Истории о великом князе Московском».
(обратно )
30
Смирнов Сергей (род. в 1913 г.) — русский поэт.
(обратно )
31
Яшин Александр (1913–1968) — русский поэт.
(обратно )
32
Абашидзе Григол (род. в 1914 г.) — грузинский поэт. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
33
Стр. 115–117.
Сизиф — строитель и царь Коринфа. Согласно древнегреческому мифу, был наказан за свои грехи и принужден был в царстве мертвых Аиде вечно вкатывать на гору тяжелый камень, который, едва достигнув вершины, скатывался вниз. Отсюда выражение — сизифов труд, означающее тяжелую и безрезультатную работу.
(обратно )
34
Ивериец — житель Иверии (Иберии, Картли) — так в древности называли Восточную и отчасти Южную Грузию.
(обратно )
35
Аджиев Анвар (род. в 1914 г.) — кумыкский поэт.
(обратно )
36
Боков Виктор (род. в 1914 г.) — русский поэт.
(обратно )
37
Истру Богдан (род. в 1914 г.) — молдавский поэт.
(обратно )
38
Кешоков Алим (род. в 1914 г.) — кабардинский поэт.
(обратно )
39
Кулешов Аркадий (род. в 1914 г.) — белорусский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
40
Стр. 132.
Каня — чибис.
(обратно )
41
Недогонов Алексей (1914–1948) — русский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
42
Озеров Лев (род. в 1914 г.) — русский поэт.
(обратно )
43
Сагиян Амо (род. в 1914 г.) — армянский поэт.
(обратно )
44
Хелемский Яков (род. в 1914 г.) — русский поэт.
(обратно )
45
Стр. 152.
Койсу (Аварское, Андийское, Казикухумское и Каракойсу) — четыре горные реки в Дагестане, текут в глубоких ущельях.
(обратно )
46
Шираз Ованес (род. в 1914 г.) — армянский поэт.
(обратно )
47
Шубин Павел (1914–1951) — русский поэт.
(обратно )
48
Алигер Маргарита (род. в 1915 г.) — русская поэтесса. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
49
Стр. 168.
Горацио — персонаж трагедии Шекспира «Гамлет», друг Гамлета, принца датского.
(обратно )
50
Долматовский Евгений (род. в 1915 г.) — русский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
51
Жумамуратов Тлеуберген (род. в 1915 г.) — каракалпакский поэт.
(обратно )
52
Зульфия (род. в 1915 г.) — узбекская поэтесса. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
53
Стр. 180.
Супа — возвышение для сидения в саду или во дворе.
(обратно )
54
Стр. 181.
Сунбуль — гиацинт.
(обратно )
55
Стр. 185.
Хафиз Шамседдин Мохаммед (ок. 1325–1389) — великий персидский поэт-лирик. Является также классиком таджикской литературы.
(обратно )
56
Ковалев Дмитрий (1915–1977) — русский поэт.
(обратно )
57
Копштейн Арон (1915–1940) — русский поэт. Погиб на финском фронте, спасая раненого друга, поэта Николая Отраду.
(обратно )
58
Стр. 191.
Диабаз — древняя вулканическая порода, сходная с базальтом.
(обратно )
59
Маркарян Маро (род. в 1915 г.) — армянская поэтесса.
(обратно )
60
Матусовский Михаил (род. в 1915 г.) — русский поэт.
(обратно )
61
Осмонов Алыкул (1915–1950) — киргизский поэт.
(обратно )
62
Стр. 206.
Буудан — неутомимый скакун из героического эпоса.
(обратно )
63
Сейтлиев Кара (1915–1971) — туркменский поэт.
(обратно )
64
Стр. 206.
Дестан (дастан) — популярная форма поэзии ашугов (народных певцов), имеющая по четыре стиха в строфе и многообразные размеры. Каждый четвертый стих оканчивается одним и тем же словом. Содержанием дестана являются обычно важные политические и общественные события.
(обратно )
65
Фраги (наст. имя Махтумкули; ок. 1733-1780-е годы) — туркменский поэт-философ, родоначальник классической туркменской литературы.
(обратно )
66
Симонов Константин (род. в 1915 г.) — русский поэт. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.
(обратно )
67
Татьяничева Людмила (род. в 1915 г.) — русская поэтесса.
(обратно )
68
Тушнова Вероника (1915–1965) — русская поэтесса.
(обратно )
69
Шефнер Вадим (род. в 1915 г.) — русский поэт.
(обратно )
70
Эсенова Тоушан (род. в 1915 г.) — туркменская поэтесса.
(обратно )
71
Стр. 235.
Кемине (ок. 1770–1840) — туркменский поэт-сатирик.
(обратно )
72
Той — празднество, сопровождаемое пиршеством, музыкой, плясками.
(обратно )
73
Бахши — народный певец, музыкант, сказитель в Туркмении.
(обратно )
74
Кази — судья.
(обратно )
75
Вааранди Дебора (род. в 1916 г.) — эстонская поэтесса.
(обратно )
76
Дудин Михаил (род. в 1916 г.) — русский поэт. Герой Социалистического Труда.
(обратно )
77
Ергалиев Хамид (род. в 1916 г.) — казахский поэт.
(обратно )
78
Львов Михаил (род. в 1916 г.) — русский поэт.
(обратно )
79
Маргиани Реваз (род. в 1916 г.) — грузинский поэт.
(обратно )
80
Стр. 265.
Сваны — этнографическая группа грузин, населяющая Сванетию, горный район Западной Грузии.
(обратно )
81
Стр. 268.
Хурджин — ковровая переметная сума.
(обратно )
82
Огнецвет Эди (род. в 1916 г.) — белорусская поэтесса.
(обратно )
83
Хаппалаев Юсуп (род. в 1916 г.) — лакский поэт.
(обратно )
84
Шогенцуков Адам (род. в 1916 г.) — кабардинский поэт.
(обратно )
85
Юсуфи Хабиб (1916–1945) — таджикский поэт.
(обратно )
86
Стр. 273.
Калам — тростниковая палочка, применяемая на Востоке для письма.
(обратно )
87
Яндиев Джемалдин (род. в 1916 г.) — ингушский поэт.
(обратно )
88
Байрамукова Халимат (род. в 1917 г.) — карачаевская поэтесса.
(обратно )
89
Геловани Мирза (1917–1944) — грузинский поэт. Погиб на фронте в Великую Отечественную войну.
(обратно )
90
Стр. 277.
Мтацминда («Святая гора») — гора, возвышающаяся над Тбилиси, со старинным монастырем, превращенным в пантеон писателей и общественных деятелей Грузии.
(обратно )
91
Данилов Семен (род. в 1917 г.) — якутский поэт.
(обратно )
92
Крученюк Петря (род. в 1917 г.) — молдавский поэт.
(обратно )
93
Кулиев Кайсын (род. в 1917 г.) — балкарский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
94
Стр. 292.
Чегем — селение, где родился поэт.
(обратно )
95
Лазарев Григорий (род. в 1917 г.) — хантыйский поэт.
(обратно )
96
Панченко Пимен (род. в 1917 г.) — белорусский поэт.
(обратно )
97
Стр. 298.
Сабир Таир-заде Алекпер (1862–1911) — азербайджанский народный поэт.
(обратно )
98
Мицкевич Адам (1798–1855) — польский поэт, революционер, посвятивший свое творчество борьбе за независимость Польши.
(обратно )
99
Тарас, — Имеется в виду украинский поэт Т. Г. Шевченко (1814–1861).
(обратно )
100
Шинкуба Баграт (род. в 1917 г.) — абхазский поэт.
(обратно )
101
Забашта Любовь (род. в 1918 г.) — украинская поэтесса.
(обратно )
102
Казаков Миклай (род. в 1918 г.) — марийский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
103
Киреенко Кастусь (род. в 1918 г.) — белорусский поэт.
(обратно )
104
Коган Павел (1918–1942) — русский поэт. 23 сентября 1942 г. лейтенант П. Коган, возглавлявший разведгруппу, погиб на сопке Сахарная Голова под Новороссийском.
(обратно )
105
Луконин Михаил (1918–1976) — русский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
106
Менюк Джордже (род. в 1918 г.) — молдавский поэт.
(обратно )
107
Наджми Назар (род. в 1918 г.) — башкирский поэт.
(обратно )
108
Нонешвили Иосиф (род. в 1918 г.) — грузинский поэт.
(обратно )
109
Отрада Николай (Николай Карпович Турочкин; 1918–1940) — русский поэт. Погиб 4 марта 1940 г. в бою на финском фронте.
(обратно )
110
Тряпкин Николай (род. в 1918 г.) — русский поэт.
(обратно )
111
Федоров Василий (род. в 1918 г.) — русский поэт.
(обратно )
112
Капутикян Сильва (род. в 1919 г.) — армянская поэтесса. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
113
Карим Мустай (род. в 1919 г.) — башкирский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
114
Кильчичаков Михаил (род. в 1919 г.) — хакасский поэт.
(обратно )
115
Стр. 358.
Айран — кисломолочный продукт, изготовляемый из коровьего, козьего и овечьего молока.
(обратно )
116
Кульчицкий Михаил (1919–1943) — русский поэт. Погиб под Сталинградом в январе 1943 г.
(обратно )
117
Майоров Николай (1919–1942) — русский поэт. Политрук пулеметной роты Н. Майоров был убит в бою на Смоленщине 8 февраля 1942 г.
(обратно )
118
Межелайтис Эдуардас (род. в 1919 г.) — литовский поэт. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
(обратно )
119
Стр. 368–372.
Сафо (Сапфо) — древнегреческая поэтесса первой половины VI в.
(обратно )
120
Чюрлёнис Микалоюс Константинас (1875–1911) — композитор, классик литовской национальной музыки, художник.
(обратно )
121
Ронсар Пьер (1524–1585) — французский поэт, глава группы поэтов «Плеяда», сыгравшей значительную роль в формировании французской национальной поэзии.
(обратно )
122
Хайям Омар (ок. 1048–1131) — великий таджикский поэт и ученый. Является также классиком персидской литературы.
(обратно )
123
Гоген Поль (1848–1903) — французский живописец, один из родоначальников постимпрессионизма.
(обратно )
124
Моне Клод (1840–1926) — французский живописец-пейзажист, крупнейший представитель импрессионизма.
(обратно )
125
Адам . — Имеется в виду Адам Мицкевич.
(обратно )
126
Голгофа — место близ Иерусалима, на котором совершались казни и где, по библейскому преданию, был распят Христос; в переносном смысле: источник страданий.
(обратно )
127
Нарцисс — в древнегреческой мифологии красавец-юноша, который, увидев свое отражение в воде, влюбился в себя и был превращен богами в цветок.
(обратно )
128
Наровчатов Сергей (род. в
1919 г.) — русский поэт.
(обратно )
129
Стр. 379.
Аматёр — любитель
(франц.).
(обратно )
130
Ованесян Рачия (род. в 1919 г.) — армянский поэт.
(обратно )
131
Парве Ральф (род. в 1919 г.) — эстонский поэт.
(обратно )
132
Попов Леонид (род. в 1919 г.) — якутский поэт.
(обратно )
133
Слуцкий Борис (род. в 1919 г.) — русский поэт.
(обратно )
134
Суворов Георгий (1919–1944) — русский поэт. Гвардии лейтенант Г. Суворов погиб в дни наступления под Ленинградом, при переправе через Нарову, 13 февраля 1944 года.
(обратно )
135
Фатьянов Алексей (1919–1959) — русский поэт.
(обратно )
136
Эмин Геворк (род. в 1919 г.) — армянский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
137
Гончаров Виктор (род. в 1920 г.) — русский поэт.
(обратно )
138
Кросс Яан (род. в 1920 г.) — эстонский поэт.
(обратно )
139
Стр. 411.
Гойя Франсиско Хосе де (1746–1828) — выдающийся испанский живописец и гравер.
(обратно )
140
Мулдагалиев Джубан (род. в 1920 г.) — казахский поэт.
(обратно )
141
Стр. 415.
Абай — Абай Кунанбаев (1845–1904) — великий казахский поэт-гуманист, просветитель, родоначальник письменной казахской литературы и казахского литературного языка; композитор.
(обратно )
142
Мухтар (Мухтар Ауэзов; 1897–1961) — выдающийся казахский советский писатель.
(обратно )
143
Пысин Алексей (род. в 1920 г.) — белорусский поэт.
(обратно )
144
Стр. 420.
Коло — народный танец, широко распространенный у южных славян.
(обратно )
145
Решетников Леонид (род. в 1920 г.) — русский поэт.
(обратно )
146
Самойлов Давид (род. в 1920 г.) — русский поэт.
(обратно )
147
Бабаджан Рамз (род. в 1921 г.) — узбекский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
148
Козловский Яков (род. в 1921 г.) — русский поэт.
(обратно )
149
Кулемин Василий (1921–1962) — русский поэт.
(обратно )
150
Мирмухсин (род. в 1921 г.) — узбекский поэт.
(обратно )
151
Орлов Сергей (род. в 1921 г.) — русский поэт.
(обратно )
152
Сангаджиева Бося (род. в 1921 г.) — калмыцкая поэтесса.
(обратно )
153
Субботин Василий (род. в 1921 г.) — русский поэт.
(обратно )
154
Тарба Иван (род. в 1921 г.) — абхазский поэт.
(обратно )
155
Эралиев Суюнбай (род. в 1921 г.) — киргизский поэт.
(обратно )
156
Атаджанов Ата (род. в 1922 г.) — туркменский поэт.
(обратно )
157
Викулов Сергей (род. в 1922 г.) — русский поэт.
(обратно )
158
Гудзенко Семен (1922–1953) — русский поэт.
(обратно )
159
Давтян Ваагн (род. в 1922 г.) — армянский поэт.
(обратно )
160
Кугультинов Давид (род. в 1922 г.) — калмыцкий поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
161
Левитанский Юрий (род. в 1922 г.) — русский поэт.
(обратно )
162
Стр. 492.
Гайдн Иосиф (1732–1809) — великий австрийский композитор, представитель венской классической школы.
(обратно )
163
Мауленов Сырбай (род. в 1922 г.) — казахский поэт.
(обратно )
164
Мозурюнас Владас (род. в 1922 г.) — литовский поэт.
(обратно )
165
Поженян Григорий (род. в 1922 г.) — русский поэт.
(обратно )
166
Скалбе Арвид (род. в 1922 г.) — латышский поэт.
(обратно )
167
Смуул Юхан (1922–1971) — эстонский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
168
Цеков Пасарби (род. в 1922 г.) — абазинский поэт.
(обратно )
169
Борисов Исаак (1923–1972) — еврейский поэт.
(обратно )
170
Велюгин Анатолий (род. в 1923 г.) — белорусский поэт.
(обратно )
171
Гали Муса (род. в 1923 г.) — башкирский поэт.
(обратно )
172
Гамзатов Расул (род. в 1923 г.) — аварский поэт. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.
(обратно )
173
Стр. 523.
Хаджи-Мурат (ум. в 1852 г.) — крупный феодал, участник реакционного религиозно-националистического движения мюридизма на Кавказе.
(обратно )
174
Мюриды — послушники у мусульман, фанатически ненавидящие «неверных», то есть немусульман; здесь — преданный своему делу человек.
(обратно )
175
Доризо Николай (род. в 1923 г.) — русский поэт.
(обратно )
176
Межиров Александр (род. в 1923 г.) — русский поэт.
(обратно )
177
Стр. 543.
Навтлуг — окраинный район Тбилиси.
(обратно )
178
Рамазанов Гилемдар (род. в 1923 г.) — башкирский поэт.
(обратно )
179
Берулава Хута (род. в 1924 г.) — грузинский поэт.
(обратно )
180
Стр. 550.
Тяжкий путь в Цицамури… — Около Цицамури был убит грузинский поэт Илья Чавчавадзе (1837–1907).
(обратно )
181
Джусойты Нафи (род. в 1924 г.) — осетинский поэт.
(обратно )
182
Друнина Юлия (род. в 1924 г.) — русская поэтесса.
(обратно )
183
Залендин Салехжан (род. в 1924 г.) — ногайский поэт.
(обратно )
184
Каландадзе Анна (род. в 1924 г.) — грузинская поэтесса.
(обратно )
185
Стр. 559.
Мравалжамиер — буквально: «многие лета». Название древней грузинской песни.
(обратно )
186
Севак Паруйр (1924–1971) — армянский поэт.
(обратно )
187
Солоухин Владимир (род. в 1924 г.) — русский поэт.
(обратно )
188
Старшинов Николай (род. в 1924 г.) — русский поэт.
(обратно )
189
Туркин Владимир (род. в 1924 г.) — русский поэт.
(обратно )
190
Хазри Наби (род. в 1924 г.) — азербайджанский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
191
Стр. 584.
Эйлаги — горные пастбища для летнего содержания овец.
(обратно )
192
Челидзе Отар (род. в 1924 г.) — грузинский поэт.
(обратно )
193
Вагабзаде Бахтияр (род. в 1925 г.) — азербайджанский поэт.
(обратно )
194
Ваншенкин Константин (род. в 1925 г.) — русский поэт.
(обратно )
195
Винокуров Евгений (род. в 1925 г.) — русский поэт.
(обратно )
196
Джусуев Сооронбай (род. в 1925 г.) — киргизский поэт.
(обратно )
197
Стр. 611.
Комуз — киргизский народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент.
(обратно )
198
Жалсараев Дамба (род. в 1925 г.) — бурятский поэт.
(обратно )
199
Квливидзе Михаил (род. в 1925 г.) — грузинский поэт.
(обратно )
200
Стр. 616.
Бараташвили Николоз (1817–1845) — грузинский поэт-романтик.
(обратно )
201
Пассар Андрей (род. в 1925 г.) — нанайский поэт.
(обратно )
202
Халваши Фридон (род. в 1925 г.) — грузинский поэт.
(обратно )
203
Исаев Егор (род. в 1926 г.) — русский поэт.
(обратно )
204
Заднипру Петру (1927–1976) — молдавский поэт.
(обратно )
205
Ахматова Раиса (род. в 1928 г.) — чеченская поэтесса.
(обратно )
206
Лиснянская Инна (род. в 1928 г.) — русская поэтесса.
(обратно )
207
Рашидов Рашид (род. в 1928 г.) — даргинский поэт.
(обратно )
208
Соколов Владимир (род. в 1928 г.) — русский поэт.
(обратно )
209
Сулейманова Гулчехра (род. в 1928 г.) — таджикская поэтесса.
(обратно )
210
Бээкман Владимир (род. в 1929 г.) — эстонский поэт.
(обратно )
211
Курбаннепесов Керим (род. в 1929 г.) — туркменский поэт.
(обратно )
212
Нишнианидзе Шота (род. в 1929 г.) — грузинский поэт.
(обратно )
213
Павлычко Дмитро (род. в 1929 г.) — украинский поэт.
(обратно )
214
Стр. 653.
Каменяр . — Имеется в виду Франко Иван Яковлевич (1856–1916) — выдающийся украинский писатель, публицист, ученый, критик и общественный деятель.
(обратно )
215
Рошка Агнесса (род. в 1929 г.) — молдавская поэтесса.
(обратно )
216
Шестинский Олег (род. в 1929 г.) — русский поэт.
(обратно )
217
Стр. 660.
А. П. Керн (Маркова-Виноградская; 1800–1879).-Талантливая мемуаристка, А. П. Керн оставила на редкость точные и выразительные воспоминания о Пушкине и его современниках.
(обратно )
218
Юсупов Ибрагим (род. в 1929 г.) — каракалпакский поэт.
(обратно )
219
Стр. 662.
Мухаллес (мухаммас) — стихотворение, состоящее из пятистрочных строф.
(обратно )
220
Балтакис Альгимантас (род. в 1930 г.) — литовский поэт.
(обратно )
221
Гордейчев Владимир (род. в 1930 г.) — русский поэт.
(обратно )
222
Жигулин Анатолий (род. в 1930 г.) — русский поэт.
(обратно )
223
Малдонис Альфонсас (род. в 1930 г.) — литовский поэт.
(обратно )
224
Марцинкявичус Юстинас (род. в 1930 г.) — литовский поэт.
(обратно )
225
Стр. 679.
Эвклид (III в. до н. э.) — древнегреческий математик, работал в Александрии. Оказал огромное влияние на развитие математики. Более строгое изложение системы геометрии было дано только в XIX в.
Лобачевским Николаем Ивановичем (1792–1856), великим русским математиком, создателем неэвклидовой геометрии.
(обратно )
226
Сократ (469–399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.
(обратно )
227
Поцхишвили Морис (род. в 1930 г.) — грузинский поэт.
(обратно )
228
Анко Юрий (1931–1960) — эскимосский поэт.
(обратно )
229
Белшевиц Визма (род. в 1931 г.) — латышская поэтесса.
(обратно )
230
Горбовский Глеб (род. в 1931 г.) — русский поэт.
(обратно )
231
Машбаш Исхак (род. в 1931 г.) — адыгейский поэт.
(обратно )
232
Сумманен Тайсто (род. в 1931 г.) — карельский поэт.
(обратно )
233
Алиева Фазу (род. в 1932 г.) — аварская поэтесса.
(обратно )
234
Дамдинов Николай (род. в 1932 г.) — бурятский поэт.
(обратно )
235
Казакова Римма (род. в 1932 г.) — русская поэтесса.
(обратно )
236
Каноат Мумин (род. в 1932 г.) — таджикский поэт.
(обратно )
237
Стр. 704.
Рудаки Абульхасан (род. в середине IX в. — ум. в 941 г.) — крупнейший ирано-таджикский поэт, родоначальник таджикской литературы.
(обратно )
238
Стр. 706.
Дарваз — Дарвазский хребет в Таджикской ССР.
(обратно )
239
Кунаев Станислав (род. в 1932 г.) — русский поэт.
(обратно )
240
Лапцуй Леонид (род. в 1932 г.) — ненецкий поэт.
(обратно )
241
Рождественский Роберт (род. в 1932 г.) — русский поэт.
(обратно )
242
Цыбин Владимир (род. в 1932 г.) — русский поэт.
(обратно )
243
Араз Мамед (род. в 1933 г.) — азербайджанский поэт.
(обратно )
244
Боцу Павел (род. в 1933 г.) — молдавский поэт.
(обратно )
245
Вациетис Ояр (род. в 1933 г.) — латышский поэт.
(обратно )
246
Вознесенский Андрей (род. в 1933 г.) — русский поэт.
(обратно )
247
Стр. 736–738.
Харон — в послегомеровских преданиях перевозчик, который перевозил души умерших через реки подземного царства.
(обратно )
248
Сервантес де Сааведра Мигель (1547–1616) — великий испанский писатель, автор известного романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
(обратно )
249
Браманте Донато (1444–1514) — крупнейший итальянский архитектор эпохи Возрождения.
(обратно )
250
Ландау Лев Давыдович (1908–1968) — советский физик, академик.
(обратно )
251
Коперник Николай (1473–1543) — великий польский астроном.
(обратно )
252
Дурян Людвиг (род. в 1933 г.) — армянский поэт.
(обратно )
253
Евтушенко Евгений (род. в 1933 г.) — русский поэт.
(обратно )
254
Зиедонис Имант (род. в 1933 г.) — латышский поэт.
(обратно )
255
Карачобан Дмитрий (род. в 1933 г.) — гагаузский поэт.
(обратно )
256
Микаэлян Нансен (род. в 1933 г.) — армянский поэт.
(обратно )
257
Телеукэ Виктор (род. в 1933 г.) — молдавский поэт.
(обратно )
258
Чиладзе Отар (род. в 1933 г.) — грузинский поэт.
(обратно )
259
Щипахина Людмила (род. в 1933 г.) — русская поэтесса.
(обратно )
260
Зумакулова Танзиля (род. в 1934 г.) — балкарская поэтесса.
(обратно )
261
Матвеева Новелла (род. в 1934 г.) — русская поэтесса.
(обратно )
262
Рыскулов Рамис (род. в 1934 г.) — киргизский поэт.
(обратно )
263
Бородулин Рыгор (род. в 1935 г.) — белорусский поэт.
(обратно )
264
Виеру Григоре (род. в 1935 г.) — молдавский поэт.
(обратно )
265
Годжа Фикрет (род. в 1935 г.) — азербайджанский поэт.
(обратно )
266
Дамиан Ливиу (род. в 1935 г.) — молдавский поэт.
(обратно )
267
Олейник Борис (род. в 1935 г.) — украинский поэт. Лауреат Государственной премии СССР.
(обратно )
268
Санги Владимир (род. в 1935 г.) — нивхский поэт.
(обратно )
269
Абылкасымова Майрамкан (род. в 1936 г.) — киргизская поэтесса.
(обратно )
270
Стр. 780.
Арча — среднеазиатский вид можжевельника.
(обратно )
271
Вахидов Эркин (род. в 1936 г.) — узбекский поэт.
(обратно )
272
Ветемаа Энн (род. в 1936 г.) — эстонский поэт.
(обратно )
273
Драч Иван (род. в 1936 г.) — украинский поэт.
(обратно )
274
Стр. 784.
Петрарка Франческо (1304–1374) — выдающийся итальянский поэт, гуманист. Широкую известность получила его «Книга песен», где поэт воспевает любовь и красоту материального мира.
(обратно )
275
Коротич Виталий (род. в 1936 г.) — украинский поэт.
(обратно )
276
Кушнер Александр (род. в 1936 г.) — русский поэт.
(обратно )
277
Стр. 792–793.
Когда тот польский педагог… — Имеется в виду Януш Корчак (наст. имя Генрик Гольдшмит) — писатель, педагог, врач, героически погибший в фашистском лагере смерти вместе со своими воспитанниками в 1942 г.
(обратно )
278
Ирод (73-4 гг. до н. э.) — царь Иудеи. На престол был возведен римлянами.
(обратно )
279
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский философ-мистик.
(обратно )
280
Тристан. — Имеется в виду персонаж французского рыцарского романа бретонского цикла «Тристан и Изольда» о трагической любви Изольды, жены корнуоллского короля, к его племяннику — вассалу Тристану.
(обратно )
281
Плутон — в античной мифологии бог подземного царства.
(обратно )
282
…
элизейские поля (Элизиум) — в греческой мифологии место вечного успокоения душ умерших. Слово «элизиум» — поэтический символ красоты и покоя.
(обратно )
283
Рубцов Николай (1936–1971) — русский поэт.
(обратно )
284
Саакян Арамаис (род. в 1936 г.) — армянский поэт.
(обратно )
285
Сулейменов Олжас (род. в 1936 г.) — казахский поэт.
(обратно )
286
Стр. 806.
Такыр — ровные глинистые пространства в пустынях.
(обратно )
287
Улзытуев Дондок (род. в 1936 г.) — бурятский поэт.
(обратно )
288
Аузинь Имант (род. в 1937 г.) — латышский поэт.
(обратно )
289
Ахмадулина Белла (род. в 1937 г.) — русская поэтесса.
(обратно )
290
Дмитриев Олег (род. в 1937 г.) — русский поэт.
(обратно )
291
Коянто Владимир (род. в 1937 г.) — корякский поэт.
(обратно )
292
Мориц Юнна (род. в 1937 г.) — русская поэтесса.
(обратно )
293
Стр. 821.
Урарту (Ванское царство) — древнее рабовладельческое государство в Закавказье, у озера Ван (IX в. до н. э.).
(обратно )
294
Таврида (Таврика, Таврия) — древнее название Крымского полуострова (от племени тавров).
(обратно )
295
Гиперборейцы — согласно Апполодору (Мифологическая библиотека) — народность.
(обратно )
296
Фирсов Владимир (род. в 1937 г.) — русский поэт.
(обратно )
297
Фокина Ольга (род. в 1937 г.) — русская поэтесса.
(обратно )
298
Шесталов Юван (род. в 1937 г.) — мансийский поэт.
(обратно )
299
Адо Улуро (род. в 1938 г.) — юкагирский поэт.
(обратно )
300
Кымытваль Антонина (род. в 1938 г.) — чукотская поэтесса.
(обратно )
301
Шкляревский Игорь (род. в 1938 г.) — русский поэт.
(обратно )
302
Немтушкин Алитет (род. в 1939 г.) — эвенкийский поэт.
(обратно )
303
Чухонцев Олег (род. в 1939 г.) — русский поэт.
(обратно )
304
Чаклайс Марис (род. в 1940 г.) — латышский поэт.
(обратно )
305
Арипов Абдулла (род. в 1941 г.) — узбекский поэт.
(обратно )
306
Стр. 845.
Хауз — небольшой искусственный водоем.
(обратно )
307
Каплински Яан (род. в 1941 г.) — эстонский поэт.
(обратно )
308
Кузнецов Юрий (род. в 1941 г.) — русский поэт.
(обратно )
309
Шерали Лоик (род. в 1941 г.) — таджикский поэт.
(обратно )
310
Стр. 849.
Курак — недозревшая коробочка хлопка.
(обратно )
311
Стр. 851.
Авиценна (980-1037) — латинизированное имя Ибн Сины Абу-Али — выдающегося философа, врача, естествоиспытателя и поэта народов Средней Азии, таджика по национальности. Оказал большое влияние на средневековую арабскую и европейскую философию.
(обратно )
312
Руммо Пауль Эрик (род. в 1942 г.) — эстонский поэт.
(обратно )
313
Файзуллин Равиль (род. в 1943 г.) — татарский поэт.
Л. Осипова
(обратно )
Оглавление
МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ
(Род. в 1911 г.)
Висячий сад
Перевод В. Державина
Поэту
Перевод С. Липкина
Чего еще ты хочешь?
Перевод С. Липкина
Мать
Перевод Я. Козловского
«Другим стал мир, моя река…»
Перевод Я. Козловского
Крошки хлеба
Перевод С. Липкина
Мой век
Перевод С. Липкина
Вспоминаются юные годы
Перевод С. Липкина
Хранительница огня
Перевод С. Липкина
ЯКОВ УХСАЙ
(Род. в 1911 г.)
Лес Иванова
Перевод П. Градова
Песня про Волгу
Перевод С. Обрадовича
СИБГАТ ХАКИМ
(Род. в 1911 г.)
Берега, берега…
Перевод Р. Морана
«Я знаю, что видел Муса…»
Перевод Р. Кутуя
Хасану Туфану
Перевод Н. Беляева
За песнями своими я летел
Перевод Р. Морана
В лесу подо Ржевом
Перевод Р. Морана
«Вся синь весны вошла в глаза мои…»
Перевод Р. Морана
«Сумерки, Волга…»
Перевод Р. Морана
Первый холм
Перевод Р. Морана
ТАТУЛ ГУРЯН
(1912–1942)
Переводы В. Баласана
Клятва
«Хохочет ли ветер, вздымая песок…»
МИРВАРИД ДИЛЬБАЗИ
(Род. в 1912 г.)
О чем говорят камни
Перевод А. Кронгауза
Красные маки
Перевод А. Кронгауза
Человек
Перевод Г. Регистана
О Русь!
Перевод Г. Регистана
ОЛЫК ИПАЙ
(1912–1943)
Горят лампочки Ильича
Перевод А. Ойслендера
АНДРЕЙ ЛУПАН
(Род. в 1912 г.)
Магистрали
Перевод М. Светлова
Ноша своя
Перевод Ю. Левитанского
Из воспоминаний
Перевод Д. Самойлова
Добро носящий
Перевод К. Ковальджи
АНДРЕЙ МАЛЫШКО
(1912–1970)
«Где ливень бьет крутые волны…»
Перевод В. Шацкова
Дума про астурийца
Перевод Б. Турганова
Июльский день на перекрестке…»
Перевод Б. Турганова
Побратимы
Перевод Б. Турганова
«Бронзовый памятник, сад мой новый…»
Перевод Д. Кедрина
Комсомольский билет
Перевод Я. Смелякова
Гром
Перевод Б. Турганова
«Рано утром расставанье…»
Перевод Б. Турганова
Катюша
Перевод А. Прокофьева
«Нет зависти моей к душе убогой…»
Перевод А. Прокофьева
«Солнцем согретый, дождями сеченный…»
Перевод Б. Турганова
Ты приходишь ко мне…
Перевод Б. Турганова
Поэзия
Перевод А. Прокофьева
МИРСАИД МИРШАКАР
(Род. в 1912 г.)
Он гражданином был
Перевод А. Межирова
Баллада о сути вещей
Перевод С. Липкина
Четверостишия
Переводы Н. Гребнева
Мелодия грядущего
Село
«Нежна ты, тонкостанна и светла…»
Устарело
Пусть остается
Весна настала
Цветок
Наш с тобой мир
ИГОРЬ МУРАТОВ
(1912–1973)
Переводы В. Шацкова
«Как сладко пахнет щедрая земля!..»
«В арку радуги влетела птица серая…»
«И сжалилось, и разразилось…»
ЛЕВ ОШАНИН
(Род. в 1912 г.)
«Кем я был на войне?..»
Дороги
Песня о тревожной молодости
Баллада о безрассудстве
СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ
(Род. в 1912 г.)
Круговорот
«Есть в памяти мгновения войны…»
Триптих
Сыну
«Я возвратился к самому себе…»
Из стихов о Пушкине
МАКСИМ ТАНК
(Род. в 1912 г.)
На косогоре
Перевод Я. Хелемского
«Придем мы, деревня, твои дудари…»
Перевод И. Сельвинского
«Вы спрашиваете…»
Перевод Я. Хелемского
Новая весна
Перевод Д. Самойлова
Я хотел бы…
Перевод Я. Брауна
Поэзия
Перевод А. Прокофьева
Черноморские чайки
Перевод Я. Хелемского
«Я из породы тех, которым любо…»
Перевод Я. Хелемского
«О вас я забочусь, родные края…»
Перевод Я. Хелемского
«Реки печали и радости…»
Перевод А. Прокофьева
Памятник
Перевод А. Прокофьева
Переписка с землей
Перевод Я. Хелемского
«Звезды — раскиданная пахарем пшеница…»
Перевод А. Прокофьева
«Прежде чем вымолвить твое имя, Родина…» Перевод Я. Хелемского
ПЛАТОН ВОРОНЬКО
(Род. в 1913 г.)
Я тот, кто рвал плотины
Перевод М. Комиссаровой
Карпатская песня
Перевод С. Наровчатова
«Когда ты пал на поле боя…»
Перевод А. Прокофьева
Песня ветерана
Перевод М, Исаковского
Нежные имена
Перевод Н. Ушакова
«Ворон ручной благодарно берет…»
Перевод Я. Хелемского
«Степь, в полудреме вздыхая…»
Перевод В. Корчагина
«К могилам — к обелискам и крестам…»
Перевод В. Корчагина
«Да, Дон-Кихот ошибся…»
Перевод В. Корчагина
«Мне в тягость затишье…»
Перевод В. Корчагина
«Костер погас…»
Перевод В. Корчагина
МАРК ЛИСЯНСКИЙ
(Род. в 1913 г.)
Моя Москва
Слава
Настроение
Птицы меня разбудили
«Друг нам дороже брата иногда…»
«Разве я когда-нибудь уйду…»
Что б ни случилось
СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ
(Род. в 1913 г.)
Лист бумаги
А что у вас?
Заяц во хмелю
Лев и ярлык
Слон-живописец
Непьющий воробей
Лиса и Бобер
НУРДИН МУЗАЕВ
(Род. в 1913 г.)
Колышутся маки
Перевод А. Кронгауза
НИГЯР РАФИБЕЙЛИ
(Род. в 1913 г.)
Цветок, раскрывшийся среди руин
Перевод М. Светлова
Афродита
Перевод П. Антокольского
Алагёз
Перевод М. Светлова
БОРИС РУЧЬЕВ
(1913–1973)
Песня о брезентовой палатке
«Всю неоглядную Россию…»
«Когда бы мы, старея год от году…»
«Так сбываются сказки в России…»
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ
(1913–1972)
Кремлевские ели
Памятник
«Если я заболею…»
Милые красавицы России
Хорошая девочка Лида
Мое поколение
Русский язык
Даешь!
Рязанские Мараты
СЕРГЕЙ СМИРНОВ
(Род. в 1913 г.)
Жаворонок
Обратный путь
«Где они, военные дороги?..»
Граница
Поэт и слово
«Стараюсь в Революцию вглядеться…»
Таинства
«Тенелюбивые растенья…»
Ключевая
«Рядовой гражданин…»
«Он стоит уверенно и крепко…»
АЛЕКСАНДР ЯШИН
(1913–1968)
Вологодское новогоднее
Поле
Утром не умирают
Спешите делать добрые дела
Босиком по земле
Перед исповедью
Думалось да казалось…
Последняя глава
ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ
(Род. в 1914 г.)
«Мгновенный мир мы, по нему скользя…»
Перевод Е. Винокурова
Повторится
Перевод Е. Винокурова
«Обнять весь мир…»
Перевод П. Антокольского
Осень
Перевод Е. Винокурова
У матери
Перевод Н. Тихонова
Молодой виноградник
Перевод Н. Заболоцкого
«Лишь ветер подует в дубраве…»
Перевод Н. Заболоцкого
«Пускай безумцем буду я для мира…»
Перевод А. Тарковского
Град
Перевод А. Тарковского
АНВАР АДЖИЕВ
(Род. в 1914 г.)
«Когда Ильич в весенний день…»
Перевод О. Шестинского
ВИКТОР БОКОВ
(Род. в 1914 г.)
«Отыми соловья от зарослей…»
Я видел Русь у берегов Камчатки…»
«Прекрасный подмосковный мудрый лес!..»
Дороховы
Тепло ль тебе?
Микула
БОГДАН ИСТРУ
(Род. в 1914 г.)
«Вскормлен я землей отеческой…»
Перевод В. Соколова
Подсолнух
Перевод В. Соколова
Дали зовут
Перевод Г. Юнакова
АЛИМ КЕШОКОВ
(Род. в 1914 г.)
Переводы Я. Козловского
Поэт со своею посадкой в седле
Со временем в ладу
Подобна ты маю…
Кинжал
«Может сердце поневоле…»
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ
(Род. в 1914 г.)
Моя Беседь
Перевод М. Исаковского
Над братской могилой
Перевод А. Софронова
Березка
Перевод М. Исаковского
Крылья
Перевод А. Твардовского
Коммунисты
Перевод Я. Смелякова
«Покинув берег, первый шторм я встретил…»
Перевод Я. Хелемского
«Я трижды побеждал судьбу…»
Перевод Я. Хелемского
Единственный серп
Перевод Я. Хелемского
АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ
(1914–1948)
Под Выборгом
22 июня 1941 года
Предсказание
Материнские слезы
Долг
ЛЕВ ОЗЕРОВ
(Род. в 1914 г.)
«Тверские льны стоят до небосклона…»
«Вишневый сад белеет в темноте…»
«Люблю старинные ремесла…»
«Всю жизнь я собираюсь жить…»
«На берегу морском лежит весло…»
«Сквозь пламень строк душа пропущена…»
«О тебе я хочу думать…»
«Когда работаю, я плохо верю в смерть…»
«Поэзия — горячий цех…»
«Немо горит в окне огонек…»
«Старухи с письмами поэтов…»
«Серости на белом свете нет…»
«Многословие — род недуга…»
«Ветер бесцветен?..»
AMO САГИЯН
(Род. в 1914 г.)
«Куда вы плывете, усталые тучи…»
Перевод Б. Пастернака
Водопады
Перевод В. Звягинцевой
«В ногах — ущелий бархатистый мох…»
Перевод О. Ивинской
Лист
Перевод Т. Спендиаровой
Ласточки
Перевод О. Ивинской
«Я жизнь благодарю за все…»
Перевод М. Петровых
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ
(Род. в 1914 г.)
«Калинов луг, Козлова засека…»
Звезда
«В дагестанском далеком ауле…»
«Захотелось той зимы…»
ОВАНЕС ШИРАЗ
(Род. в 1914 г.)
«На какой земле в серебре поля…»
Перевод В. Звягинцевой
«Без устали смотрел бы я…»
Перевод Т. Спендиаровой
Орёл и человек
Перевод Е. Николаевской
«Опускается в бездну старости мать…»
Перевод В. Тушновой
Голос поэта
Перевод В. Тушновой
Детство моих сверстников
Перевод Н. Глазкова
Песнь молодости
Перевод В. Тушновой
Любовь поэта
Перевод Л. Гинзбурга
Песня Армении
Перевод Е. Николаевской
Мать
Перевод В. Звягинцевой
«Мне природа бесценное детство дала…»
Перевод В. Тушновой
«Вино — я друг веселой жизни…»
Перевод И. Снеговой
«Мне аромат цветка сказал…»
Перевод В. Звягинцевой
«Мне лучше бы птицей быть…»
Перевод В. Тушновой
«О война! Мы навеки…»
Перевод Т. Казмичевой
«Твори, творец, и помни…»
Перевод Е. Николаевской
ПАВЕЛ ШУБИН
(1914–1951)
В секрете
Полмига
«Утешителям не поверишь…»
МАРГАРИТА АЛИГЕР
(Род. в 1915 г.)
Человеку в пути
«Я хочу быть твоею милой…»
«Люди мне ошибок не прощают…»
На восходе солнца
Двое
«Милые трагедии Шекспира!..»
«Я все плачу — я все плачу…»
По ком звонит колокол
«Несчетный счет минувших дней…»
«Прошу тебя, хоть снись почаще мне…»
«Я вижу в окно человека…»
ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВСКИЙ
(Род. в 1915 г.)
Украине моей
Регулировщица
Родина слышит
«Загадочная русская душа…»
Колючие
Кавалерия мчится
ТЛЕУБЕРГЕН ЖУМАМУРАТОВ
(Род. в 1915 г.)
Ладонь
Перевод Г. Юнакова
Сонеты
Перевод Г. Ярославцева
ЗУЛЬФИЯ
(Род. в 1915 г.)
Здесь родилась я
Перевод В. Державина
Капля
Перевод С. Липкина
Раздумия
Перевод С. Липкина
Не отнимайте у меня пера!
Перевод С. Липкина
Напрасно прожитые мгновенья давят…
Перевод Ю. Нейман
Годы, годы…
Перевод И. Лиснянской
ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ
(1915–1977)
«Песок остылый, бледный…»
Вечереет
С небес
Прости
А думал я…
Учимся
АРОН КОПШТЕЙН
(1915–1940)
Поэты
МАРО МАРКАРЯН
(Род. в 1915 г.)
Богатство
Перевод А. Ахматовой
Снег идет
Перевод М. Петровых
Персиковое деревцо
Перевод А. Ахматовой
В родном краю
Перевод А. Ахматовой
«Ты мир наполнил до краев…»
Перевод В. Потаповой
«Любви несказанное слово…»
Перевод Б. Слуцкого
Чужая весна
Перевод М. Петровых
«Луч на камень лег, пылая…»
Перевод В. Звягинцевой
«Жернов старой, заброшенной мельницы…»
Перевод Б. Слуцкого
«Говорят, что с тобою должна я играть…»
Перевод А. Ахматовой
«От своих тревог и тайной боли…»
Перевод А. Ахматовой
«Написал строчку честную…»
Перевод А. Яшина
«Дуб от ветвей до корневищ…»
Перевод Л. Мартынова
«И в этом мире…»
Перевод Д. Самойлова
«На легком воздухе блестя…»
Перевод Д. Самойлова
«Темнеет полоса багряного заката…»
Перевод М. Петровых
«…Все, как есть, остаться должно…»
Перевод С. Кузнецовой
«Началось с огня…»
Перевод М. Петровых
«Каких-то дней иных…»
Перевод Д. Самойлова
МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ
(Род. в 1915 г.)
Мальчикам
Подмосковные вечера
На безымянной высоте
«Есть сила в немощи самой…»
На Северо-Западном фронте
АЛЫКУЛ ОСМОНОВ
(1915–1950)
Твоя поэма
Перевод И. Селъвинского
Я — корабль
Перевод М. Синельникова
Памятник
Перевод М. Синельникова
КАРА СЕЙТЛИЕВ
(1915–1971)
Переводы А. Кронгауза
Фраги
Человек и время
Человек и тайны
Человек и совесть
КОНСТАНТИН СИМОНОВ
(Род. в 1915 г.)
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»
«Жди меня, и я вернусь…»
«Словно смотришь в бинокль…»
«Если бог нас своим могуществом…»
Хозяйка дома
«Умер друг у меня…»
«Напоминает море — море…»
ЛЮДМИЛА ТАТЬЯНИЧЕВА
(Род. в 1915 г.)
Малахит
Меченые атомы
Сыновья
Гордые
Ей приснилось, что она — Россия
Кони
Не надо одиночества бояться
Молчанье
«Я без Урала не могу…»
ВЕРОНИКА ТУШНОВА
(1915–1965)
Кукла
«Вот говорят: Россия…»
«Сто часов счастья…»
«Осчастливь меня однажды…»
«Человек живет совсем немного…
ВАДИМ ШЕФНЕР
(Род. в 1915 г.)
Детство
Зеркало
Слова
Вещи
Глоток
Переулок памяти
Миг
Ночная ласточка
Ожидание
ТОУШАН ЭСЕНОВА
(Род. в 1915 г.)
Кемине
Перевод А. Кочеткова
Куст винограда
Перевод А. Тарковского
ДЕБОРА ВААРАНДИ
(Род. в 1916 г.)
На пороге Таллина
Перевод В. Рождественского
Весной
Перевод А. Ахматовой
Старый снимок
Перевод Л. Тоома
Тысячелистник
Перевод Д. Самойлова
Утро — отдать садоводу
Перевод А. Ахматовой
«Я знаю — внизу, в голубом тумане…»
Перевод Д. Самойлова
В осенней листве
Перевод Б. Слуцкого
Грусть
Перевод А. Ахматовой
Лимонное дерево
Перевод А. Ахматовой
Грустная песенка
Перевод Л. Миля
Остров
Перевод Л. Миля
МИХАИЛ ДУДИН
(Род. в 1916 г.)
Соловьи
«В моей беспокойной и трудной судьбе…»
Наши песни спеты на войне
Вдогонку уплывающей по Неве льдине
Встречая рассвет
Небольшой девочке Еленке
И нет безымянных солдат
Твоей свободы выстраданный путь
ХАМИД ЕРГАЛИЕВ
(Род. в 1916 г.)
Песня на заре
(Из поэмы)
Перевод В. Савельева
МИХАИЛ ЛЬВОВ
(Род. в 1916 г.)
Дорога на юге
«Я нынче страшным расстояньем…»
«Чтоб стать мужчиной, мало им родиться…»
«Есть мужество, доступное немногим…»
Сон
Высота
У входа в скалат
«Я был убит приснившимся осколком…»
«Как будто я за веком следом ездил…»
«Я ввергнут в жизнь, в волненья, в страсти…»
Россия
«Я начал бурно жизнь…»
РЕВАЗ МАРГИАНИ
(Род. в 1916 г.)
Куда я ни пойду
Перевод М. Луконина
Соль
Перевод М. Луконина
«Светает! И встал над горами туман…»
Перевод Н. Тихонова
Пробуждение
Перевод А. Межирова
«В Сванетии — в торжественном безмолвии…» Перевод Е. Евтушенко
Почему-то припомнилось
Перевод Б. Слуцкого
ЭДИ ОГНЕЦВЕТ
(Род. в 1916 г.)
Мой дом
Перевод Ф. Ефимова
Беларуси
Перевод Н. Кислика
«Полюбил сосну горячий ветер…»
Перевод Ф. Ефимова
ЮСУП ХАППАЛАЕВ
(Род. в 1916 г.)
Переводы Я. Козловского
«Кто лучший воин — даст ответ война…»
О руках и душах
«Прекрасен мир…»
АДАМ ШОГЕНЦУКОВ
(Род. в 1916 г.)
«Зерно не пропадает без следа…»
Перевод Н. Гребнева
Как пахарь и воин
Перевод С. Липкина
Сквозь цепкие кусты…
Перевод М. Петровых
ХАБИБ ЮСУФИ
(1916–1945)
Настало время!
Перевод В. Левика
«…Когда нежданной передышки…»
Перевод М. Фофановой
ДЖЕМАЛДИН ЯНДИЕВ
(Род. в 1916 г.)
Речь горных аулов
Перевод С. Липкина
ХАЛИМАТ БАЙРАМУКОВА
(Род. в 1917 г.)
Переводы Н. Матвеевой
«Думаешь, с криком «ура!»
«Во мне городского…»
МИРЗА ГЕЛОВАНИ
(1917–1944)
Переводы Ю. Полухина
Жди меня
От Мтацминды до Смоленска
Не пиши
СЕМЕН ДАНИЛОВ
(Род. в 1917 г.)
Моя родословная
Перевод А. Николаева
Клятва
Перевод М. Львова
ПЕТРЯ КРУЧЕНЮК
(Род. в 1917 г.)
Ода России
Перевод В. Фирсова
КАЙСЫН КУЛИЕВ
(Род. в 1917 г.)
«Ты ночью родилась, холодною зимой…»
Перевод Д. Голубкова
Девушка с севера
Перевод В. Звягинцевой
Первой весной после войны
Перевод Д. Голубкова
Ночью в ущелье
Перевод Н. Тихонова
«Если цените вы и январь и апрель…»
Перевод Я. Козловского
«Кремень-кремень, и только…»
Перевод Н. Гребнева
«Где-то стонет женщина вдали…»
Перевод Н. Гребнева
«Я знаю вкус меда и соли твоей…»
Перевод Н. Гребнева
«Не я ль ревел подранком-туром…»
Перевод Н. Гребнева
Старинная заповедь
Перевод Н. Гребнева
«Право же, трудно и мне»…»
Перевод С. Липкина
«В мой легкий день я буду вспоминать…»
Перевод С. Липкина
«Ветер кажется мне белым…»
Перевод С. Липкина
«Растет ребенок, плача»…»
Перевод С. Липкина
«Будь я живописцем, там, на скалах…»
Перевод С. Липкина
«Нет, не зря в огне костра пылало…»
Перевод Н. Гребнева
Женщина купается в реке
Перевод Н. Гребнева
«Спасибо вам, мои учителя…»
Перевод Н. Гребнева
«Среди миров огромных и светил…»
Перевод Н. Гребнева
«Я спал в траве однажды…»
Перевод Н. Гребнева
Волы под дождем
Перевод Б. Ахмадулиной
Говорю с чинарой и колосьями
Перевод Б. Ахмадулиной
Сон зимней ночью
Перевод Б. Ахмадулиной
«Что б ни делалось на свете…»
Перевод Б. Ахмадулиной
«Деревья, вы — братья мои…»
Перевод Б. Ахмадулиной
ГРИГОРИЙ ЛАЗАРЕВ
(Род. в 1917 г.)
Девушка из тайги
Перевод И. Фонякова
ПИМЕН ПАНЧЕНКО
(Род. в 1917 г.)
Партизанская весна
Перевод Н. Асеева
Герой
Перевод А. Прокофьева
На родной земле
Перевод М. Светлова
Вечные слова
Перевод Б. Слуцкого
Край поэтов
Перевод Я. Хелемского
«Небо журавлиное, холодное…»
Перевод Я. Хелемского
Даты
Перевод Я. Хелемского
БАГРАТ ШИНКУБА
(Род. в 1917 г.)
Переводы Я. Козловского
«Когда прервется дыханье…»
Мой орех
Капли
ЛЮБОВЬ ЗАБАШТА
(Род. в 1918 г.)
Освободители
Перевод Б. Кежуна
Казацкая
Перевод А. Прокофьева
МИКЛАЙ КАЗАКОВ
(Род. в 1918 г.)
Я иду по столице…
Перевод М. Матусовского
КАСТУСЬ КИРЕЕНКО
(Род. в 1918 г.)
Живу
Перевод Н. Сидоренко
Жажда
Перевод Я. Хелемского
«Лес в ярко-пламенной цвете…»
Перевод А. Корчагина
На стежках былых
Перевод Н. Сидоренко
Ты иль не ты?
Перевод Я. Хелемского
Милый край, моя отчизна
Перевод Н. Сидоренко
Я не в силах остаться один…
Перевод Н. Сидоренко
ПАВЕЛ КОГАН
(1918–1942)
Гроза
Бригантина
(Песня)
«Нам лечь, где лечь…»
МИХАИЛ ЛУКОНИН
(1918–1976)
Приду к тебе
Пришедшим с войны
Товарищам
«Нет памяти у счастья…»
«Из глины он тебя лепил…»
ДЖОРДЖЕ МЕНЮК
(Род. в 1918 г.)
Очарование
Перевод К. Ковальджи
По тропинкам степным
Перевод В. Кочеткова
НАЗАР НАДЖМИ
(Род. в 1918 г.)
Родной деревне
Перевод Е. Николаевской
Капельки
Перевод Е. Аксельрод
ИОСИФ НОНЕШВИЛИ
(Род. в 1918 г.)
Город мечты и поэтов
Перевод В. Соколова
«Ночь поднялась…»
Перевод Н. Тихонова
«Когда мы руки обовьем…»
Перевод А. Вознесенского
«Вот я смотрю на косы твои грузные…»
Перевод Б. Ахмадулиной
Светляки
Перевод Е. Евтушенко
Снова мне в душу весна ворвалась
Перевод Б. Окуджавы
НИКОЛАЙ ОТРАДА
(1918–1940)
Футбол
Мир
НИКОЛАЙ ТРЯПКИН
(Род. в 1918 г.)
«Я уйду за красные туманы…»
Скрип моей колыбели
«Суматошные скрипы ракит…»
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ
(Род. в 1918 г.)
«Имел бы я…»
Рабская кровь
Совесть
«Наше время такое…»
«О Русь моя!..»
«Знакомо, как старинный сказ…»
СИЛЬВА КАПУТИКЯН
(Род. в 1919 г.)
«Нет! Я видеть тебя не хочу!..»
Перевод Л. Мартынова
«В дыму горючем горького прощанья…»
Перевод М. Алигер
«В хрустальной вазе на столе твоем…»
Перевод М. Алигер
«Не подарила жизнь мне стройности…»
Перевод Е. Евтушенко
Любовь к родине
Перевод Б. Окуджавы
«Наверное, меня поймет лишь мать…»
Перевод В. Звягинцевой
Прошлое моего народа
Перевод В. Звягинцевой
«Смеюсь несдержанно и бойко…»
Перевод Б. Окуджавы
Земля
Перевод М. Петровых
«Да, я сказала: «Уходи»…»
Перевод М. Петровых
«Ты писем от меня не жди…»
Перевод М. Петровых
«От своей же силы я устала…»
Перевод И. Лиснянской
«Что ж, торжествуй! Ты одержал победу…»
Перевод И. Лиснянской
Ассирийка
Перевод Б. Ахмадулиной
«Я слабой была, но я сильной была…»
Перевод Б. Ахмадулиной
Остановись, человек!
Перевод Б. Ахмадулиной
МУСТАЙ КАРИМ
(Род. в 1919 г.)
Берега остаются
Перевод И. Снеговой
«Душа бунтует, видя черноту…»
Перевод Е. Николаевской
«Я белый лист кладу перед собой…»
Перевод Е. Николаевской
«Давай, дорогая, уложим скарб и одежду…»
Перевод И. Снеговой
«Под ногами земли ты не чуешь…»
Перевод Е. Николаевской
«Я умному тайну открыл…»
Перевод Е. Николаевской
«Я знал успех, с удачею водился…»
Перевод Е. Николаевской
Птиц выпускаю…
Перевод Е. Николаевской
«Была моя жизнь непрерывной игрой…»
Перевод И. Снеговой
«Ты в этот раз вдоль моря шла ко мне…»
Перевод Е. Николаевской
«Не блещу я…»
Перевод Е. Николаевской
Минувшему — благословенье
Перевод Е. Николаевской
«Я немало тайн природы знаю…»
Перевод Е. Николаевской
МИХАИЛ КИЛЬЧИЧАКОВ
(Род. в 1919 г.)
Баллада о бревнах
Перевод М. Светлова
МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ
(1919–1943)
«Самое страшное в мире…»
«Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!..»
НИКОЛАЙ МАЙОРОВ
(1919–1942)
Август
Творчество
Мы
«Нам не дано спокойно сгнить в могиле…»
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС
(Род. в 1919 г.)
Человек
Перевод Б. Слуцкого
Мысли
Перевод М. Светлова
Распутье
Перевод Р. Казаковой
Лира
Перевод С. Куняева
Камни
Перевод А. Передреева
На темы М. К. Чюрлёниса
Его инициалы
Перевод Ю. Левитанского
Сонет
Перевод Л. Мартынова
Зимняя ночь. Полнолуние
Перевод П. Карпа
Тициан
Перевод Г. Ефремова
Нарцисс
Перевод Л. Миля
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ
(Род. в 1919 г.)
Облака кричат
В те годы
Костер
Пес, девчонка и поэт
Зеленые дворы
О главном
РАЧИЯ ОВАНЕСЯН
(Род. в 1919 г.)
Переводы Е. Николаевской
«И силой, и волей, и честью…»
«О, если трудом ли, уменьем своим…»
«Засушенный красный цветок…»
«В цветении белой метели…»
«О друзья, когда меня не будет…»
«Горы, горы, тоска моя…»
«Солнце к небу льнет майским жуком…»
РАЛЬФ ПАРВЕ
(Род. в 1919 г.)
На перекрестке
Перевод Л. Тоома
Памяти героев
Перевод Вс, Азарова
ЛЕОНИД ПОПОВ
(Род. в 1919 г.)
Переводы А. Преловского
Преданья
Прощание
БОРИС СЛУЦКИЙ
(Род. в 1919 г.)
Госпиталь
Лошади в океане
Голос друга
Памяти товарища
Сон
Старухи без стариков
Физики и лирики
Сбрасывая силу страха
Последнее поколение
ГЕОРГИЙ СУВОРОВ
(1919–1944)
Первый снег
Косач
«Еще утрами черный дым клубится…»
АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ
(1919–1959)
Соловьи
Где же вы теперь, друзья-однополчане?
ГЕВОРГ ЭМИН
(Род. в 1919 г.)
«Я в детстве шел и палкою в пыли…»
Перевод Н. Гребнева
Первая книга
Перевод Л. Мартынова
«Я сам не знаю, что это такое…»
Перевод Б. Слуцкого
Погибшему другу
Перевод Ю. Левитанского
«Ты бы в гости ко мне пришла…»
Перевод В. Звягинцевой
«Тот, кого ты так любишь…»
Перевод Ю. Левитанского
«Я не могу. С меня довольно!..»
Перевод Е. Евтушенко
Грядущему
Перевод Б. Слуцкого
«Будь начеку вблизи высот!..»
Перевод Д. Самойлова
«Я написать хочу слова…»
Перевод М. Петровых
«Я предчувствую…»
Перевод Б. Окуджавы
ВИКТОР ГОНЧАРОВ
(Род. в 1920 г.)
«Мне ворон черный смерти не пророчил…»
«Я скажу, мы не напрасно жили…»
«Дыши огнем, живи огнем…»
«Опять пришла пора дождей…»
«— Эй ты, — мне кричат, — Подорожник!..»
«Вот Перховское озеро…»
ЯАН КРОСС
(Род. в 1920 г.)
«Я — дом пустой…»
Перевод Л. Тоома
«Тот, кто перевидел тыщи…»
Перевод Д. Самойлова
Старый блиндаж
Перевод Л. Тоома
«Паутинок в воздухе паренье…»
Перевод Д. Самойлова
Все-таки она вертится
Перевод Б. Слуцкого
Дождь творит чудеса
Перевод Б. Слуцкого
ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ
(Род. в 1920 г.)
Переводы В. Савельева
«С казахского нелегок перевод…»
Голос во мне
Стих
«Колдунья ты моя…»
«Все юные сердца в одном порыве слиты…»
«Верность клятве и руки, сплетенные туго…»
АЛЕКСЕЙ ПЫСИН
(Род. в 1920 г.)
Авторизованный перевод Глеба Пагирева
В наступлении
Иван-чай
Позывные
«Гул вокзалов. Облака в зените…»
«В сизой мгле над поймою днепровской…»
Зимнее
«Вечерний сад. Под небом сонным…»
«Ветра мои, друзья мои!..»
ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ
(Род. в 1920 г.)
Ночная атака
В конце войны
«Когда под гром фанфарных маршей…»
О маме
Главная книга
ДАВИД САМОЙЛОВ
(Род. в 1920 г.)
«Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал…»
Слова
Сороковые
Старик Державин
«Давай поедем в город…»
Перед снегом
Память
Пестель, поэт и Анна
Выезд
РАМЗ БАБАДЖАН
(Род. в 1921 г.)
«Каждой осенью тянет в дорогу…»
Перевод А. Наумова
«Тихо-тихо дышишь ты во сне…»
Перевод С. Северцева
Новые рубаи
Перевод Н. Грибачева
«Я проснулся на белом рассвете…»
Перевод А. Наумова
«Хочешь — добуду луну с высоты…»
Перевод С. Кузнецовой
«Жизнь мечтами, как чаша, полна…»
Перевод С. Кузнецовой
Индийские напевы
Перевод С. Северцева
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ
(Род. в 1921 г.)
«Душа, чело и вечность…»
Сударка
Не оплавленный снег
Купальщица
Усыновленные слова
ВАСИЛИЙ КУЛЕМИН
(1921–1962)
Творчество
«На наш бульвар лосенок выскочил…»
МИРМУХСИН
(Род. в 1921 г.)
Горсть земли
Перевод Ю. Хазанова
«Ни дня без войн на лучшей из планет…»
Перевод А. Наумова
Руки, побеждающие смерть
Перевод С. Северцева
«Люби начальный свет отчизны…»
Перевод А. Наумова
Земной простор
Перевод С. Северцева
СЕРГЕЙ ОРЛОВ
(Род. в 1921 г.)
На привале
«Кто же первый сказал…»
«Уходит в небо с песней полк…»
Второй
«Это было все-таки со мной…»
«Его зарыли в шар земной…»
«А мы такую книгу прочитали…»
«Руками, огрубевшими от стали…»
БОСЯ САНГАДЖИЕВА
(Род. в 1921 г.)
Тюльпаны
Перевод Н. Матвеевой
ВАСИЛИЙ СУББОТИН
(Род. в 1921 г.)
Стихи
30 апреля 1945 года
Бранденбургские ворота
«На сером фоне разрушений…»
Старатель
Снег
«За горизонт уходит борозда…»
ИВАН ТАРБА
(Род. в 1921 г.)
Молитва
Перевод Я. Козловского
Песня мужа о собственной жене
Перевод Я. Козловского
Земля
Перевод Я. Смелякова
«Как в незаконченной поэме…»
Перевод Я. Смелякова
СУЮНБАЙ ЭРАЛИЕВ
(Род. в 1921 г.)
Я иду
Перевод С. Куняева
«Моим горам, по-моему, подобен…»
Перевод М. Ватагина
АТА АТАДЖАНОВ
(Род. в 1922 г.)
«Не спеши, моя нежная, погоди…»
Перевод А. Тарковского
Письмо
Перевод В. Гончарова
Уединяюсь я…
Перевод Ю, Гордиенко
Песня жаворонка
Перевод А. Кафанова
СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ
(Род. в 1922 г.)
Постоянство
«Авось!»
Новогодний тост в кругу ветеранов
Великой Отечественной войны
Прозрение
Поэт
СЕМЕН ГУДЗЕНКО
(1922–1953)
«Прожили двадцать лет…»
Перед атакой
«Я был пехотой в поле чистом…»
«Мы не от старости умрем…»
«Как без вести пропавших ждут…»
ВААГН ДАВТЯН
(Род. в 1922 г.)
Переводы Е. Николаевской
Армения
«Я сегодня во сне тебя видел, далекую…»
«Седые камни, древние руины…»
Доброе утро
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ
(Род. в 1922 г.)
«Жизни мира, длящейся века…»
Перевод Ю. Нейман
«Когда средь степи — одинок…»
Перевод Ю. Нейман
«Как ты прекрасна, степь моя, в апреле!..»
Перевод Ю. Нейман
«Когда весна — медлительно, не сразу…»
Перевод Ю. Нейман
«Осенний лист на длинном черенке…»
Перевод Ю. Нейман
«Проходят мимо — парами, толпой…»
Перевод Ю. Нейман
Женщина
Перевод Ю. Нейман
«Никто не помнит своего рожденья…»
Перевод Ю. Нейман
Мысль и время
Перевод Ю. Нейман
«Случалось мне старцев калмыков…»
Перевод Ю. Нейман
Скончался мой друг
Перевод Н. Матвеевой
«Я помню прошлое. Я помню…»
Перевод Н. Матвеевой
«Сколько свежести в народном слове…»
Перевод Ю. Нейман
«Я знаю: вечного на свете нет…»
Перевод Ю. Нейман
Боль
Перевод Ю. Нейман
«Перешагнув жестокости предел…»
Перевод Ю. Нейман
«Дайте, дайте первую удачу!..»
Перевод Ю. Нейман
«О жизнь! Когда ты на моем пути…»
Перевод Ю. Нейман
«Приснились джунгли нынче мне во сне…»
Перевод Ю. Нейман
«Бейте, люди, пестрых волков!..»
Перевод Ю. Нейман
«Когда я замечаю с чувством боли…»
Перевод Ю. Нейман
«Когда, о степь! — и впрямь морской стихией…» Перевод Ю. Нейман
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ
(Род. в 1922 г.)
Белая баллада
«Что делать, мой ангел…»
«Всего и надо, что вглядеться…»
«Я люблю эти дни…»
Вступление в книгу «Кинематограф»
Иронический человек
СЫРБАЙ МАУЛЕНОВ
(Род. в 1922 г.)
Открытие книги
Перевод А. Корнеева
«Я, помню, был тогда беспечным малым…»
Перевод М. Луконина
Возле зимовки
Перевод Б. Ахмадулиной
«В свои мысли уходит дорога…»
Перевод В. Лукьянова
Служба мира
Перевод А. Корнеева
Дума
Перевод А. Корнеева
ВЛАДАС МОЗУРЮНАС
(Род. в 1922 г.)
Стебелек
Перевод В. Тушновой
Завещание
Перевод Н. Тихонова
Тракайский замок
Перевод Н. Мальцевой
«Не видел я, как тонут корабли…»
Перевод Н. Мальцевой
«Море волнуется. Волны, как звенья кольчуги…»
Перевод Н. Мальцевой
«Ты говоришь: все погибает в буре…»
Перевод Н. Мальцевой
ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН
(Род. в 1922 г.)
Травы
Два главных цвета
«Не тем, что полстолетья будут сцены…»
«Как я мечтал о письменном столе…»
АРВИД СКАЛБЕ
(Род. в 1922 г.)
Родник
Перевод М. Касаткина
Верба цветет
Перевод М. Касаткина
Осенняя песня
Перевод Л. Азаровой
Малыш и море
Перевод В. Невского
ЮХАН СМУУЛ
(1922–1971)
Майский вечер
Перевод П. Антокольского
ПАСАРБИ ЦЕКОВ
(Род. в 1922 г.)
Как многие реки в одну…
Перевод Л. Епанешникова
ИСААК БОРИСОВ
(1923–1972)
«А миру — что, на самом деле…»
Перевод Ю. Нейман
«Не по приметным звездам небосклона…»
Перевод О. Дмитриева
«И вновь друзья…»
Перевод О. Дмитриева
«Что в то утро знали мы, что знали…»
Перевод В. Соколова
«Помедли, день, — постой, не торопись…»
Перевод А. Кафанова
«С тобою, Время, шел я наравне…»
Перевод Ю. Нейман
«Благословен зеленый замок ваш…»
Перевод Н. Горской
«Твой суд неправедный приемлю…»
Перевод Н. Горской
«В мальчишеском имени — Иче…»
Перевод Н. Горской
«О, если б не было ни в чем обмана…»
Перевод Н. Горской
«Над белым полем крыши…»
Перевод А. Кафанова
АНАТОЛИЙ ВЕЛЮГИН
(Род. в 1923 г.)
Березовый сок
Перевод Я. Хелемского
Поэт
Перевод Н. Кислика
Летняя дорога
Перевод Г. Юнакова
Черемуховые холода
Перевод Я. Хелемского
«А жизнь как будто вся сначала…»
Перевод Я. Хелемского
«Как в полудреме, листопад над сквером…»
Перевод Я. Хелемского
МУСА ГАЛИ
(Род. в 1923 г.)
Переводы Е. Николаевской
«Круглые вещи люблю я — не скрою…»
«Когда в дальний пускаюсь я путь…»
РАСУЛ ГАМЗАТОВ
(Род. в 1923 г.)
«Изрек пророк…»
Перевод Я. Козловского
«— Скажи, каким огнем был рад…»
Перевод Я. Козловского
Если в мире тысяча мужчин…
Перевод Я. Козловского
Песня про сокола с бубенцами
Перевод Я. Козловского
Голова Хаджи-Мурата{173}
Перевод Я. Козловского
«…И на дыбы скакун не поднимался…»
Перевод Я. Козловского
«С годами изменяемся немало…»
Перевод Я. Козловского
Журавли
Перевод Н. Гребнева
Берегите друзей
Перевод Н. Гребнева
Восьмистишия
Перевод Я. Гребнева
НИКОЛАЙ ДОРИЗО
(Род. в 1923 г.)
Где родился Руставели
«Моя любовь — загадка века…»
Накануне
Бабушка
Строки о времени
«О, как ты поздно…»
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ
(Род. в 1923 г.)
Коммунисты, вперед!
Десантники
«Мы под Колпином скопом стоим…»
Музыка
Прощание со снегом
Баллада о цирке
ГИЛЕМДАР РАМАЗАНОВ
(Род. в 1923 г.)
Одно слово
Перевод М. Дудина
Поэзия
Перевод Д. Седых
ХУТА БЕРУЛАВА
(Род. в 1924 г.)
Ленину
Перевод А. Межирова
В детстве
Перевод Б. Окуджавы
Поэзия
Перевод Б. Окуджавы
Картина на слоновой кости
Перевод Б. Окуджавы
Старый мотив
Перевод С. Куняева
Портрет друга
Перевод Е. Винокурова
НАФИ ДЖУСОЙТЫ
(Род. в 1924 г.)
Переводы Я. Козловского
«Человеческое сердце…»
Тайная молитва
ЮЛИЯ ДРУНИНА
(Род. в 1924 г.)
«Я только раз видала рукопашный…»
Любовь
Наше-нам!
Прощание
Перед закатом
САЛЕХЖАН ЗАЛЕНДИН
(Род. в 1924 г.)
Сады
Перевод Н. Капиевой
АННА КАЛАНДАДЗЕ
(Род. в 1924 г.)
«Тень яблони…»
Перевод Б. Ахмадулиной
«Двух миров я граница…»
Перевод Е. Николаевской
Мравалжамиер{185}
Перевод Б. Ахмадулиной
«Вы в сердце скал…»
Перевод Е. Николаевской
«Кто б это вынес…»
Перевод Е. Николаевской
Окрестности храма Кинцвиси поздней осенью
Перевод Е. Николаевской
ПАРУЙР СЕВАК
(1924–1971)
«Твоя незрелая любовь…»
Перевод Д. Самойлова
В жизни встречаемся мы случайно
Перевод О. Чухонцева
Анализ тоски
Перевод Юнны Мориц
Секретарь бога
Перевод В. Микушевича
Жизнь поэта
Перевод О. Чухонцева
Корни
Перевод Д. Самойлова
На языке телеграфа
Перевод В. Микушевича
Как високосный год
Перевод Юнны Мориц
«Я слышу розы красной крик…»
Перевод Д. Самойлова
Язык воды
Перевод Д. Самойлова
Изнанка
Перевод В. Микушевича
ВЛАДИМИР СОЛОУХИН
(Род. в 1924 г.)
Дождь в степи
Солнце
Ястреб
НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ
(Род. в 1924 г.)
«Ракет зеленые огни…»
«Солдаты мы…»
«Зловещим заревом объятый…»
«И вот в свои семнадцать лет…»
Я был когда-то ротным запевалой…
Пою любовь
ВЛАДИМИР ТУРКИН
(Род. в 1924 г.)
В окопе
Ввысь!
«Есть стихи — как строение…»
«Надо сразу старым бы родиться…»
«Мне все больней с тобой встречаться…»
«Мне чувствовать не часто выпадало…»
НАБИ ХАЗРИ
(Род. в 1924 г.)
Радуга
Перевод В. Луговского
Горы
Перевод Е. Евтушенко
«Легли меж нами длинные дороги…»
Перевод Е. Винокурова и В. Соколова
Облака
Перевод Е. Евтушенко
В ожидании стиха
Перевод Н. Гребнева
Вселенная моя
Перевод Н. Гребнева
Ты и я
Перевод А. Передреева
Если бы я забыл…
Перевод А. Передреева
Таинственный поезд
Перевод А. Передреева
ОТАР ЧЕЛИДЗЕ
(Род. в 1924 г.)
Однодневный памятник
Перевод Е. Винокурова
Баллада о Бештау
Перевод Е. Евтушенко
За окном
Перевод Б. Окуджавы
Уличные часы
Перевод В. Лугового
БАХТИЯР ВАГАБЗАДЕ
(Род. в 1925 г.)
Переводы В. Лугового
«Радуга жизни моей…»
Славословие ночи
Горный поток
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН
(Род. в 1925 г.)
Ранний час
Я люблю тебя, жизнь
«Я был суров, я все сгущал…»
«Под взглядом многих скорбных глаз…»
«Трус притворился храбрым на войне…»
«Гудок трикратно ухает вдали…»
«Я спал на свежем клевере, в телеге…»
«В поэзии — пора эстрады…»
«А утвержденья эти лживы…»
К портрету
«Мы помним факты и событья…»
«Эти крыши на закате…»
«Не ожидала никак…»
«На том же месте много раз…»
Спичка
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ
(Род. в 1925 г.)
«Мы из столбов и толстых перекладин…»
«В полях за Вислой сонной…»
Синева
Моя любимая стирала
«Кто только мне советов не давал!..»
«Художник, воспитай ученика…»
Поэма о движении
«Крестились готы…»
«Боюсь гостиниц. Ужасом объят…»
Когда не раскрывается парашют
Она
Не плачь
Пророк
Отчий дом
СООРОНБАЙ ДЖУСУЕВ
(Род. в 1925 г.)
Я — комуз
Перевод Ю. Гордиенко
Стригунок
Перевод А. Кафанова
ДАМБА ЖАЛСАРАЕВ
(Род. в 1925 г.)
«Все не так, на твой взгляд…»
Перевод В. Виноградова
«Планеты все, знакомиться нам время…»
Перевод М. Львова
МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ
(Род. в 1925 г.)
Родине
Перевод В. Соколова
Научи меня, век…
Перевод Б. Окуджавы
«Мысль странная преследует меня…»
Перевод Б. Ахмадулиной
Монолог Бараташвили{200}
Перевод Д. Самойлова
Море
Перевод А. Тарковского
«Друг на друга гневно наползали…»
Перевод А. Межирова
Поэзия
Перевод Д. Самойлова
«Человек — это след…»
Перевод Д. Самойлова
«Я жаден до людей!..»
Перевод Е. Винокурова
АНДРЕЙ ПАССАР
(Род. в 1925 г.)
Две бабушки
Перевод Н. Старшинова
ФРИДОН ХАЛВАШИ
(Род. в 1925 г.)
«Ничего я больше не любил…»
Перевод Cm. Куняева
Зрелость стиха
Перевод К. Симонова
Лето
Перевод Ю. Левитанского
«Опять дрожат стручки фасоли на ветру…»
Перевод В. Соколова
Форели
Перевод Cm. Куняева
«На рассвете, едва лишь связал я…»
Перевод Ю. Левитанского
ЕГОР ИСАЕВ
(Род. в 1926 г.)
Про тягловую реку
ПЕТРУ ЗАДНИПРУ
(1927–1976)
Русская зима
Перевод Я. Смелякова
РАИСА АХМАТОВА
(Род. в 1928 г.)
Переводы И. Озеровой
«Ну, нет! мне хватит суток черных!..»
«Разлуки нет…»
«В сентябре желтеют травы…»
«Я не гадаю: любит — не любит…»
«Мне муторно, мне так сегодня муторно…»
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ
(Род. в 1928 г.)
В Эрмитаже
«В этом доме, где дух кофейный…»
«Пусть не на что мне опереться…»
РАШИД РАШИДОВ
(Род. в 1928 г.)
Переводы Я. Козловского
«Высекавшего огонь…»
Суровая песня
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ
(Род. в 1928 г.)
Венок
«Нет сил никаких улыбаться…»
Чужая книга
Вагон
«И самый юный в мире дождь…»
«Черные ветки России…»
Памяти Афанасия Фета
«Упаси меня от серебра…»
ГУЛЧЕХРА СУЛЕЙМАНОВА
(Род. в 1928 г.)
Переводы Т. Стрешневой
Воздушный змей
В поле
ВЛАДИМИР БЭЭКМАН
(Род. в 1929 г.)
Девушки моих школьных вечеров
Перевод А. Ревича
Белые снега
Перевод Юнны Мориц
Мироздания
Перевод Юнны Мориц
КЕРИМ КУРБАННЕПЕСОВ
(Род. в 1929 г.)
Переводы О. Дмитриева
Старик
В горах
ШОТА НИШНИАНИДЗЕ
(Род. в 1929 г.)
«Вон человек повис на костылях…»
Перевод М. Синельникова
Амазонки
Перевод Cm. Куняева
Камень
Перевод М. Синельникова
«Гибли вы — на войне, на дуэли…»
Перевод В. Леоновича
Судьба
Перевод М. Синельникова
ДМИТРО ПАВЛЫЧКО
(Род. в 1929 г.)
Воспоминание
Перевод П. Жура
«Зачем ты мной пренебрегаешь…»
Перевод Н. Брауна
«Я от земли неотделим…»
Перевод П. Жура
«Поэзия, назначено тебе…»
Перевод С. Ботвинника
«Люблю я жизни быстрину…»
Перевод П. Жура
Разговор с Каменяром{214}
Перевод П. Жура
«Сквозь униженья дым она прошла…»
Перевод Л. Хаустова
«Летят по полю белы кони…»
Перевод Вс. Рождественского
«Снег летит, как день, как век…»
Перевод А. Корчагина
«Зима, словно античный храм…»
Перевод Н. Брауна
«Заходит солнце в золотых лесах…»
Перевод Л. Смирнова
АГНЕССА РОШКА
(Род. в 1929 г.)
Переводы Т. Стрешневой
Горный камень
«Я пред тобой замру без слов…»
ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ
(Род. в 1929 г.)
«Пахнет темная чаща…»
Друзьям, павшим на Ладоге
«Матери бессонны…»
«Без березы не мыслю России…»
«Куда соловей исчезает…»
На могиле А. П. Керн{217}
Матери
«Задумайтесь: это ведь счастье…»
«Время от времени нужно…»
ИБРАГИМ ЮСУПОВ
(Род. в 1929 г.)
Мухаллес{219}
Перевод Г. Ярославцева
Арба славы
Перевод Р. Казаковой
АЛЬГИМАНТАС БАЛТАКИС
(Род. в 1930 г.)
«Я ухожу, как корабли уходят…»
Перевод Б. Окуджавы
Быки моста
Перевод Б. Слуцкого
Окна
Перевод Д. Самойлова
Волшебная трава
Перевод Н. Мальцевой
Память
Перевод В. Шацкова
ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ
(Род. в 1930 г.)
Наше время
АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН
(Род. в 1930 г.)
Береза
Утиные Дворики
«О Родина! В неярком блеске…»
«Вот и снова мне осень нужна…»
Ирине
«Осень, опять начинается осень…»
«Ржавые елки на старом кургане стоят…»
«Ты о чем звенишь, овес…»
«Мелкий кустарник, — сырая осина…»
АЛЬФОНСАС МАЛДОНИС
(Род. в 1930 г.)
Неринга
Перевод Д. Самойлова
Начало рек
Перевод Cm. Куняева
Самое дорогое
Перевод Cm. Куняева
Перевод Н. Мальцевой
Середина зимы
Перевод Ю. Левитанского
ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧУС
(Род. в 1930 г.)
Переводы А. Межирова
Стена
Поэма города
(Отрывок)
Кровь и пепел
Героическая поэма
(Отрывок)
МОРИС ПОЦХИШВИЛИ
(Род. в 1930 г.)
Исповедь сердца
Перевод В. Сергеева
«Сколько я должен страдать…»
Перевод Ю. Ряшенцева
Жизнь
Перевод Ю. Ряшенцева
Стремление
Перевод В. Луговского
«Последнее стихотворенье…»
Перевод А. Цыбулевского
ЮРИЙ АНКО
(1931–1960)
Партия Ленина
Перевод В. Португалова
ВИЗМА БЕЛШЕВИЦ
(Род. в 1931 г.)
Черный вечер
Перевод В. Тушновой
Алые паруса
Перевод В. Тушновой
Облако
Перевод Д. Самойлова
«Море, спаси меня, я тону!..»
Перевод Н. Мальцевой
«Я горе выкричать могу корявой сливе…»
Перевод Л. Осиповой
«Отлив житейский отступает в пене…»
Перевод Д. Самойлова
«Знакомый, прости меня…»
Перевод Л. Осиповой
Созвездие Гончих Псов
Перевод Л. Осиповой
ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ
(Род. в 1931 г.)
«Не плачь ты, осень, безутешно…»
Старая пластинка
Рубежи
ИСХАК МАШБАШ
(Род. в 1931 г.)
Самшитовая трубка
Перевод Л. Бахаревой
ТАЙСТО СУММАНЕН
(Род. в 1931 г.)
Сон
Перевод Т. Стрешневой
ФАЗУ АЛИЕВА
(Род. в 1932 г.)
«Ты мне сказал…»
Перевод И. Лиснянской
НИКОЛАЙ ДАМДИНОВ
(Род. в 1932 г.)
Сосна
Перевод Б. Окуджавы
РИММА КАЗАКОВА
(Род. в 1932 г.)
«Из первых книг, из первых книг…»
«Россию делает береза…»
«Мой рыжий, красивый сын…»
«Быть женщиной — что это значит?..»
«Писатели, спасатели…»
МУМИН КАНОАТ
(Род. в 1932 г.)
Наша правда
Перевод С. Липкина
Огонь любви
Перевод С. Липкина
Трибуна мира
Перевод С. Липкина
Мое наследство
Перевод С. Липкина
Таджикский язык
Перевод С. Липкина
Утренний родник
Перевод О. Дмитриева
СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ
(Род. в 1932 г.)
«Непонятно, как можно покинуть…»
«Сквозь слезы на глазах…»
«От Великой ГЭС до Усть-Илима…»
«Облака плывут в Афганистан…»
«Цокот копыт на дороге…»
«Увидеть родину весной…»
«Живем мы не долго…»
«Добро должно быть с кулаками…»
ЛЕОНИД ЛАПЦУЙ
(Род. в 1932 г.)
Время
Перевод Л. Чикина
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
(Род. в 1932 г.)
Таежные цветы
Подкупленный
«На Земле безжалостно маленькой…»
«— Отдать тебе любовь?..»
Баллада о красках
ВЛАДИМИР ЦЫБИН
(Род. в 1932 г.)
Сказочное
Последняя солдатка
Дожди
Люби
МАМЕД АРАЗ
(Род. в 1933 г.)
Переводы В. Проталина
Гордость поэта
«Не миновать и мне…»
ПАВЕЛ БОЦУ
(Род. в 1933 г.)
Пороги
Перевод В, Солоухина
Берез белоствольные арфы…
Перевод К. Ковальджи
К Молдавии
Перевод К. Ковальджи
ОЯР ВАЦИЕТИС
(Род. в 1933 г.)
«В этом доме…»
Перевод Д. Самойлова
Баллада о синем ките
Перевод А. Ревича
Старая гейша
Перевод Л. Осиповой
Песня
Перевод А. Ревича
«Я полюбил тебя…»
Перевод Л. Азаровой
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ
(Род. в 1933 г.)
Гойя
Осень в Сигулде
Тишины!
Плач по двум нерожденным поэмам
Тоска
Ностальгия по настоящему
ЛЮДВИГ ДУРЯН
(Род. в 1933 г.)
Наши песни
Перевод Л. Халифа
Костер поэта
Перевод М. Синельникова
«Лирою я ответил на голос…»
Перевод М. Синельникова
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО
(Род. в 1933 г.)
Свадьбы
«Со мною вот что происходит…»
Подранок
Граждане, послушайте меня…
Любимая, спи…
ИМАНТ ЗИЕДОНИС
(Род. в 1933 г.)
Мед течет в море
Перевод Юнны Мориц
«Я не нуждаюсь в пожеланьях благ…»
Перевод В. Шацкова
ДМИТРИЙ КАРАЧОБАН
(Род. в 1933 г.)
Из прошлого
Перевод Ю. Левитанского
НАНСЕН МИКАЭЛЯН
(Род. в 1933 г.)
Жизнь
Перевод А. Кафанова
Абрикосы расцвели
Перевод Б. Слуцкого
ВИКТОР ТЕЛЕУКЭ
(Род. в 1933 г.)
Пролог к биографии
Перевод П, Пархомовского
«Вот колодец, жаворонок…»
Перевод К. Ковальджи
ОТАР ЧИЛАДЗЕ
(Род. в 1933 г.)
«Растаял год бесследной тенью…»
Перевод М. Синельникова
До разлуки
Перевод Б. Ахмадулиной
«Светоносные сумерки…»
Перевод В. Леоновича
«Кура плеснет воды и рыбы…»
Перевод Юнны Мориц
ЛЮДМИЛА ЩИПАХИНА
(Род. в 1933 г.)
«Цветенье сладкого левкоя…»
ТАНЗИЛЯ ЗУМАКУЛОВА
(Род. в 1934 г.)
Горские поэтессы
Перевод Н. Гребнева
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА
(Род. в 1934 г.)
Дома без крыш
Следы
Старинные корабли
К музе комедии
РАМИС РЫСКУЛОВ
(Род. в 1934 г.)
Россия
Перевод В. Сикорского
РЫГОР БОРОДУЛИН
(Род. в 1935 г.)
Камни Брестской крепости
Перевод И. Бурсова
Я — сын земли
Перевод Ф. Ефимова
О моем языке
Перевод Ф. Ефимова
ГРИГОРЕ ВИЕРУ
(Род. в 1935 г.)
«Когда родился я, на лбу моем…»
Перевод Я. Акима
Пересадка сердца
Перевод Ю. Кожевникова
Наш дом
Перевод Ю. Кожевникова
Ты
Перевод Я. Акима
Я взял у матери…
Перевод Ю. Кожевникова
Слово «мама»
Перевод Ю. Кожевникова
ФИКРЕТ ГОДЖА
(Род. в 1935 г.)
Переводы В. Проталина
Родная моя деревня
Моя свобода
ЛИВИУ ДАМИАН
(Род. в 1935 г.)
Переводы Ю. Кожевникова
Чтоб писать
Утро белоснежно
БОРИС ОЛЕЙНИК
(Род. в 1935 г.)
Похороны учителя
Перевод Н. Ушакова
«Ты — звездою… А я — кленом…»
Перевод Л. Смирнова
Белая мелодия
Перевод В. Шацкова
ВЛАДИМИР САНГИ
(Род. в 1935 г.)
«Я северянин. Нивх…»
Перевод автора
МАЙРАМКАН АБЫЛКАСЫМОВА
(Род. в 1936 г.)
«Аил мой милый… Дикая природа…»
Перевод Р. Казаковой
ЭРКИН ВАХИДОВ
(Род. в 1936 г.)
Переводы А. Наумова
Башня
Родник
ЭНН ВЕТЕМАА
(Род. в 1936 г.)
Вопрос о лошадке-качалке
Перевод В. Шацкова
ИВАН ДРАЧ
(Род. в 1936 г.)
Переводы В. Шацкова
Баллада о золотой луковице
Лебединый этюд
Калина
Девичьи пальцы
Баллада любви
Сонет
(Подражание Петрарке)
ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ
(Род. в 1936 г.)
«Тем спасибо…»
Перевод Н. Ушакова
Песня
Перевод Юнны Мориц
«Поведай-ка, трава…»
Перевод Юнны Мориц
Осень
Перевод Юнны Мориц
Ты
Перевод Е. Винокурова
Освобождение
Перевод Е. Витковского
АЛЕКСАНДР КУШНЕР
(Род. в 1936 г.)
«Когда тот польский педагог…»
«Четко вижу двенадцатый век…»
«Сентябрь выметает широкой метлой…»
«О слава, ты так же прошла за дождями…»
«Кто-то плачет всю ночь…»
Кружево
НИКОЛАЙ РУБЦОВ
(1936–1971)
Добрый Филя
Тихая моя родина
Прощальная песня
Звезда полей
АРАМАИС СААКЯН
(Род. в 1936 г.)
Переводы Е. Николаевской
Люди
Ереван
Красота
«Хотел бы я от кочек и колдобин…»
ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ
(Род. в 1936 г.)
Жара
Айналайн
«Эдуард Багрицкий птиц любил…»
Разлив
Круглая звезда
«Я видел, как лебедь подался на юг…»
ДОНДОК УЛЗЫТУЕВ
(Род. в 1936 г.)
Переводы Е. Евтушенко
Из цикла «Пятнадцать песен»
«Я слышал однажды в бурятской степи…»
«Камушек в речку кидаю…»
ИМАНТ АУЗИНЬ
(Род. в 1937 г.)
Переводы В. Андреева
«Безлиственные, серые аллеи…»
Конфеты, печенье, серебряные бумажки
Непреходящее
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА
(Род. в 1937 г.)
Газированная вода
Мотороллер
«Влечет меня старинный слог…»
Слово
Уроки музыки
Молоко
Мазурка Шопена
ОЛЕГ ДМИТРИЕВ
(Род. в 1937 г.)
«Старикам остаются закаты…»
Постижение
Воспоминание о Полине
ВЛАДИМИР КОЯНТО
(Род. в 1937 г.)
Родник
Перевод автора
ЮННА МОРИЦ
(Род. в 1937 г.)
Рождение крыла
Южный рынок
Античная картина
«В серебряном столбе…»
О жизни,
о жизни и только о ней!
ВЛАДИМИР ФИРСОВ
(Род. в 1937 г.)
«В моей крови гудит набат веков…»
Памяти Сергея Есенина
Первый учитель
ОЛЬГА ФОКИНА
(Род. в 1937 г.)
Родина
Утренняя песенка
Розовое мыло
Родник
ЮВАН ШЕСТАЛОВ
(Род. в 1937 г.)
«В морозной свежести земля…»
Перевод М. Дудина
Лирическое отступление
(Из «Языческой поэмы»)
Перевод В. Фалея
УЛУРО АДО
(Род. в 1938 г.)
«Посмотрите, люди Земли…»
Перевод Г. Плисецкого
АНТОНИНА КЫМЫТВАЛЬ
(Род. в 1938 г.)
Звезда
Перевод В. Португалова
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ
(Род. в 1938 г.)
Пророк
«Два облака белых плывут по лазури…»
АЛИТЕТ НЕМТУШКИН
(Род. в 1939 г.)
Песня девушки на рассвете
Перевод А. Сорокина
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ
(Род. в 1939 г.)
«Душа чему-то противостоит…»
«…и дверь впотьмах привычную толкнул…»
МАРИС ЧАКЛАЙС
(Род. в 1940 г.)
День укропа
Перевод В. Микушевича
Песенка про Дон-Кихота
Перевод Н. Мальцевой
«Будешь плакать, коли с юных лет…»
Перевод В. Микушевича
АБДУЛЛА АРИПОВ
(Род. в 1941 г.)
«— Проснись скорей…»
Перевод Н. Гребнева
Поэт
Перевод Н. Гребнева
«Благословенно прожитое мною…»
Перевод Н. Гребнева
Золотая рыбка
Перевод А. Наумова
ЯАН КАПЛИНСКИ
(Род. в 1941 г.)
Песня о жизни и смерти
Перевод В. Шацкова
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ
(Род. в 1941 г.)
Отцу
Гимнастерка
ЛОИК ШЕРАЛИ
(Род. в 1941 г.)
Песня труду
Перевод И. Лиснянской
Относительно споров вокруг Авиценны
Перевод Cm. Куняева
«Если с неба падает звезда…»
Перевод Cm. Куняева
ПАУЛЬ-ЭРИК РУММО
(Род. в 1942 г.)
Встретились путник и куст
Перевод В. Шацкова
РАВИЛЬ ФАЙЗУЛЛИН
(Род. в 1943 г.)
Переводы Р. Кутуя
«Когда звезда моей жизни…»
Мой язык
Булгары
Указатель имен
*** Примечания *** 
















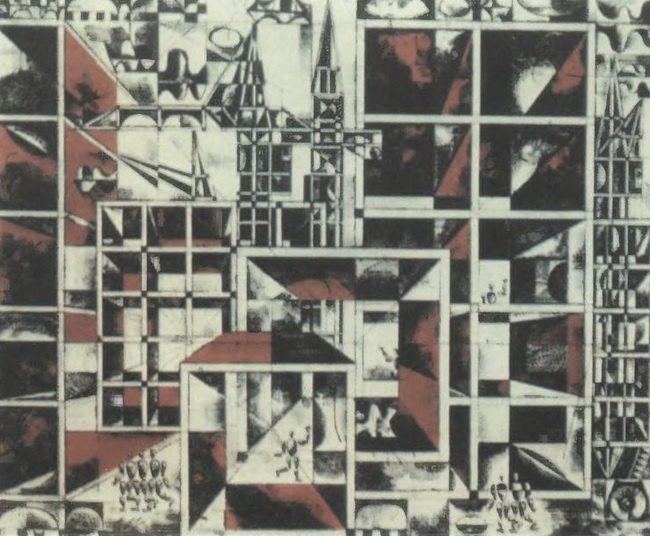


Последние комментарии
7 часов 12 минут назад
16 часов 4 минут назад
16 часов 7 минут назад
2 дней 22 часов назад
3 дней 2 часов назад
3 дней 4 часов назад