Шерлок Холмс в России [Василий Васильевич Розанов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
ШЕРЛОК ХОЛМС В РОССИИ Антология русской шерлокианы первой половины ХХ века Том 3
Шерлок, придавший логике прелесть грезы, Шерлок, составивший монографию о пепле всех видов сигар и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу…В. Набоков, «Защита Лужина»

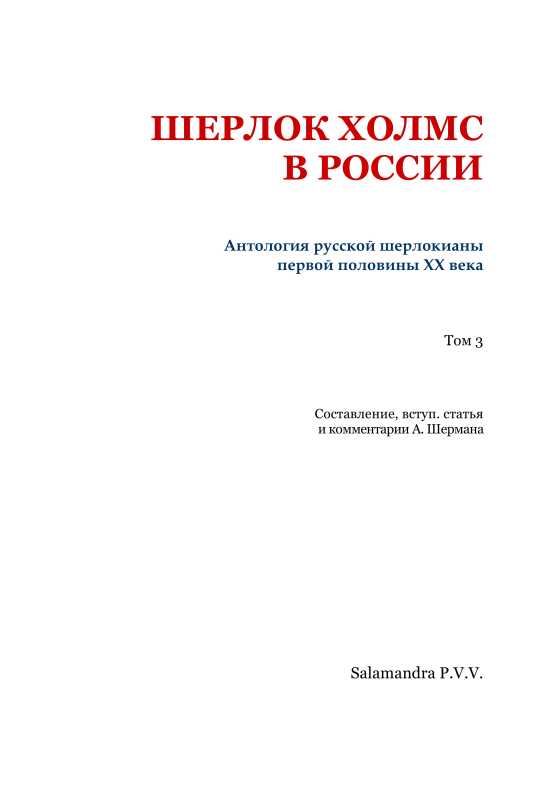
 Дело канадских грабителей
Юмор и сатира
Дело канадских грабителей
Юмор и сатира
Аркадий Аверченко ПРОПАВШАЯ КАЛОША ДОББЛЬСА (Соч. А. Конан-Дойля)
Мы сидели в своей уютной квартирке на Бэкер-стрит в то время, когда за окном шел дождь и выла буря. (Удивительно: когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись…) Итак, по обыкновению, выла буря, Холмс, по обыкновению, молча курил, а я, по обыкновению, ожидал своей очереди чему-нибудь удивиться. — Ватсон, я вижу — у тебя флюс. Я удивился: — Откуда вы это узнали? — Нужно быть пошлым дура ком, чтобы не заметить этого! Ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком. — Поразительно!! Этакая наблюдательность. Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и полонез Васко-де-Гама. Когда он заканчивал 39-ю симфонию Юлия Генриха Циммермана[1], в комнату с треском ввалился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью. — Г. Холмс! Я Джон Бенгам… Ради Бога, помогите! У меня украли… украли… Ах! страшно даже вымолвить… Слезы затуманили его глаза. — Я знаю, — хладнокровно сказал Холмс. — У вас украли фамильные драгоценности. Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока. — Как вы сказали? Фамильные… что? У меня украли мои стихи. — Я так и думал! Расскажите обстоятельства дела. — Какие там обстоятельства! Просто я шел по Трафальгар-скверу и, значит, нес их, стихи-то, под мышкой, а он выхвати да бежать! Я за ним, а калоша и соскочи у него. Вор-то убежал, а калоша — вот. Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и наконец, откусивши кусок, с трудом разжевал его и проглотил. — Теперь я понимаю! — радостно сказал он. Мы вперили в него взоры, полные ожидания. — Я понимаю… Ясно, что эта калоша — резиновая! Изумленные, мы вскочили с кресел. Я уже немного привык к этим блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения, но на гостя такое проникновение в суть вещей страшно подействовало. — Господи помилуй! Это колдовство какое-то! По уходе Бенгама мы помолчали. — Знаешь, кто это был? — спросил Холмс. — Это мужчина, он говорит по-английски, живет в настоящее время в Лондоне. Занимается поэзией. Я всплеснул руками: — Холмс! Вы сущий дьявол. Откуда же вы все это знаете? Холмс презрительно усмехнулся. — Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор — несомненно, мужчина! — Да какая же сорока принесла вам это на хвосте? — Ты обратил внимание, что калоша мужская? Ясно, что женщины таких калош носить не могут! Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь день как дурак. Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке. Подобно Богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии. Кончивши элегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микельанджело и на половине этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне: — Ну, Ватсон — собирайся! Я таки нащупал нить этого загадочного преступления. Мы оделись и вышли. Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция «Таймса». Мы прошли прямо к редактору. — Сэр, — сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы. — Если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи — задержите его и сообщите мне. Я всплеснул руками: — Боги! Как это просто… и гениально. После «Таймса» мы зашли в редакцию «Дэли-Нью», «Пель-Мель» и еще в несколько. Все получили предупреждение. Затем мы стали выжидать. Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являлся. Но однажды, когда выла буря и бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату, забрызганный грязью. — Холмс, — сказал неизвестный грубым голосом. — Я — Доббльс. Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгар-сквере калошу — я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой белиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски. — Ну, мы эти штуки знаем, любезный, — пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол. Но Доббльс прыгнул к дверям и, бросивши в лицо Шерлока рукопись, как метеор скатился с лестницы и исчез. Другую калошу мы нашли после в передней. Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош, но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным. Кроме этого преступления, Холмс открыл и другие, может быть, более интересные, но я рассказал о пропавшей калоше Доббльса как о деле, наиболее типичном для Шерлока.
 Доктор Саперлипопет
ШЕРЛОК ХОЛЬМС
(Их тайных документов знаменитого сыщика)
Доктор Саперлипопет
ШЕРЛОК ХОЛЬМС
(Их тайных документов знаменитого сыщика)
Великий сыщик, гроза всех преступников, сидел в своем рабочем кабинете и задумчиво ковырял в носу. Ватсон, развалившись у камина — читал Ната Пинкертона.
— Как можно писать такие небылицы? — вдруг заговорил Ватсон. Хольмс встал. Пристально посмотрел на своего закадычного друга и, цедя сквозь зубы, начал:
— Да, милый доктор, бывают такие случаи в практике, которое не в состоянии описать словами.
— Расскажите, расскажите, милый Хольмс, это, вероятно, очень интересно, — перебил его Ватсон.
— Извольте, дорогой доктор, — улыбнулся Хольмс и закурил свою трубку. Когда совершилось убийство лорда Катогана, Мариани[2] на другой день явился ко мне в костюме старухи. Я, конечно, сейчас же обнаружил дерзкий обман и бросился, чтобы надеть ему наручники. Гениальный Мариани, с быстротою молнии, выскочил в камин и через минуту был уже на крыше. Я не отставал ни на шаг. Вдруг мы услышали над головами шум, подняли головы и увидели громадный аэроплан. Мариани, не задумываясь, выстрелил и несчастный авиатор, как подстреленная птица, свалился на крышу. Мариани одним прыжком был на месте авиатора. Я, не желая, чтобы он ускользнул, схватился за левое крыло и оба мы поднялись высоко над Лондоном. Но злой Мариани твердо решил покончить со мною расчеты: он быстро выхватил из потайного кармана динамитную бомбу и бросил ее в меня. Я ловко увернулся, бомба попала в пропеллер, раздался взрыв и мы оба полетели с высоты 3500 футов на землю. Положение было ужасное, но я, благодаря своей опытности, зацепился пуговицей за трамвайный провод. Мариани упал на проходящий трамвай. Но разве я вправе, дорогой Ватсон, упустить преследуемого преступника? Недолго думая, я перегрыз зубами трамвайный провод, трамвай за неимением энергии остановился. Я прыгнул на землю и побежал к трамваю. Мариани бросился в первый попавшийся кэб, я продолжал преследовать. Когда же я заметил, что он от меня на почтительном расстоянии, я применил один из двадцати моих планов, т. е. крикнул вознице, что у него подохла лошадь! Последний в испуге остановился и горько зарыдал.
Я, как тигр, схватил Мариани за ворот и убил его щелчком.
— Позвольте, я запишу этот изумительный сон в свою записную книжечку, — с умилением проговорил Ватсон и принялся заносить рассказ Хольмса в записную книжку. Не успел Ватсон закончить новых приключений Хольмса, как в кабинет вошла заплаканная дама и повалилась в кресло. Хольмс быстро подошел к ней и с участием проговорил:
— Сударыня, я вижу ваше горе! Вы мать семерых детей, у вас похитили любимого ребенка. Ваш муж — в отчаянии, вы решили обратиться ко мне за советом.
Дама вытерла глаза и, захлебываясь от слез, проговорила:
— Вчера убили моего мужа, мистер Хольмс.
— Следовательно, нужно разыскать убийцу? Это будет стоить 500 фунтов стерлингов. Расскажите, при каких обстоятельствах было совершенно преступление?
Дама поправила прическу и неуверенно начала:
— Мы возвратились с вечерней прогулки с моим мужем, лордом Мервилем. Он пошел к себе, я удалилась на свою половину. Вдруг комнаты огласил ужасный, душераздирающий крик, мы бросились в кабинет, и что же, мой муж лежал мертвым в луже крови.
— Да, это очень сложно, — пристально всматриваясь в даму, произнес Хольмс, — и никаких следов?
— Никаких.
— Еще сложнее.
— На столе покойного была оставлена записка. Я, на всякий случай, захватила ее с собой.
И дама, порывшись в ридикюле, передала небольшой листок бумаги знаменитому сыщику. Хольмс внимательно обнюхал записку, затем рассмотрел ее в лупу и сказал:
— Почерк самого отъявленного убийцы, какого я не встречал в моей практике. Человек, который писал эту записку, совершил не менее 84 преступлений.
Дама была поражена проницательностью Хольмса.
— Но какая наглость, — воскликнул Хольмс, — преступник пишет: «Приеду сегодня вечером, жди».
Дама заволновалась:
— Извините, мистер Хольмс, я перепутала записки. Это писал мой отец. Ради всего святого, извините.
Хольмс смутился.
— Конечно, конечно, леди, это видно, что это почерк старика, безумно любящего свою дочь. Ваш батюшка, вероятно, безумно любит вас, не правда ли?
Дама грустно покачала головой и со вздохом сказала:
— Нет, мой отец ненавидит меня, я удивляюсь, как он написал мне.
«Никак не попадешь на след», — подумал Хольмс.
— Конечно, леди, это видно из письма, такое сухое и короткое письмо. Ну-с, приступим к делу, — и он прочел вслух роковую записку, которая гласила, что леди Мервиль будет сегодня убита. Леди заплакала, Хольмс успокаивал.
— Не беспокойтесь, леди, вы в квартире короля сыщиков, ваша жизнь вне опасности.
— Но ведь они должны убить меня! — рыдала дама.
Хольмс приложил палец ко лбу и что-то думал. Вдруг он подошел к леди и наклонился к ее уху.
— Поезжайте сейчас домой и ждите меня через десять минут.
Леди вышла. Послышался выстрел, крик и падение тела. Хольмс закурил трубку и многозначительно произнес:
— Убили, так я и знал. От судьбы не уйдешь.
И погрузился в чтение Ната Пинкертона.
 Ольга Чюмина
ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИЛИ ШЕРЛОК ХОЛЬМС В МАЛОМ ТЕАТРЕ[3]
Ольга Чюмина
ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ИЛИ ШЕРЛОК ХОЛЬМС В МАЛОМ ТЕАТРЕ[3]
Директор Суворинского театра.
ШЕРЛОК ХОЛМС В ПЕТЕРБУРГЕ
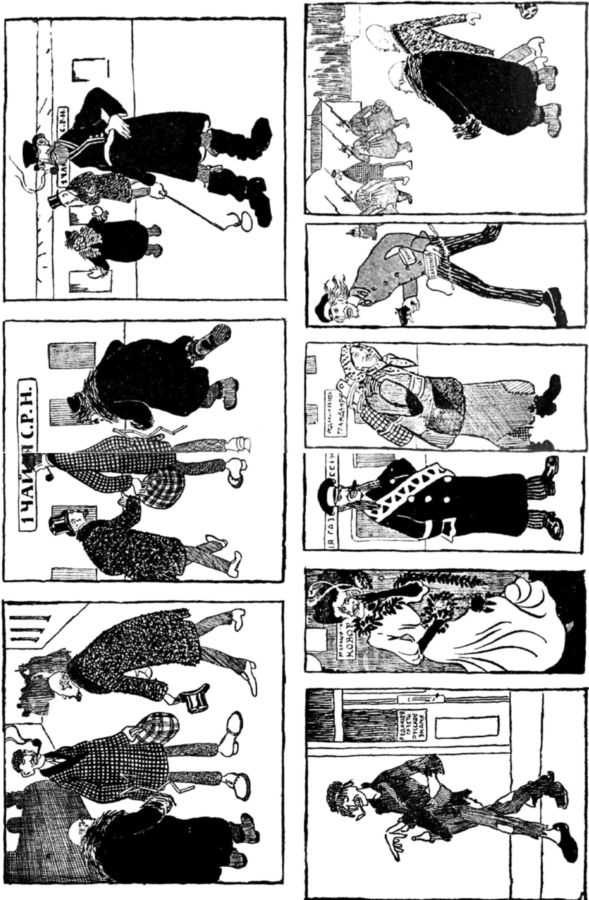 Как Шерлок Холмс был выписан для розыска крамольников, как он их разыскивал и как и как за неуспешность наказан был. 9 рисунков Роянского.
Как Шерлок Холмс был выписан для розыска крамольников, как он их разыскивал и как и как за неуспешность наказан был. 9 рисунков Роянского.
Владимир Крымов ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАЗГОВОРОВ
— Шерлок Холмс, как тип и «стиль», мог возникнуть только в Англии, стране закономерности, правильно организованной жизни. Конан-Дойля можно было перевести на русский язык, но на русские нравы он непереводим. Признаться, мне немного смешны англичане, которые так дивятся находчивости своего знаменитого «детектива», чуть не в национальные герои его возвели. — Почему? — Посмотрел бы я на этого Шерлока в России. Каков бы он у нас оказался? Думаю, что со своими английскими навыками он в России недалеко бы ушел. «Ватсон, — весело сказал Шерлок, прыгая в омнибус, — через 12 минут мы будем на Черинг-Кросском вокзале». Глядишь, ровно через 12 минут Шерлок действительно на вокзале, преступник схвачен, добродетель торжествует, мистер читатель доволен. Этак легко чудеса совершать. А вот поработал бы он у нас… — Но ведь наша случайность почти такой же социальный закон, как английская организованность жизни. Я думаю, что Шерлок Холмс, добравшись до нашего Николаевского вокзала через полчаса после назначенного по расписанию отхода курьерского поезда, мог бы еще застать поезд и успел бы проделать все, что требуется. Ведь поезда у нас тоже неаккуратны. Шерлок к нашему быту скоро бы приспособился. — Не скажу, что вы неправы. Пожалуй, что так.Аркадий Бухов ДЕЛО КАНАДСКИХ ГРАБИТЕЛЕЙ (Новое приключение Шерлока Холмса)
— Ватсон, — шепнул мне на ухо Шерлок Холмс, — с этой дамой случилось несчастье. — Откуда вы знаете? — с изумлением посмотрит я на него. — Дедуктивный метод, — хладнокровно ответил сыщик. — Она плачет. — Но почему же вы думаете, что она плачет от несчастья? — пораженный его доводами, пробормотал я. — О, мы, сыщики, должны быть внимательны ко всему… Войдя в комнату, она сказала: «Сударь, со мной случилось несчастье». Сопоставьте ее заявление и слезы, и вы поймете, что я прав. — Да, да, — преклоняясь перед ним, сказал я. — Сударыня, — сказал Шерлок даме, — скажите, что привело вас сюда… Дама приложила платок к глазам, одним усилием воли сдержала истерический крик горя и ответила: — Один рубль десять копеек. — Наследство? — быстро схватывая ее за руку, спросил Шерлок. — Украли? — Отдала. Сама. Везде то же самое. — Кому? — Ему. Фамилию сейчас забыла. Рядом с нами. Высокий, рыжий. — Записывайте, Ватсон: высокий, рыжий. Требовал и угрожал? — Откуда вы знаете? — с удивлением, в котором сквозил ужас, спросил я. — О, мы сыщики. Что у него было в руках, сударыня? — У него? Ветчина. — Записывайте, Ватсон. Это первый случай в моей практике — убийство ветчины. — Докажите, что он жулик, господин Холмс, — умоляюще произнесла дама, — сделайте это ради моего малютки-сына, исключенного из университета за невзнос платы, и ради моего малютки-мужа, лишившегося места в кредитной канцелярии… — Сударыня, — сказал Шерлок Холмс, — я сделаю все, что смогу…* * *
— Это работает шайка канадских подкалывателей, — хмуро сказал Холмс, когда женщина ушла. — Том Джонс, человек с рваным ухом, и его шайка… Я накрою их… Ватсон, кто-то звонит… — Телеграмма… — И ее, конечно, принес не ученик консерватории, а телеграфист… — Шерлок… Откуда… — О, мы сыщики… — Он быстро пробежал телеграмму и, побелев, тяжело опустился в кресло. — Ватсон, преступление развертывается… Среди белого дня, на Невском, с человека взяли полтора рубля за фунт сливочного масла… — Вы шутите, — не веря собственным ушам, произнес я, — не может быть. Ведь около Петрограда десятки вагонов с прекрасным сливочным маслом… Полиция… — Полиция? — раздраженно сказал Холмс. — Что вы мне говорите… Шайка канадских грабителей сильнее полиции… Кто-то идет, Ватсон… — Письмо. Почерк неразборчивый. — Это пишет Джим, моя собака, которую я дедуктивным путем научил писать на почтовой бумаге. Он вскрыл конверт и громко произнес: — Преступление… — Продолжается? — Развивается, Ватсон, бешеными шагами… Джим пишет, что он проследил за старухой, с которой взяли шесть гривен за десяток яиц… — В безлюдном переулке, осенней ночью, когда темное небо, нависш… — Днем. На Садовой! — резко кинул он. — Преступник бежал? — Торгует. О, Том Джонс, — опасная штучка… — Но ведь, подъезжая к Петрограду, мы видели вагоны, наполненные яйцами… — Джонс задерживает их на станции… — Но городское самоуправление… — Агенты Джонса, канадского разбойника, дорогой Ватсон, вездесущи… Они в тех местах, где даже… — Кто-то стучится… — Это стучится мужчина. — Почему вы думаете? Я поражен до глубины… — Ах, это так просто, — почти с досадой кинул великий сыщик. — Он говорит за дверью басом. На моей практике был только один случай, в Небраске, чтобы женщина говорила басом. И то это оказалась не женщина, а негодяй Баукинс, которого повесили… Что там? — Записка… — Дайте… Ватсон, я теряю голову. Они хитрее меня. Новое преступление на окраинах Петрограда. Громадная партия дров исчезла на глазах у толпы. Остатки продавались по восемнадцать рублей за сажень… — Может быть, поедем сами?.. — Едем, — коротко сказал он, — сыщик должен быть первым на месте преступления.* * *
Мы вышли на улицу. — За нами следят, — шепнул мне Шерлок, — нужно быть осторожным. Сейчас я проверю, нет ли поблизости молодцов из шайки Джонса. Извозчик! — Куда прикажете? — Невский, угол… — Рупь. Шерлок метнулся в сторону и оттащил меня. — Это Джек Пятнистый, один из главарей… Дальше. Через две улицы, около какого-то магазина, мы увидели толпу людей, мрачно стоявших друг за другом. Впускали в полуприкрытые двери магазина по одному. — Здесь творится что-то неладное… В чем дело? — спросил он у одного из толпы. — Сознавайтесь. Только при этом условии вам будет дарована свобода. Тот схватился за сердце, пошатнулся и заплакал. — О, не сердитесь. Я не виноват. Это очередь за сахаром. — Вы врете, сэр, — холодно сказал Шерлок, — я знаю, что в Петрограде громадные залежи сахара. Вы врете. — Честное слово. Здесь его продают на три копейки дороже. — Почему же вы не кричите? — Благодарю вас. Кричали. — Идем, Ватсон… Я теряю голову… Скорее…* * *
— Вы подождете здесь, — сказал мне Шерлок у фруктового магазина, — я сейчас вернусь. Он быстро нырнул в магазин, приняв вид беззаботного портового извозчика, а я, закрыв зонтом ноги от любопытных взглядов, стал дожидаться. Не прошло и двух минут, как Холмс резким прыжком вынырнул из магазина и глухим шепотом кинул мне: — Ватсон… Они и здесь… — Джонс? — Его ребята… Я попросил десять плохих яблок… — Сколько? — с дрожью в голосе спросил я. — Два рубля. — Стальные наручники были с вами?.. — Ватсон, Ватсон… Мое имя посрамлено… На моих глазах негодяй бросился на какую-то даму и взял с нее четыре рубля за десяток гнилых груш… Я сам едва успел выскочить… — Что делать, Шерлок… Он печально посмотрел на меня и грустно покачал головой: — Ватсон… Шайка канадских грабителей сильнее Холмса… Здесь замешан Мориарти… король преступников, мой злейший враг… Идем же домой.* * *
Ночью мы были разбужены звоном стекол. В комнату влетел громадный булыжник, завернутый бумагой. Гибким ягуаром средних лет Шерлок бросился к камню, развернул бумагу, прочел и передал мне. — Я приговорен к смерти, — сказал он, берясь за скрипку и играя одну из Мендельсоновских вещиц Грига, — Ватсон, где мой смычок… Я просмотрел бумагу. — Шерлок, — дрожащим голосом и вежливо сказал я, — вас приговорила к смерти дровяная комиссия. — Это общество перекочевало из долин Иллинойса в Европу. Мне уже не раз приходилось сталкиваться с ними. Помните труп в двух сундуках на борту «Ориноко»? Как бы в ответ на эти слова электричество потухло, дверь раскрылась, и чья-то рука, высунувшись, прибила кинжалом к дверям маленькую записку. — Зажгите свет, Ватсон, — спокойно сказал Шерлок Холмс, — если вас не убили. — Нет, дорогой друг. Я жив. — Это не первый случай в моей практике, когда люди, которым не грозила опасность, оставались живы. Зажгли? Теперь прочтите… Не беднейте. Читайте вслух… — Тайная организация Фруктовщиков… Яичников… Молочников… — К смерти? — К ней. — Ватсон, мы должны уехать отсюда. Канадские грабители торжествуют. Здесь сила в их руках. Холмс бессилен. О, Том Джонс… Мы еще с тобой встретимся…* * *
После этого мы часто вспоминали с Холмсом о делах шайки Джонса в Петрограде. Мы уличили одну коронованную особу в краже серебряных ложек, раскрыли в Берлине притон награбленных в разных концах Европы вещей, арестовали шесть убийц старух, бросавших в них сверху бомбы, проследили организацию душителей ядовитыми газами — но каждый раз, когда имя Холмса покрывалось новым ореолом славы, он вздыхал и сконфуженно говорил: — А помните, тогда… Шайка канадских грабителей… — Помните, Холмс, — утешал я его, — ваши последние дела… — Ах, нет дорогой Ватсон, — с горечью отвечал он, — это были первые грабители, которых было так много, а меня так мало…Long ongle ШЕРЛОК ХОЛМС В ПЕТРОГРАДЕ
…На Киево-Воронежской дороге обнаружена партия сахара, находившаяся здесь с декабря 1914 г. Всего разгружено за сегодняшний день более 1500 вагонов.(Из газет)
1
Князь Головкин, начальник департамента попечения о сладкой жизни, нервно шагал по своему кабинету. «Черт знает, что такое, — думал князь. — Полторы недели прошло с тех пор, как я послал телеграмму, — и ни слуху, ни духу. Нечего сказать — хороша дружественная нация… А тут ни кусочка, ни крупники… И телеграфировал я, кажется, ясно…» Князь подошел к своему бюро, достал из ящика копию телеграммы и прочел: «Англия. Лондон. Бекер-стрит 5. Шерлоку Холмсу. Приезжайте немедленно Петроград. Внезапно исчез сахар. Живется несладко. Требуется найти. Надеемся на вас и дружественность нации. Ждем. Yes. Лорд Головкин». — Ясно, кажется… И английские слова вставил и лордом подписался, а не едет… Не могу же я сами искать… Нужно посоветоваться с Фомкиным. И князь приказал явившемуся на звонок курьеру пригласить в кабинет своего помощника Ивана Ивановича Фомкина. В ожидании Фомкина, князь опустился в кресло и принялся исчерчивать лист бювара рядами цифр. Через пять минут в кабинет вошел Фомкин. — Изволили звать? — спросил он князя. — Да, я просил вас, Иван Иванович. Садитесь. Фомкин сел. — Я просил вас, — продолжал князь, — для того, чтобы посоветоваться относительно этой проклятой истории. — Пропажи сахара, ваше сиятельство? — спросил Фомкин. — Да. Прошло полторы недели со дня отправки телеграммы, и, очевидно, этот прославленный мистер не приедет… Но, согласитесь, не могу же я сам искать, не можете вы искать… Я так изнервничался, у меня голова идет кругом… — Не извольте нервничать, ваше сиятельство… Вот благодаря нервам, ваше сиятельство изволили проиграть вчера вечером в бридж 14 руб. 23 к., а это нехорошо. — А вы откуда знаете? — спросил удивленно князь. — А вот по этим записочкам, которыми вы изволили исчеркать весь бювар, — отвечал Фомкин. — Ах, да… совершенно верно… Да вы положительно Шерлок Холмс, Иван Иванович. — К вашим услугам, ваше сиятельство. И Фомкин быстро сдернул с головы парик. Перед князем стоял настоящий Шерлок Холмс. Князь в первые секунды едва мог выговорить. — Yes… мистер… гуд бай… плэз… — Продолжайте по-русски, дорогой князь, — вы уже убедились, что я довольно сносно говорю на этом языке. — Но я так поражен… этот маскарад… Когда вы приехали..? — Маскарад этот мне необходим, я имею основание быть осторожным даже в этой далекой стране. Ну, а в шкуре вашего почтенного помощника никто не заподозрит Холмса. Не правда ли, князь? — О, да… Вы меня извините, что я сейчас же приступлю к делу… Оно не терпит… Живется очень несладко, и я должен, вы понимаете, найти… Да… Итак, вы беретесь найти пропавший сахар?.. — Да, князь. — И сколько же вам понадобится на это времени? — Три дня, князь. — Оль райт, — не мог удержаться от английского языка Головкин. — Располагайте мною как вам угодно. Итак, за работу!.. — Yes, — отвечал Холмс.2
При выходе из подъезда учреждения, бразды правления которым держал князь, Шерлок Холмс наткнулся на типичнейшую картинку петроградской жизни. Дворник отгонял от подъезда извозчика. Холмс, незнакомый с существующим у нас строем, уже хотел было вступиться за извозчика, как дворник, увидя перед собой помощника князя, снял вдруг картуз и крикнул извозчику: — Ну, подавай, желтоглазый… живо. Холмс улыбнулся и сел в пролетку. Отъехав немного, он, закуривая сигару, процедил сквозь зубы: — Кажется, я явился вовремя, дорогой Ватсон! — Да, дорогой Холмс, — этот симпатичный союзник хотел ограбить меня среди белого дня на целый двугривенный, — отвечал извозчик, постегивая лошадь. — Не удивляйтесь ничему в этой стране неожиданностей, дорогой Ватсон, и поспешите к нашему отелю, где мы сытно пообедаем и… — И?.. — спросил Ватсон. — И, надеюсь, три дня не будем выходить из нашего номера, — ответил Холмс. — Как?! А сахар?! — Сахар будет найден, — твердо произнес Холмс. Доктор Ватсон, пожав плечами, еще пуще застегал лошадь.3
После обеда Холмс надел халат и, придвинув кресло ближе к камину, закурил одну из великолепных сигар, отнятых им у немецких шпионов в Лондоне. Через несколько секунд ароматный дым совершенно заволок фигуру Холмса. Доктор Ватсон, уже сменивший армяк извозчика на визитку, сидел у письменного стола и молча смотрел на знаменитого сыщика. Он старался угадать, о чем думает этот незаурядный человек, но, вспомнив, что это никогда ему не удавалось, спросил: — О чем вы думаете, мистер Холмс? — Вы удивительно недогадливы, доктор, — отвечал Холмс. Конечно, я думаю об одном маленьком рассказе великого русского писателя. В этом рассказе говорится о том, какая масса бумаги изводится в правительственных учреждениях России, и называется этот рассказ «Много бумаги»[8]. Если бы Холмс ответил, что думает о джунглях, Ватсон был бы менее удивлен. — Какое же отношение имеет это к делу, ради которого мы приехали сюда? — спросил он. — Большое, дорогой доктор, большое… За сахаром.
За сахаром.
4
В следующие два дня изумление доктора Ватсона достигло крайних пределов, он даже стал опасаться за ум своего великого друга. Шерлок Холмс через каждые полчаса посылал отельных мальчиков во все концы Петрограда за всевозможными покупками. Ему нужно было то вдруг полфунта мыла с Петроградской стороны, то фунт колбасы с Выборгской, две фаянсовые тарелки с Песков, галстук от Нарвских ворот, табак из Гавани, подсолнухи с Крестовского острова. Груды купленного заполнили чуть ли не половину номера, а Шерлок все посылал и посылал. Каждую покупку Холмс лихорадочно разворачивал и затем бросал в общую кучу. Ватсон знал, что в такие минуты мистера Холмса нельзя было трогать и молчал. На третий день после обеда Шерлок сказал Ватсону. — Доктор, мы должны пойти погулять. Ватсон беспрекословно надел пальто. Выйдя из отеля, Холмс направился к Пескам. По дороге он то и дело заходил в мелочные лавки и покупал всякую дрянь, которую тут же, на улице, развертывал и бросал. На Охтенском мосту им попалась навстречу селедочница. Холмс быстро направился к ней. — Одну селедку! Торговка достала селедку, завернула в бумагу и подала Холмсу. Холмс заплатил деньги, развернул селедку, посмотрел и бросил в Неву. — Еще одну! И вторая селедка полетела туда же. — Еще одну! Третью постигла та нее участь. — Дорогой Холмс, что с вами?.. — начал было Ватсон. — Ватсон, молчите. Еще одну!.. — Еще одну! — Еще одну!! — Еще одну!!! — Еще… Hip!.. Уррра!.. Ватсон, мы сегодня вечером едем в Лондон… Леди, я благодарю вас. И Холмс горячо потряс руку остолбеневшей торговке. Прижимая к груди завернутую в грязную бумагу седьмую селедку, он вместе с Ватсоном уселся в проезжавший мимо таксомотор и через четверть часа они были уже у себя в отеле. Ватсон был в ужасе. — Ах, Ватсон, дорогой Ватсон, — начал Холмс голосом, в котором звучали все радости мира. — Смотрите, вот в этой бумажке, в которую была завернута эта противная селедка, в этой бумажке то, чего не могли найти без меня и что я нашел… Смотрите, — это кусок старой ведомости министерства путей сообщения; эти ведомости, как я узнал, продаются, по миновании надобности, пудами и употребляются для завертки в них всевозможных товаров. Смотрите, на этом куске ведомости копия накладной Николаевской железной дороги 1898 года… И вот, пишите, пишите сейчас князю: «Груз сахара, 32 вагона, находится на первой линии путей возле главного перрона Николаевского вокзала в Петрограде… с января 1898 г.» Понимаете, Ватсон — 1898 г.В тот же вечер Холмс и Ватсон тихо покачивались в вагоне первого класса экспресса Петроград-Гельсингфорс по пути в Лондон.
Александр Дикгоф-Деренталь ДИПЛОМАТ МИТЬКА Даже не факт, а истинное происшествие
…С европейским просвещеньем Мы уж знаем обращенье!..… Мартобря некоторого дня Верховный Совет оказался в большом затруднении. Но прежде, чем начать о нем рассказывать — необходимо объяснить читателю: что такое этот Верховный Совет? Дело в том, что окончательно изнеможенные российской неразберихой союзники решили образовать особую комиссию и сдать на ее рассмотрение все русские дела. Как решит комиссия — так и будет. Для авторитетности комиссии присвоено было название «Верховного Совета». В него вошли представители от государств, специально заинтересованных в скорейшем разрешении русского вопроса. В числе их — конечно, — Сандвичевы Острова, республика Порто-Рико, Огненная Земля, Тасмания, Парагвай и другие Великие Державы. Верховный Совет заседал от 24 до 48 часов в сутки непрерывно и благодаря его компетенции вся доселе мучившая европейские умы общероссийская ерунда становилась простой и совершенно понятной, как малина… Но, как уже указано было выше, полученная внезапно тайная нота из Москвы от Чичерина[9] повергла всех высоких дипломатов в крайнее затруднение. Нота, по обыкновению, была составлена в выражениях точных, хотя и не совсем дипломатических: «Требую от имени мирового пролетариата, чтобы Верховный Совет воздержался от принятия решений до приезда посланного мною дипломата Митьки… Представляется случай приобрести оптом и в розницу половину России на чрезвычайно льготных условиях. Но российский пролетариат, стоя на страже…» Дальше шло обычное поминовение буржуазных родителей участников Верховного Совета и продолжение ноты представляло интерес разве лишь для лиц, еще незнакомых с живописностью языка нашего доброго русского народа… «Кто этот Митька? — ломали себе голову дипломаты. — Откуда он? Половина России — это заманчиво… Но почему г-н министр Чичерин не указал нам в своей телеграмме фамилии посылаемого им с столь важным поручением государственного деятеля?» На секретном совещании было решено впредь до наведения более положительных справок советского дипломата не принимать и справки о нем навести довольно известному в некоторых кругах специалисту-любителю мистеру Шерлоку Холмсу. Мистер Шерлок Холмс надел автомобильные очки для того, чтобы быть незамеченным на улице, вывернул для конспирации пальто на левую сторону, пригласил своего друга доктора Ватсона и оба, закурив трубки, сели перед стаканами виски с содой у горящего камина, ибо, если верить Конан Дойлю — Шерлок Холмс именно так всегда и начинал свою работу… Покамест они работали у знаменитой богачки и красавицы герцогини Бетси де Лос Томатос, произошло нечто загадочное и непонятное, что смогло бы иметь неисчислимые последствия для общеевропейского и даже мирового равновесия, если бы не присутствие духа герцогини. Герцогиня, молодая вдова, избалованная последовательно своими семью мужьями, так и осталась во всех отношениях той же «малюткой в панталончиках», какой была в день своей первой свадьбы 60 лет тому назад. Знающие ее люди уверяли, что она еще до сих пор убеждена в том, что если коза и корова дают молоко — то козел и бык непременно должны давать бульон и что булки к утреннему кофе растут на дереве… Но зато в вопросах тайной и явной дипломатии герцогиня, выражаясь языком Виктора Гюго, — «собаку съела» и во всем, что касалось мировой политики ее и на свинье не объедешь! — как говорили в аристократических салонах. Сейчас она была в восторге от происходящего в России. Посылала поздравительную телеграмму Ленину, на которую тот не ответил. Через два слова в третье восклицала — «Ах, большевики! Они такие милые, милые…» И про собирающееся у нее по средам великосветское общество объясняла: — «Это мой Совдеп… Мы подготовляем у нас на Западе социальную революцию…» В этот вечер обычные гости во фраках и вечерних туалетах слушали чтение стихов молодого, но уже многообещающего поэта. Но когда он звенящим от вдохновения голосом возгласил:Стихи пролетария Дудкина из «Красной газеты»
Владимир Волженин ПРОПАВШАЯ КУХАРКА Новейшее приключение Шерлока Холмса (Из воспоминаний д-ра Ватсона)
— Мистер Холмс, — сказала мистрис Гудсон, входя в комнату, — вас хочет видеть нервно-больной. — Кто? — спросил Холмс, вынимая изо рта трубку. — Больной, сэр. Он не хочет назвать своего имени и вообще держит себя очень странно. Он просит разрешения войти к вам в маске. Холмс потер руки. Глаза его заблестели. — Вы помните, Ватсон, дело Ирины Адлер? — сказал он. — Оно началось точно так же. Попросите джентльмена войти, мистрис Гудсон. — Может быть, он в самом деле больной? — неуверенно сказал я, поглядывая на дверь. — Тогда это по вашей части, доктор. Как бы там ни было, мы… В это время отворилась дверь, и в комнату вошел незнакомец. Не поклонившись нам, он растерянно огляделся, быстрым движением опустился на колени и заглянул под диван. — Если не ошибаюсь, там ничего нет, кроме моих старых туфель, мистер Чемберлен, — спокойно произнес Холмс. — Кроме того, полы только сегодня натерли, и вы пачкаете себе брюки. — Проклятье! — проворчал, вставая, незнакомец. — Как вы меня узнали? Он сорвал маску и бросил ее на стол. — Пустяки, — улыбнулся Холмс, — маленький профессиональный навык. Во-первых: в 12 ч. ночи в комнату ко мне врывается неизвестный джентльмен и, не говоря ни слова, лезет под диван. Во-вторых, в тот момент, когда он лезет, я замечаю, что из заднего кармана его сюртука торчит газета «Правда». Джентльмен не похож на рабочего. Я сопоставляю все эти факты и вывод ясен: джентльмен ищет большевиков. — Вы правы, сэр, — сказал Чемберлен, садясь в кресло. Он вынул платок и вытер им лицо. — Этот джентльмен, сэр?.. Чемберлен искоса взглянул на меня и в глазах его отразился испуг. — Это мой друг Ватсон, сэр, — ответил Холмс. — Мы ждем, сэр, объяснения причин вашего позднего визита. — Они преследуют меня, — заговорил дрожащим голосом джентльмен, нервно комкая платок. — Наша официальная полиция не в силах справиться с ними, поэтому я решил обратиться к вашей помощи, сэр. Я не могу более терпеть. — Случилось что-нибудь особенное, сэр? — спросил Холмс. — Вы угадали. Они вмешались в мою личную жизнь, сэр. Холмс повернулся в кресле и закрыл глаза, что служило признаком величайшего внимания. — Я слушаю, сэр. — Случилось нечто такое, отчего нарушился весь обычный уклад моей семейной жизни, — продолжал наш гость. — У меня ушла кухарка, мистер Холмс. Ушла, не объясняя причин. Холмс открыл глаза и потянулся к трубке. — Вы не туда попали, сэр, — холодно сказал он. — Я не даю рекомендаций домашней прислуги. Посетитель молча опустил руку в боковой карман сюртука и, вынув сложенную газету, положил ее на стол перед Холмсом. — Это вам знакомо, сэр? — Конечно, — небрежно сказал Холмс. — Это московские «Известия». Тверская-стрит, 48. Контора открыта от 9 до 17 часов. Редакция во дворе, второй этаж… Да, в этой газете иногда бывают объявления о кухарках, ищущих работы, но какое это имеет отношение к вашему визиту? — Прочтите это, — нетерпеливо сказал посетитель, указывая на отчеркнутое красным карандашей место. Холмс протянул руку, взял газету и медленно прочитал: — «Каждая кухарка должна научиться управлять государством». — Понимаете? — воскликнул Чемберлен. — Понимаю. Если не ошибаюсь, этот афоризм принадлежит Ленину. Судя по контексту, в данном случае мы имеем дело с выдержкой из речи какой-то делегатки на собрании домашних работниц. — В Москве! — перебил джентльмен. — Теперь сопоставьте факты: 22 февраля появляется эта заметка в московских «Известиях», а 28 февраля от меня неожиданно уходит кухарка. — Других фактов нет? — спросил Холмс. — Какие же еще факты, когда я имею на руках документальные данные? Я еще раз говорю: 22 февраля… — Одну минуту, сэр, — перебил Холмс. — Но кроме этого факта?.. — Есть, — вздохнул Чемберлен. — В издании московского Гиза недавно вышла книжка для детей. Она называется «Хрюшки-свинушки». На первой странице этой книжки изображена свинья, а на четвертой корова в монокле. Сопоставьте факты: свинья, монокль и издание книжки в Москве. Я очень прошу вас оказать помощь… — Сейчас, — холодно сказал Холмс, беря блокнот и карандаш. Через несколько секунд Шерлок Холмс протянул блокнот мне и серьезно сказал: — Кажется, так, Ватсон? В блокноте я прочитал: «2 горчичника в день на затылок. Холодные души. Мистеру Чемберлену. Д-р Шерлок Холмс».Карл Радек ВЕЛИЧАЙШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ИСТОРИИ
Доктор Ватсон-младший тихо вошел в кабинет Шерлока Холмса. Матовый свет лампы освещал лицо Шерлока-младшего. Ватсон только теперь увидел, как похож на старый портрет отца младший Шерлок Холмс. То же гладко выбритое, с замкнутым выражением лицо, как бы скрывающее, что происходит в душе. Те же плотно сжатые губы, механически придерживавшие трубку, те же спокойные, обращенные внутрь глаза. Ватсон опустился в глубокое кресло. Шерлок Холмс, молчаливо сидевший у камина, поднялся, подошел к письменному столу, набил трубку и, не закурив ее, начал в раздумье перелистывать страницы книг, разбросанных по столу. — Это самое крупное преступление в истории человечества, — сказал он, как бы разговаривая сам с собой. — Какими пустяками занимался мой отец: ловил какого-то индийского эмигранта, убившего человека, что похитил у него клад, или какого- то бродягу, расправившегося с неверным приятелем. А тут убили миллионы людей, миллионы влачат жалкое существование в качестве калек, миллионы сирот вынуждены жить в нужде, — и никто не расследует, на кого падает ответственность за эти преступления. — О чем ты говоришь? — спросил удивленный Ватсон. Ему показались, что его приятель, несмотря на внешнее спокойствие, подвергся приступу лихорадки и фантазирует в бреду. — Я говорю о мировой войне, — ответил Шерлок Холмс. — Мы с тобой были детьми, когда она началась. Мы верили, что это — последняя война, что это — война за демократию, против милитаризма. Мы верили во все легенды, распространявшиеся во время этой войны. Но теперь мы знаем: то были лишь легенды. Этого было бы достаточно, чтобы убить сон каждого честного человека, чтобы превратить все человечество в организацию сыщиков, взявшихся за поиски преступников. А между тем, из года в год издают военные материалы, предназначенные служить продолжением военной легенды, издают мемуары, которые читаются, как романы, ибо люди ищут в них сенсаций. А ведь не стало миллионов людей!.. Они были маленькие и большие, но всякий из них имел свою жизнь: что-то его радовало, что-то печалило, к чему-то он стремился. А затем у него отняли волю, отняли возможность решать свою судьбу. Миллионы были брошены на поля сражений, лишенные права спросить: во имя чего они лежат к траншеях, прислушиваясь к визгу шрапнели, во имя чего они временами хватаются в панике за газовые маски, когда покажется, что их душат газы, подползшие тихо, словно воры. Когда наступала полная тишина, они лежали в окопах без капли крови в мозгу, прислушиваясь к шороху крыс, нюхавших их сапоги. А затем снова ревели сигналы, свистели тревожные свистки сержантов и раздавалась команда: «Готовься — атака!..» Они шли через огненный дождь. Их рвали снаряды. Они повисали на колючей проволоке… А после атаки часть солдат возвращалась в окопы, а часть оставалась лежать между двумя рядами проволочных заграждений. Целыми ночами был слышен вой людей, гибнувших от жажды, от лихорадки, от ран, разрывавших их внутренности. И никто не мог их спасти. Холмс-младший закурил трубку и ударил кулаком по кипе книг на столе. — Вот я шесть месяцев читал эти бесстыжие мемуары Черчилля, Асквита, Грея, Пуанкаре, Бетман-Гольвега[13], кайзера Вильгельма. И я спрашиваю: кто же бросил человечество в войну? Где те преступники, которые принесли человеку столько страданий? — И к какому выводу ты пришел? — спросил Ватсон. — Всякий из них, взятый особо, — джентльмен, отец семьи, порядочный человек. Всякий из них счел бы себя преступником, если бы был вынужден признать, что убил человека, чтобы его ограбить. А все они совместно готовили войну с целью грабежа. Немцы хотели урвать у англичан колонии, хотели получить возможность свободного грабежа Турции. Австрия — со страха, что семь миллионов австрийских сербов могут объединиться с четырьмя с половиной миллионами, жившими в Сербском королевстве, — задумала покончить с сербами, присоединив остальные четыре с половиной миллиона, хотя не могла управиться с теми, которых уже имела. Англичане хотели ограбить Германию и отнять ее флот, чтобы потопить его на дне морском. Царизм, разбитый на Дальнем Востоке, решил ограбить Турцию, захватив у нее Константинополь. Самыми лучшими были эти идеалистические американцы! Они вступили в войну после двух лет военной оргии, не имея даже оправдания о мнимом нападении со стороны противника. Они приняли участие в побоище просто потому, что Морган одолжил много миллиардов союзникам и боялся, как бы они не пропали. — Не хочешь ли ты сказать, что виновата только капиталистическая система, что государственные люди были жалкими марионетками в руках истории, увлекшей их в пропасть? — Никто не является преступником по собственной воле, на основе свободного выбора. Человек убивает из ревности, потому что ревность стала инстинктом испорченного современной культурой человечества. Но нельзя давать людям права убивать из ревности! Когда человек, гонимый извращенными сексуальными наклонностями, убивает женщин и детей, он — жертва наследственности и окружающих условий. Но нельзя провозглашать свободы сексуальных убийств. Нельзя подменять вопроса, упрятать ли подобного убийцу в стенах больницы для неизлечимо больных, вопросом о самой болезни. А те, которые рассказывают в толстых книгах про систему капиталистической конкуренции, те, которые вспоминают о военных союзах и гонке вооружений, указывают на это не для того, чтобы требовать уничтожения системы, хотя бы ценой помилования ее представителей. Нет, они говорят об этой системе для того, чтобы защитить ее носителей и предоставить им возможность подготовлять в дальнейшем новое преступление в еще более грандиозном масштабе. Ведь многие из участников подготовки мировой войны 1914-18 гг. выступают и сегодня в качестве государственных деятелей! Они руководят политикой крупнейших государств, выступают в качестве вершителей судеб народов. А разве младшее поколение современных государственных людей чем-нибудь отличается от своих отцов и учителей? Разве они не повторяют точь-в-точь то, что делали их отцы и учителя перед 1914 годом? Некоторые из них ссылаются на то, что принадлежат к поколению участников войны, что они видели все ее ужасы и что поэтому они высказываются за мир. Но ведь все это — полнейшее вранье. Эти бывшие «комбатанты» руководят сейчас тайными вооружениями, подготовляют дьявольскую химическую войну. Они являются представителями школы воздушного террора, грозящего обрушиться всей силой на женщин, на детей, на рабочих, скученных в стенах амуниционных заводов. Эти господа кокетничают своим бывшим участием в войне. Но с тех пор они отрастили себе животы, с трудом умещающиеся в мундире. Они не пойдут воевать, они спрячутся в бетонных подземных городах, в которых разместится буржуазное правительство — этот безмозглый мозг нашего общества. Оттуда они станут кричать при посредстве громкоговорителей, что им не чужды ужасы войны. Шерлок Холмс-младший поднялся со своего места за письменным столом и, принявшись расхаживать большими шагами по комнате, продолжал: — Зачем искать преступников? Все они — как на ладони. Никогда еще преступники не разгуливали столь открыто, столь бесстыдно! В истории человечества до сих пор еще не было случая, чтобы преступник получал громадные награды за признание вины, а тем более — за свою защиту. А эти преступники загребают громадные гонорары за свои лживые исторические труды, единственная ценность которых в том, что из сгустка лживых фраз и увертливых адвокатских речей сочится кровь и ударяет в нос трупный запах. Но что меня возмущает больше всего, это то лицемерие, с которым они притворяются, что не знают своих жертв. Они построили во всех столицах мира могилу неизвестного солдата, они поддерживают на этих могилах вечный огонь, они совершают паломничества к этим могилам, складывают на них венки, стоят перед ними в молчании, — но стоят только минутку. А после они бегут от этих могил, — бегут не то на банкеты, не то потому, что боятся, как бы сквозь железные плиты не проступила кровь несчастных жертв, обличая преступников. Если господа государственные деятели хотят знать, кого они убили, то ничего нет легче. Дело ведь идет о миллионах, о законе больших чисел! Чего же легче, как установить для каждой страны процент рабочих, процент крестьян и городской бедноты. Пусть поделят количество убитых на эти цифры. Пусть даже отбросят один процент маменькиных сынков. Тогда будут знать точно, кто тот неизвестный солдат, перед которым лицемерно склоняют головы, чью память лицемерно чтят, дабы иметь возможность погнать на войну новые миллионы неизвестных солдат! Холмс сбросил движением руки на пол тома военных мемуаров и воскликнул: — Но подлее джентльменов-преступников та научная челядь, которая пишет сочинения о войне. Авторы мемуаров могут сказать в свое оправдание, что за всяким преступником суд признает не только право на защиту, но и право на ложь. Ведь именно поэтому с обвиняемого не берут присяги перед судом: его присяга в глазах посторонних не имеет никакого значения. А эти «историки» — добровольные мародеры и шакалы, снующие по полям сражений! На войне мародеров расстреливали, хотя бы они крали уже ненужные убитым сапоги или пару шиллингов. А эти гиены полей сражений крадут у убитых единственную цену их смерти, они крадут предостерегающий голос многомиллионных могил, они крадут крик гибнущего, кто мог бы предостеречь своих детей от подобной же участи, они крадут посмертное обвинение, светящееся в уже невидящих глазах жертв войны! Когда поднимутся в так называемом цивилизованном мире рабочие и крестьяне, предназначенные в жертву будущим войнам, они должны посадить на скамью подсудимых рядом с членами правительств, приготовившими последнюю войну и готовящими новую, всех этих так называемых «историков», зарабатывающих золото и ордена ложью о мировой войне… — Если бы у меня был талант Данте, — закончил Холмс, — я бы написал небольшую книгу о войне, чтобы распространить ее в миллионах экземпляров. Книгу, которая говорила бы всему человечеству, что его заставили погибать за интересы горсти паразитов и что если нельзя иначе от этих паразитов избавиться, надо подняться на последнюю великую святую войну против тех, кто хочет еще раз провести человечество через море крови во имя своих проклятых интересов, под старыми лживыми лозунгами. Доктор Ватсон встал с кресла и подошел вплотную к Шерлоку Холмсу. — Было бы хорошо, — сказал он ему, — если бы у тебя был такой талант. Но, по существу, все то, что ты сейчас сказал, с первого дня войны говорят человечеству большевики. За эту правду они боролись в кровавом тумане войны, не считаясь с тяжелыми жертвами. Из кровавого тумана родилась Советская Россия, Союз Федеративных разумных республик, как сказал наш друг Бернард Шоу. За эту правду складывают на плахе головы германские коммунисты, сидят в тюрьмах фашизма сотни тысяч бойцов. Правду о войне не сумели украсть господа историки, ее разносит по миру Коммунистический Интернационал. Ватсон протянул Шерлоку Холмсу маленькую книжечку. — Ты знаешь это историческое сочинение? — спросил он. Шерлок Холмс взял в руки маленькую книжечку, напечатанную на плохой бумаге и не переплетенную в сафьян. Это была программа Коммунистического Интернационала. Холмс открыл книжечку перед лампой и начал ее читать… В комнате царила полная тишина.Лазарь Лагин КОНЕЦ КАРЬЕРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА (Последний рассказ доктора Ватсона)
Чудесный майский день был на исходе. Мы сидели с моим другом в комфортабельном номере одной из фешенебельных московских гостиниц и изнывали от потока излишних услуг, расточавшихся нам администрацией гостиницы. Каждая наша просьба и пожелание выполнялись с такой торжественностью и такими помпезными подробностями, как будто мы были послами влиятельной державы, приглашенными на королевский прием в Букингэмский дворец.
Когда официант в белом традиционном переднике, изгибавшийся как гибкая лоза в бесчисленных поклонах, оставил нас, наконец, наедине с превосходно сервированным для ужина столом, Шерлок Холмс, не проронивший во все время этой экзотической церемонии ни одного слова, выколотил трубку и, любовно разглядывая ее, задумчиво начал: — Вы, Ватсон, всегда сопровождая меня в наиболее интересные из моих приключений, безусловно, усвоили уже себе основную прелесть моей профессии. Главное в ней — не борьба с оружием в руках, не пальба из кольтов и не гонка на автомобиле за поездом. Вся прелесть — в распутывании логического клубка, в раскрытии тайны, существующей где-то под боком у тех, которые должны были бы ее разгадать в первую очередь. Когда все раскрыто и становится известным, где притаился преступник, нам делать уже нечего. Тут уже начинается сфера приложения вооруженных сил порядка. Вспомните хотя бы… Резкий звонок телефона прервал его слова. — Это телефон номер 3-94-33? — раздался из трубки взволнованный женский голос. — Да. В чем дело? — заинтересовался я. — Ничего особенного, — ответил успокоенный голос. — Повесьте трубку. Проверяется телефон. Я с досадой повесил трубку. Холмс, чуть улыбнувшись, продолжал: — Вспомните хотя бы знаменитую историю о страшной находке в Брест-Литовске[14]. Это случилось лет тридцать тому назад. Среди невостребованных грузов на багажной станции была обнаружена корзина, начавшая издавать страшное зловоние. Когда ее вскрыли, глазам присутствующих представилось полное ужаса зрелище. Полуразложившийся женский труп с вырезанными щеками. В окровавленном белье метки были вырезаны. Фамилия адресата, которому надлежит получить корзину, была, конечно, вымышлена, равно как и фамилия отправителя. И все же… Снова тревожно залился телефонный звонок. — Будьте добры, позовите к телефону гражданина Кошке. — Простите, сударыня, вы, очевидно, не туда попали. — Ну, тогда Марью Ивановну из двенадцатого номера. — Простите, сударыня, тут Марьи Ивановны тоже нет. — Боже мой, но это 3-24-33? — Нет, сударыня, это 3-94-33. — Ах, простите, — донесся из телефонной трубки плачущий женский голос. — Прямо удивительно, как это станция все время умудряется перевирать номера телефона… — Так вот, — невозмутимо продолжал мистер Холмс, задумчиво раскуривая трубку, — несмотря на вымышленные фамилии адресата и отправителя, несмотря на отсутствие меток на белье, убийца, оказавшийся содержателем мелкой московской гостиницы, все же был найден. Может быть, помните, в «Таймсе» ему была посвящена не одна сотня строк. Николай Викторов. Он украсил потом своей персоной отвратительный букет сахалинской каторги. Детектив, ведший следствие, установил, что обе вымышленные фамилии начинались на букву «В». Наиболее вероятно было, что на эту букву начиналась и фамилия действительного отправителя страшной посылки, так как взволнованному до последней степени человеку в голову приходят всегда фамилии, начинающиеся той же буквой, что и его собственная. Эта небольшая логическая зацепка плюс осмотр белья убитой, которое по своей убогой роскоши, вероятней всего, принадлежало женщине легкого поведения, и составили руководящую нить для дальнейших розысков. Представьте себе огромный миллионный город… Тут телефонный звонок в третий раз прервал торжественную вечернюю тишину. На этот раз телефонную трубку взял мой друг. Я отмахнулся от этой бесцельной и раздражающей операции обеими руками. Однако, к моему удивлению, Шерлок Холмс не бросил телефонной трубки. Любезно поговорив минуты две с невидимым своим собеседником, он записал что-то в своей записной книжке и обратился ко мне со ставшим уже традиционным вопросом: согласен ли я, Ватсон, через полчаса выехать с ним по чрезвычайно интересному делу? Куда? На юг СССР, в город Новороссийск. — Мне только что сообщили, что в Новороссийске, на вокзале, в камере хранения ручного багажа уже долгое время лежит невостребованным какой-то загадочный чемодан. Справедливо предполагая, что с этим связана какая-то тайна, администрация просит меня срочно прибыть в Новороссийск, чтобы присутствовать при вскрытии чемодана… Через два дня мы были уже на новороссийском вокзале, в тесном помещении камеры хранения ручного багажа. Запыленный неказистый чемодан лежал на грязном дощатом прилавке. Чуть взволнованный Холмс собрался было за курить свою трубку, но, заметив плакат «не курить», смущенно спрятал ее в жилетный карман. — Пожалуйста, курите, — любезно сказал ему один из руководящих станционных работников, — вы видите, тут все курят. Действительно, невзирая на плакат, в помещении камеры курили все, кому не лень. Наконец, явились все приглашенные. Заведующий камерой стер с чемодана многодневную пыль. Затем с тщательной осторожностью были развязаны веревки и открыты замки. Когда в результате всех этих операций чемодан раскрылся, общий вздох удивления огласил камеру. Чемодан был наполнен недоставленными письмами: простыми, заказными, спешными и международными…

Не задавая лишних вопросов, я молча упаковал свои вещи, и через десять минут изящный «линкольн» бесшумно подкатил нас к пассажирской пристани огромного Новороссийского порта. Еще четверть часа, и белоснежный катер, деловито пыхтя, повез нас в крохотный курортный городок, расположенный на живописном берету Черного моря. Детально изучив за долгие годы нашего знакомства привычки моего знаменитого друга, я ни о чем не расспрашивал его, зная, что он сам поставит меня в известность о своих заключениях, лишь только он придет к какому-нибудь определенному выводу. И действительно, не успела еще скрыться за горизонтом живописная панорама Новороссийска, как Шерлок Холмс, до этого задумчиво расхаживавший по миниатюрной палубе катера, присел рядом со мной и, пуская голубоватые клубы ароматичного дыма, начал: — По совести говоря, доктор, придется, наверно, немало поработать. Но мне почему-то кажется, что мы уже находимся на верном пути. Вы обратили, я надеюсь, внимание на тот интересный факт, что все обнаруженные в чемодане письма были адресованы в Анапу. Больше того, на всех конвертах варьируется только несколько названий улиц. Есть основание предполагать, что мы в данном случае имеем дело с улицами, входящими в один из маршрутов, ежедневно проделываемых джентльменами, разносящими письма, или, как их здесь называют, письмоносцами. Подтверждение этой моей догадки я надеюсь получить через несколько часов в личной беседе с дирекцией местной почты. Небольшая рекогносцировка на месте поможет нам выяснить мотивы этого оригинального преступления. Что же касается фамилии преступника, то она скорее всего начинается на ту же букву, что и объявленная при сдаче на хранение чемодана, т. е. на букву «В». Нет, конечно, никакого сомнения, что значащаяся в документах камеры фамилия сдатчика «Вейкшта» явно выдумана. Сообщать свою подлинную фамилию было бы, конечно, подлинным безумием. Затем наша беседа незаметно перешла на восхищение красотами Черноморского побережья, и изумительные его виды дали нам богатую пищу для разговоров до самого момента прибытия в Анапу. Мы пошли с Холмсом по тихим улицам Анапы. Изредка он останавливался, вынимал лупу и шаг за шагом исследовал пышный кустарник, красиво обрамлявший тихие городские тротуары. И почти каждый раз эти тщательные поиски увенчивались успехом. К концу первого часа поисков карманы Холмса уже были до отказу переполнены отсыревшими, запыленными и измятыми, не доставленными адресатам письмами и открытками. — Да-а-а, — произнес задумчиво Холмс, — клубок начинает запутываться. Чья-то таинственная рука старается всеми способами подорвать доверие к почте. Придется, пожалуй, предупредить местного мэра еще сегодня до конца следствия. Попробуем поискать еще на той улице… Стой! — закричал он вдруг, резко повернувшись и молниеносно выхватив из кармана револьвер. — Руки вверх! Громкий испуганный рев трех здоровых детских глоток был ответом на грозное восклицание знаменитого детектива. Трое малолетних анапских джентльменов, подняв вверх измазанные и исцарапанные руки, горько плакали, с ужасом взирая на зияющее дуло револьвера. Нужно сказать, что и сам Холмс, удостоверившийся, что таинственный шорох и треск, раздававшиеся некоторое время вокруг нас, создавали такие юные граждане, чрезвычайно смутился и, сунув револьвер в карман, затребовал от них немедленных объяснений. — Напрасно вы, гражданин, в нас револьвером тычете. Вы только сегодня начали искать письма, а мы уже который месяц каждый день собираем конверты и открытки. Тут, гражданин, на всех хватит: и на вас и на нас. — На этой улице собираете? — осведомился Холмс. — Почему на этой? У нас их на всех улицах хватает. Мы недавно даже целую сумку почтальонную нашли. Писем там было!.. Шерлок Холмс взволнованно потер руки. — Скорее на почту, — бросил он мне, — нужно немедленно информировать директора о невероятном преступлении, ежедневно творящемся таинственной преступной рукой. Не хотел бы я быть на месте этого несчастного директора почты. Вдруг такое известие сваливается на голову.
* * *
— По некоторым причинам, которых нам пока не хотелось бы объяснять, разрешите, сударь, не раскрывать своего инкогнито, — заявил несколько торжественно Холмс, крепко пожимая руку директора почты. — Нам было бы очень интересно получить несколько разъяснений по чрезвычайно интересующему нас вопросу. В ответ директор почты вяло поморгал глазами, что, очевидно, должно было означать согласие. — Не будете ли вы настолько любезны сообщить, имеются ли среди письмоносцев вверенной вам конторы люди, носящие фамилию, начинающуюся на букву «В»? Директор задумчиво почесал затылок, беззвучно зашевелил губами и, глубоко вздохнув, отрицательно качнул головой. — В таком случае, разрешите узнать, не приходилось ли вам слышать о каком-нибудь подчиненном вам нерадивом письмоносце? О человеке, который, я сказал бы, недостаточно внимательно относится к своим обязанностям и даже иногда задерживает доставку писем адресатам? Не исключены и случаи пьянства с его стороны. — Разве всех упомнишь, — ответил директор почты, сладко потягиваясь в кресле. — Конечно, приходилось слышать. Случается, не только задерживают, а и вовсе не доставляют писем. — Мне бы не хотелось вас огорчать, гражданин директор, — сказал Шерлок Холмс и извлек из кармана пиджака подобранную на улице корреспонденцию. — Нашли на улице? — спросил директор, спокойно взглянув на груду грязных конвертов и открыток. — Занесите их завтра к моему заместителю. Он их просмотрит и, пожалуй, разошлет адресатам… Холмс оторопело посмотрел на невозмутимого директора. — Позвольте, — вскричал он, — да знаете ли вы, что на новороссийском вокзале найден целый чемодан недоставленных анапских писем? — А известно, кто сдал чемодан? — неожиданно взволнованно спросил директор. — Какой-то мифический Вейкшта. — Ах, Вейкшта, — облегченно вздохнул директор, — ну, слава богу, он уже у нас сейчас не работает. Ишь ты, сукин сын, — с восхищением добавил он, — значит, говорите — целый чемодан? Вот здорово! То-то он мало задерживался на работе. Значит, он все время письма не относил, а складывал в чемодан, а потом, когда уволился со службы, уехал в Новороссийск и сдал чемодан на хранение. Ай да он! — Значит, это не вымышленная фамилия? А нельзя ли узнать?.. — Да чего вы ко мне с вопросами пристали? Шерлоки Холмсы драные! — окрысился вдруг директор почты и подозрительно посмотрел на нас… Когда мы вышли из комнаты, Шерлок Холмс, зябко подняв воротник пиджака и надвинув на лоб шляпу, спокойно закурил и чуть дрогнувшим голосом сказал: — Ну вот и кончилась, дорогой мистер Ватсон, моя карьера. Хватит. Дряхлеть начал. Да не возражайте, милый доктор, я это решил окончательно. Подумать только, взяться с серьезным видом за расследование преступления, о котором директор почты говорит совершенно спокойно, как об обыкновенном явлении… — Да ведь учтите, Шерлок, что это не обыкновенное, не нормальное учреждение. Ведь это почта, — попытался я возразить. — Не придумывайте для меня, милый доктор, смягчающих обстоятельств. Я должен был сразу учесть, что имею дело с ведомством связи. Стар я уже стал, доктор. За окном благоухала чудесная субтропическая летняя ночь. Трещали цикады. Торжественно шумело море. И о чем-то задумчиво пели черные нити телеграфных проводов. — «Шерлоки Холмсы драные», — вспомнил великий сыщик слова директора почты, грустно улыбнулся и принялся насвистывать скрипичный концерт Мендельсона.
 Новелла тайн
Моралисты, критики и аналитики
Новелла тайн
Моралисты, критики и аналитики
Владимир Тихонов СЫЩИК
I
— Ну, так что ж? Ну, увлекается! Ну, и пусть себе увлекается! Хуже было бы, если бы в его возрасте, да он ничем не увлекался, — говорил седой, как лунь, но бодрый и свежий еще отставной генерал, Лев Сергеевич Буртасов, сидя на веранде своего деревенского дома и покуривая послеобеденную сигару. — Да, но тут именно вопрос в том: чем увлекаться? — сдержанно возражал ему Александр Львович, его сын, очень корректный господин лет сорока, одетый в новенький летний костюм. — Увлечение увлечению — рознь, — как эхо своего мужа, отозвалась полная и еще красивая жена его, Лидия Николаевна. — Совершенно верно-с! Совершенно верно-с! — начал опять генерал. — Я и мои сверстники, в его возрасте, увлекались «казаками и разбойниками»; ваше поколение — героями Майи-Рида и Фенимора Купера, а сын ваш… — Я никогда не увлекался «краснокожими братьями» и даже в играх не любил снимать скальпы, — улыбаясь, проговорил Александр Львович, кладя докуренную папиросу в стоявшую возле него пепельницу. — Что ж, очень жаль! — буркнул генерал и хлопнул три раза в ладоши. — Принеси еще чашку кофе! — приказал он выскочившему из дома на этот сигнал мальчику в ливрейной куртке. — Что ж? Одно только могу сказать, — очень жаль, — заговорил он опять, — что ты никогда ничем не увлекался. Увлечение так же свойственно молодости, как не свойственно оно старости. Но мы говорим не о тебе, и я повторяю: пусть Левушка увлекается! Не бойтесь этого, это хороший признак. — Но я опять скажу, увлечение увлечению — рознь, — повторил уже слова жены Александр Львович. — Ах, черт возьми! — уже рассердился старик. — Да что же постыдного в его увлечениях? Вот, моим героем был Ринальдо Ринальдини[15], а героем Ивана Михайловича еще того хуже — свирепый Шиндерганнес[16]. Ну, и что же? Это не помешало мне честно сослужить мою службу царю и отечеству, а Ивану Михайловичу сделаться не только одним из самых блестящих генералов, но и видных администраторов. И чем же его герой хуже… как его там зовут? — Шерлок Холмс! — подсказала Лидия Николаевна. — Ну да, так вот, этот Шерлок Холмс, ну чем же он хуже Шиндерганнеса? — Detective, — вздохнула Лидия Николаевна. — Сыщик, — в тон ей проговорил ее муж. — Ах, все это слова, слова и слова! Ну, что такое detective, сыщик? А твой фениморовский «Следопыт?» Разве не такой же сыщик? — горячился генерал, обращаясь к сыну и совершенно забывая, что тот только что отрекся от всех куперовских героев. — Я вот прочитал этот роман, который вы отобрали у Левушки, как он там… черт его… называется? «Собака» какая-то. Ну, и что ж, ну, и нашел, что этот Шерлок Холмс прямо-таки молодчина! Умный, ловкий! Да этого мало! Еще и храбрый к тому же. — Да, в современной Англии detective является героем! — вставил Александр Львович. — Что ж такого? Раз разрушители порядка могут быть героями, то почему же охранителей его не считать таковыми же? — Сыщик и герой — как-то плохо вяжется одно с другим, — с презрительной гримасой проговорил Александр Львович. — Ах, господа либералы! Господа либералы! Какие же вы все, однако, консерваторы! — буркнул старик и сердито принялся размешивать сахар в поданной ему чашке кофе. — Для вас ярлычок, кличка — это все! Надели вам на глаза шоры, и не смей смотреть ни направо, ни налево! И как мало кличек-то у вас, как мало ярлычков! Удивительно это облегчает дело! Да, но и суживает мысль! Не забывайте вы этого, пожалуйста! Суживает мысль! А мысль должна быть свободна! Вот что-с! — Кто же с этим спорит? — усмехнулся сын. «Ты споришь», — хотел было сказать старик, но махнул рукой и замолчал. — Видеть в ребенке развивающуюся страсть к раскрытию тайн — крайне несимпатично! — медленно заговорила Лидия Николаевна. Но генерал не дал ей договорить. — Пытливый ум! Пытливый ум — вот и все-с! — почти закричал он. — Что такое раскрытие тайн? Все мы должны стремиться к раскрытию тайн природы, тайн непостижимого, тайн неведомого, тайн просто даже незнакомого нам. Это только свидетельствует, что у мальчика пытливый ум — вот и все! — Ну, с этим пытливым умом можно далеко дойти! — усмехаясь, заметил Александр Львович. Генерал сердито взглянул в его сторону и опять замолчал. Наступила довольно томительная и долгая пауза, как это часто бывает у собеседников, не понимающих друг друга; а они, т. е. старый генерал и его сын, видный петербургский чиновник, вместе с его женой, видимо, совсем не понимали друг друга. Старик чувствовал, что он горячится, и, желая перевести разговор на другую тему, навел ее опять на тот же вопрос. — Я не понимаю, — заговорил он, поглядывая на старый, тенистый сад, развертывавшийся сейчас же перед верандой. — Не понимаю, зачем вы отказали этому англичанину? Он мне очень нравился. Бравый малый! — С этим я не спорю, — сказал Александр Львович, — но, во-первых, мы ему не отказывали, а он сам пожелал вернуться в Лондон… — Прибавили бы жалованья, так остался бы! — буркнул генерал. — А во-вторых, — продолжал Александр Львович, пропуская замечание отца мимо ушей, — он был недостаточно образован для своей роли. Левушка растет, и ему нужен более интеллигентный собеседник. — Не знаю, может быть, может быть! Знаю только, что прошлым летом, когда вы гостили у меня, я был им очень доволен. Он выучил Леву ездить верхом, отлично плавать, был с ним постоянно на воздухе, и ребенок замечательно окреп и развился за прошлое лето. А нынче вы моего внука опять мне привезли каким-то заморышем. — Да, мистер Футвой очень хорошо влиял на физическое развитие Левы, но духовное… — начала было Лидия Николаевна. Но на этот раз уже муж перебил ее. — Теперь мы взяли ему русского молодого человека, и я не думаю, чтобы поступили опрометчиво, — заговорил он. — Конечно, русский лучше откроет ему и сущность русской жизни, и сердце русского народа. А его теперешний наставник, Хоботов, сам вышел из этого народа, и беседы его, конечно, для Левушки будут полезнее, чем чтение романов Конан-Дойля. — Может быть, может быть! — как бы сдавался генерал и, допив вторую чашку кофе, он встал и, сказав: «Ну, теперь я пройдусь!» — стал спускаться с веранды в сад бодрой походкой хорошо сохранившегося старика.II
— Де-е-д! — крикнул ему звонкий детский голосок из глубины густой аллеи. Глаза старого генерала заиграли ласковой улыбкой. — Лева-а! — откликнулся он в тон бежавшему к нему навстречу худенькому мальчику лет двенадцати, и сейчас же запел: «Uncle Bill, how do you do?» — I am very well and how are you?[17] — пропел ему в ответ Лева и, подбежав к деду, схватил его за руку. Песенку эту и старика, и внука его выучил петь еще в прошлом году англичанин Футвой, и оба они, сколько бы раз на дню ни встречались, приветствовали неизменно друг друга этими словами. — Ну, что, играешь? — спросил генерал. — Играю, — весело отозвался мальчик. — В «Следопыта»? — Нет, — как-то загадочно улыбнулся Лева и, в такт шагу раскачивая руку деду, пошел с ним рядом. — Ну, а во что же? — спросил тот. — Это только тебе на ухо, — шепнул мальчик и поднялся на цыпочки. — Да не надо! Я и так знаю. — А ну? — В Шерлока Холмса. Мальчик расхохотался. — Ты замечательный угадчик, дед! Из тебя бы вышел прекрасный… — Detective? — договорил за него генерал. — Yes, — подтвердил Лева. Они в это время проходили мимо скамейки, на которой с книгой в руках сидел молодой человек, одетый в простенькую летнюю парочку, Он мельком взглянул на них и опять углубился в чтение. — Каков? — спросил генерал внука, когда они отошли настолько от молодого человека, что он не мог бы их расслышать. — Он хороший, — серьезно заговорил двенадцатилетний Левушка. — Знаешь, дед, он очень честный и серьезный. — А тебе с ним не скучно? — Нет, — ответил, подумав немного, мальчик. — Ну, а с Футвоем веселее было? — Ну! Футвой! Футвой был молодец! Он был такой же маленький, как я. — Как, такой же маленький? — остановил его дед. — Он был ростом выше меня! — Ростом-то он был длинный! Но, понимаешь, он был шалун! И когда он играл со мной, то, понимаешь, играл совершенно так же серьезно, как и я. — А этот не играет? — О, нет! Павел Федорович умный! Да ведь и мне уже пора переставать играть, потому что… Но мальчик вдруг оборвался и, шепотом сказав: «Стой!» — присел на корточки. — Ты что это? — спросил его дед, тоже нагибаясь над чем-то, что рассматривал Левушка. — Ты видишь это? — спросил мальчик. — Вижу. — Что это такое? — Это? Это, кажется, кусок навоза. — Верно, — подтвердил Левушка и, глядя снизу на деда, спросил: — Ну, и что же из этого следует? — Не знаю, — пресерьезно ответил тот. — А видишь ли, из этого следует, что по саду проходил кто-то со скотного двора и занес сюда на каблуке кусок навоза. — Почему ж на каблуке, а не на чем-нибудь другом? — Потому что на этом кусочке навоза есть отпечаток каблука, — объяснял Левушка. — Верно, — подтвердил дед ипотом, как бы сообразив что-то, спросил: — А почему ты думаешь, что со скотного двора? А может быть, это кто-нибудь из деревни был? — Нет, это был со скотного двора, — настаивал Левушка, — потому что деревня отсюда далеко, и навоз должен бы был совершенно просохнуть, а он совсем свежий! А скотный двор в двух шагах отсюда. — Ну, и что же из этого следует? — в свою очередь спросил генерал. — А из этого следует, что его нужно искать в числе лиц, бывших приблизительно в это время на скотном дворе. — Кого «его»? — спросил генерал. — Ах, Боже мой! Ну, конечно, того, кто совершил преступление, — нетерпеливо уже ответил Левушка. — А разве кто-нибудь уже совершил преступление? — Ну, конечно, нет! Но я тебе говорю так, на всякий случай! Как нужно искать, — заключил Лева и, поднявшись на ноги, зашагал опять рядом с дедом, размахивая в такт его рукой. А старик думал: «Пытливый ум и большая наблюдательность! Теперь вот он их развивает на вздоре, на пустяках, а впоследствии — кто знает — как это ему пригодится!» — Послушай, дед! — заговорил мальчик после небольшого молчания. — Скажи, разве это предосудительно быть Шерлоком Холмсом? — Что за вздор! Конечно, нет! — уверенно ответил генерал. — Не будь Шерлоков Холмсов, сколько бы преступлений осталось нераскрытых. И эти люди — они стражи общественного порядка. — А ведь это необходимо, чтобы все преступления были открыты? — продолжал допытываться Левушка. — Конечно, это очень желательно. — Ну, а почему же и папа, и мама, и вот Павел Федорович — все так нехорошо говорят о сыщиках? «Потому что они ничего не понимают», — хотел сказать старик, но не сказал, а оставил этот вопрос Левы без ответа. — Ну, вот, например, кто-нибудь кого-нибудь убил, и я найду преступника, открою его. Ведь это хорошо? — Хорошо, — подтвердил генерал. — Ведь он должен же понести свое наказание? — Должен. — Ну, вот! А папа, мама, и Павел Федорович — все говорят, что это не мое дело. Почему не мое? Чье же это дело? Ведь вон Шерлок Холмс открыл «Собаку Баскервилей» и поймал преступника. И что же, нужно за это его презирать? Ты знаешь, дед, это я тебе говорю из английского романа. Может быть, этого совсем не было, но если б это было, вот совершенно так же, как это написано? Разве detective Шерлок Холмс поступил нехорошо? — Какой вздор, конечно, хорошо! — сказал генерал, чувствуя почему-то, что ему самому на этот раз не хочется продолжать этот разговор. И он, чтобы замять его, сказал: — Ну, а на почту, Лева, сегодня поедешь? — Да, да! Непременно. Мы с Павлом Федоровичем верхом поедем. — Ну, и великолепно! Я тебе письмо дам, которое ты сдашь в конторе. И я думаю, что вам скоро нужно ехать. И они повернули назад.III
От усадьбы Буртасова до уездного городка было всего две с половиной версты, и Лева со своим учителем каждый день около шести часов вечера ездили туда верхом на почту. Первых полторы версты нужно было проехать густым Буртасовским лесом, а последнюю версту дорога шла городским выгоном и огородами. Лева ехал на хорошеньком аренсбургском клеппере[18]. Он ловко сидел в седле, уверенно держал поводья, и его рыжий конек грациозно переставлял свои стройные ноги. Учитель Левы, Павел Федорович Хоботов, грузно сидел на буром, толстогривом приземистом иноходце. Проехав первую версту от усадьбы полной рысью, они переменили аллюр и пустили лошадей шагом. Хоботов снял фуражку и вытирал выступивший у него на лбу пот. А Левушка ехал, как всегда, зорко осматриваясь по сторонам. В лесу было тихо, только меланхолическая трель иволги переливалась где-то в глубине. — А дед сказал, что это хорошо! — как бы отвечая на свои мысли, вдруг заговорил Лева. — Это вы насчет чего? — спросил Хоботов своим молодым, хрипловатым баском. — Я про Шерлока Холмса, — пояснил Лева. — А! Все про то же самое! Да кто ж вам говорит, что это худо? Хороший сыщик такая же необходимая единица в общем порядке управления, как и хороший прокурор, только это непочтенно. — Как, и прокурором быть непочтенно? — удивился Лева. — Нет, я не про прокурора, я про сыщика. Прокурор — это совсем особь статья, — поправился учитель. — Да, почему же сыщиком быть непочтенно? — А потому, что сыщик… сыщик… — подбирая слова и с видимой неохотой говорил Хоботов, — сыщик действует не открытыми средствами, а исподтишка, сам ничем не рискуя… — Ну, уж извините! — горячо перебил его Лева. — Шерлок Холмс всегда рисковал своей жизнью и ничего не боялся — ни опасности, ни смерти! И я не знаю, почему он не почтенный. Да кроме того, дед сказал, что это хорошо, а если он сказал, так это верно, потому что дед самый умный человек на свете. Учитель сдержанно улыбнулся, но ничего не возразить. И они опять поехали молча. Левушка думал про себя: «Если где-нибудь свершится преступление, я непременно его буду открывать: подберу все клочки бумажек, измерю все следы, ничего не упущу, и уж открою! Непременно открою!» И он от души желал, чтобы поскорей совершилось преступление. Они выехали в это время на опушку леса, и весь маленький уездный городок, со своими тремя церквами, был перед ними, как на ладонке. — Ну! Рысью? — спросил Лева, взглядывая на своего учителя. — Пожалуй! — ответил тот и чмокнул губами. И восемь лошадиных копыт дробно застучали но твердой и пыльной дороге. Иноходец учителя шел своей характерной перевалкой; Левушкин клеппер, которого он мысленно не называл иначе, как «Шерлок Холмс», красиво выбрасывал свои ноги, забирая все вперед и вперед. Солнце уже склонялось к западу, но было еще жарко, и воздух стоял неподвижно. Вот начались и заборы огородов и глубокие канавы, прорытые возле них. Левушка посматривал вокруг себя. Одна канавка, прорыв ямку под забором, уходила в глубь огородов. И на нее взглянул Левушка и подумал, что этим ходом человек может проползти совершенно незамеченным. Но вот они переехали маленький мостик над высохшим ручейком и въехали в городок. Миновали соборную площадь и, сделав два-три поворота, остановились у крыльца почтовой конторы. Какой-то мужик подошел к ним и вызвался подержать лошадей. Лева и Хоботов, соскочив с седел и разминая ноги, пошли по ступенькам шаткого деревянного крылечка. Почтовый чиновник в суровом, поношенном кителе, при входе их в контору, почтительно привстал и поклонился. — Его превосходительству два письма, — заговорил он, направляясь к полке, — и вашему папаше тоже-с! И газеты- с. А от вас что-нибудь будет? — Да, вот письмо от дедушки, — сказал Лева, подавая письмо. — Заказное, — прочитал чиновник и, достав книгу, стал выписывать квитанцию. В это время дверь с шумом отворилась, и человек в мундире почтальона вбежал в контору и, не обращая внимания на посторонних посетителей, почти закричал, обращаясь к чиновнику: — Иван Никифорович! Ведь убег! Право слово, убег! — Тише ты! — прикрикнул на него чиновник и потом спросил: — Кто убег? — Да каторжник-то убег! Право слово, убег! Беглый-то! — уже понижая голос, но при этом как-то оживленно улыбаясь, говорил почтальон. — Да ну? — удивился чиновник и даже приостановился писать. — Покарай Бог, убег! Вот, сейчас только! Ух, кутерьма там теперь пошла! Ловить бросились! Страсть! — Это кто убежал? — спросил Хоботов чиновника. — Да один беглый каторжник. Вчера только его к нам доставили, а сегодня должны были уже препровождать дальше, а он вот взял, да и того… Тюрьма-то у нас, действительно, того, рухлядь! — добавил он и длинными ножницами аккуратно вырезал из книги квитанцию. Лева стоял ни жив, ни мертв. Краска ярко выступила на его обыкновенно бледном, худеньком личике, глазенки сверкали. «Я его поймаю! Я его поймаю!» — замелькало у него в голове, и он вдруг начал теребить за рукав своего учителя. — Пойдемте, пойдемте, пойдемте скорей! — нервно шептал он при этом, и слезы нетерпения готовы были брызнуть у него при виде тех медленных, как казалось ему, движений, с которыми учитель укладывал газеты и письма в висевшую у него через плечо сафьяновую сумку. Но Хоботов и сам торопился, и руки у него тоже почему- то дрожали. Простившись с чиновником, они быстро вышли на крыльцо. Мужика, взявшегося подержать их лошадей, и след простыл, но кони их стояли тут же, видимо, наскоро привязанные к забору. Через минуту они уже быстрой рысью ехали по базарной площади. Народ бежал к выезду из города. Бежали бабы, что- то кричавшие на ходу; бежали молодые парни с какими-то странно горевшими глазами; бежали, сверкая босыми пятками, ребятишки, и даже степенные люди, и те трусили мелкой рысцой все в том же направлении. Какой-то франт писарского обличил, в красном галстуке и в сдвинутой на самый затылок белой фуражке, несся, почти не уступая ходу их лошадей. Лицо его было сердито, глаза куда-то жадно смотрели вперед. Люди бежали, что-то кричали и перекликивались между собой, а между ними, с веселым лаем, вертелись неугомонные дворовые собачонки. Стадо гусей, перепуганное этим всеобщим стремлением, широко раскрыв крылья и пронзительно гогоча, удирало в какой-то переулок. Но вот и конец города, вот и выгон справа, а слева огороды. — Куда побежал-то? — приостанавливая лошадь, спросил Хоботов какого-то старика. — Вон, вон, туда! К речке! К лознячку-то, значит! — зашамкал старик. — Вон, где солдатики-то бегут! И он указал рукой на мелькавшие вдали белые солдатские рубашки. — Чего врешь-то? — вмешалась подбежавшая к ним женщина. — К лесу он ударился! Мой Васька сам видел! Прямо к лесу! — Твой Васька? — рассердился старик. — А Матрена-то куда говорила? Небось, к речке! Он ее, небось, чуть с ног не сшиб! Дура! — Сам старый дурак! — огрызнулась баба и вперевалку побежала туда, где белели солдатские рубашки. Левушка, едва сдерживая своего «Шерлока Холмса» и сам дрожа всем телом, внимательно и сосредоточенно выслушивал все эти «показания». Не без удивления посматривал он и на своего учителя. И его лицо, обыкновенно серьезное, даже скучное, было на этот раз как-то странно возбуждено, и по голосу его было заметно, что и он был чем-то взволнован и, что называется, не в себе. — Надо к речке! — вдруг сказал он Левушке и сразу в карьер пустил своего иноходца, забирая вправо от дороги, туда, где мелькали белые солдатские рубашки и куда бежал и весь остальной народ. Левушка поскакал за ним. Вот они перенеслись через высохший ручеек, взлетели на пригорок, и Хоботов повернул еще правее, к какой-то толпе, бежавшей вдали и что-то громко кричавшей. Но Левушка, вдруг охваченный каким-то вдохновением, словно подчиняясь какому-то инстинкту, круто повернул своего клеппера и поскакал почти в противоположном направлении. Хоботов, бывший впереди, не видал этого поворота и скакал один вперед, к речке. А Левушка, приподнявшись на стременах, впиваясь глазами вперед, несся к той дороге, по которой они только что проезжали из усадьбы в город, несся к тем огородам, которые граничили слева городской выгон, к той канавке, которая обратила его внимание. Вот, вот, близко уже и дорога, вот, вот и прясло огородов, вот и канава параллельно с ними, вот сейчас и та канавка, которая уходит вглубь. Левушка натянул поводья, чтоб сдержать своего «Шерлока Холмса», но не успел, клеппер перескочил канавку и боком уперся в самый забор, даже покачнув его. И Левушка замер. У его ног, в канаве, лежал страшный, серый человек. Обнаженная, коротко остриженная круглая голова его была как-то странно повернута. Небольшие, светло-серые глаза с ужасом смотрели на этого мальчика, почти повисшего над ним на своей маленькой, рыжей лошадке. «Он!» — мелькнуло в голове у Левушки, и сердце его мучительно сжалось. Ему стало страшно, но он не мог отвести своего взгляда от этой пары узких, серых глаз, с ужасом и мольбой смотревших на него. Левушка весь дрожал. Он не мог дышать, и вдруг какое-то непреодолимое чувство жалости охватило всего его. А глаза смотрели с ужасом и мольбою. Левушка опустил голову, дернул повод, и «Шерлок Холмс», подобравшись, перепрыгнул обратно канавку… Выехав на дорогу, Левушка осмотрелся. Вокруг не было ни души, только далеко-далеко, возле речки, видно было еще, как бежали люди и кое-где мелькали белые солдатские рубашки. Левушка повернул лошадь к лесу и шагом поехал вперед, по направлению к их усадьбе, как-то весь съежившись и не оборачиваясь назад. Он уже подъезжал почти к самой опушке, когда увидел всадника, скакавшего к нему справа от реки. Всмотревшись, он узнал в нем своего учителя и в то же время почувствовал какую-то странную боль в левой коленке. Левушка взглянул на ногу: брюки у него с этой стороны были изорваны, белье — тоже, и на обнажившемся теле была небольшая ссадина. «Это когда я ударился об забор», — подумал Левушка. На взмыленном иноходце подскакал к нему Хоботов. — А я вас ищу! Куда вы девались? — как-то сконфуженно глядя на мальчика, проговорил он. — Я упал с седла, — с трудом выговорил Левушка. — Ушиблись? — забеспокоился учитель. — Нет. Только брюки изорвал и ногу немножко ссадил. Хоботов посмотрел ему на ногу и укоризненно покачал головой: — Вот видите, как неосторожно! Вам, значит, нельзя еще ездить карьером. Левушка вскинул глазами на учителя и хотел было ему сказать, что он еще никогда не падал с лошади, но, сделав над собой усилие, сдержался и только закусил губку. И они шагом, молча, въехали в лес. — Ну что, поймали преступника? — спросил Лева через минуту, и голос его при этом слегка дрогнул. — Не знаю… нет… не поймали! Не знаю, впрочем… я… уехал… все это вздор! — как-то заминаясь и конфузясь, проговорил Хоботов, потом, помолчав немного, прибавил: — И знаете, лучше всего, если мы не будем об этом особенно рассказывать дома. Лева утвердительно кивнул головой. Вернувшись в усадьбу, они сейчас же прошли в их комнату, и Лева переоделся. Он был очень молчалив и сосредоточен, но Хоботов как-то не замечал этого. За вечерним чаем, впрочем, он нашел нужным сообщить, что сегодня, когда они были с Левой в городе, там из тюрьмы бежал какой-то арестант, и что весь город бросился его ловить, но поймали ли беглого, — еще неизвестно. Генерал посмотрел на Леву и улыбнулся себе в усы. Но Лева не заметил этой улыбки: он молча и задумчиво пил свое молоко.IV
Лева плохо спал всю эту ночь. Его тревожили сны. Ему казалось, что он все время скачет на лошади, вдоль какого-то бесконечного забора, и то и дело задевает об него ногой, а из канавы, которая несется вместе с ним, смотрят на него глаза, полные мольбы и ужаса. И он не боится этих глаз, он только не хочет их видеть, он отворачивается от них. Но куда бы он ни повернулся, глаза, полные мольбы и ужаса, смотрят на него. И вдруг на опушку леса выскакивает Шерлок Холмс. Он маленький, толстый человек, с цилиндром на голове, с гладко выбритым лицом и во фраке. Он растопыривает руки и загораживает Леве дорогу и в то же время длинными-длинными руками хватает лежащего в канаве серого человека за горло и тащит к себе его круглую, гладко остриженную голову, на которой два глаза смотрят с мольбой и ужасом. — Пустите его! — кричит Лева, стараясь отнять у Шерлока Холмса эту круглую голову. Но Холмс хватает Леву за ногу и ногтями царапает ему коленки. — Лева! Лева! — стонет серый человек. — Лева! Лева! — громче раздается в его ушах. Левушка открывает глаза и видит приподнявшегося на своей постели Хоботова. — Лева, повернитесь на бок! А то вы спите на спине и поэтому стонете, — говорит учитель. Лева поворачивается на бок и сейчас же начинает скакать мимо бесконечно длинного забора, а за ним на буром иноходце скачет его учитель. И только это уже не Павел Федорович, а Шерлок Холмс. Цилиндр сорвался с его головы, и вместо фрака у него серый арестантский халат. Вдруг лошадь поворачивает к Леве голову и, сердито оскалив зубы, хочет укусить его. Лева вскрикивает и просыпается. Хоботов громко похрапывает на своей постели. «Я хочу видеть глаза», — думает мальчик и засыпает, и сейчас же видит глаза. Они смотрят на него, полные мольбы и ужаса. — Беги! беги! беги! — шепчет кому-то Лева. — Они побежали к речке. И старик там!.. — Беги, беги, беги! — тоненьким голосом отвечает ему круглая, коротко остриженная голова. Лева открывает глаза. Свет утра пробивается сквозь ставни. «Чили, чили, чили!» — слышит Лева, как чиликают воробьи за окном, на карнизе. «Светает», — думает Лева, засыпая опять, и спит уже спокойно. Но утром Лева встал такой же задумчивый и сосредоточенный. — Ты нездоров? — спрашивает его мама, когда он на веранде пьет молоко. — Нет, ничего, — отвечает мальчик. — А беглого-то так и не поймали, — сообщает немного спустя Леве казачок Степа. — Говорят, он за реку ушел. И Леве почему-то это известие приятно. Он весело бежит через двор к купальне. Но, добежав до реки, он опять задумывается. Это та же самая река, что течет и в уездном городке. Стало быть, «он» ушел туда. И Лева смотрит на широкую пойму, расстилающуюся по другому берегу речки. И Леве делается страшно: а вдруг «он» придет к ним в усадьбу и всех, всех их убьет? Он сейчас же вспоминает маленькие серые глаза, смотревшие на него из канавы. «Нет, он не убьет!» — решает почему-то Лева и чувствует, что какая-то непонятная близость существует между ним и серым человеком с круглой, гладко остриженной головой, и никто на свете не знает об этом. — Uncle Bill, how do you do? — вдруг слышит он за спиной знакомый голос. — I am very well, — начинает было Лева, но, обернувшись и не допев последних слов, бросается к деду. — Ты гулять? — спрашивает он его. — Гулять, — отвечает старик. — Пойдем вместе. И Лева, взяв за руку деда и размахивая ею в такт шага, идет рядом с ним. Некоторое время они идут молча. — Ну, что хорошего? — спрашивает наконец генерал. Лева молчит. — Ты сегодня что-то бледен, — опять заговаривает дед, вглядываясь в лицо внука. — Нет, ничего, — отвечает тот и потом, после небольшой паузы, начинает: — А вчера из тюрьмы убежал преступник. — Знаю, — отзывается генерал. — И его еще не поймали. — И это знаю. А вот будь у нас тут этакий, знаешь, Шерлок Холмс, живо бы сцапали голубчика. Не правда ли, Лева, а? — Нет, не надо! — чуть слышно шепчет Лева. — Чего не надо? — Шерлока Холмса не надо. Дед не без удивления посмотрел на шедшего рядом с ним мальчика. — То есть, как не надо? — повторил он. Но Лева, вместо ответа, поплотнее прижавшись к старику, вдруг проговорил: — Я тебе, дед, должен что-то сказать. — Ну, говори! И они оба приостановились. — Сядем, — сказал Лева, указывая на скамеечку, стоявшую на берегу реки. Лицо Льва Сергеевича приняло озабоченное выражение. Что-то важное почувствовалось ему в тоне ребенка. Он сел на скамейку, а Лева, встав перед ним, сбиваясь и путаясь, рассказал все вчерашнее происшествие. Генерал слушал его, зорко глядя в глаза мальчику. Потом у старика почему-то задрожала нижняя губа и затряслась рука, лежавшая на плече внука. — Дед! Скажи мне, как я поступил: хорошо или худо? — спросил Лева, окончив свой рассказ. Дед сразу ничего не ответил. Он обнял внука, горячо поцеловал его и крепко прижал к груди, и только после этого уже твердо и уверенно сказал: — Хорошо! — Почему же хорошо, дед? Ведь, подумай только!.. — начал было мальчик, но старик прервал его: — Не знаю, почему хорошо, но хорошо! Затем, встав со скамейки, зашагал дальше. Лева шел с ним рядом. Они отошли уже довольно далеко, когда генерал вдруг, совершенно неожиданно, весело расхохотался. — Ты что это? — спросил Лева, не без удивления посматривая на деда. — Да вот, брат! Всегда это так: практика расходится с теорией. Что по теории — хорошо; на практике очень часто никуда не годится. И наоборот. Так-то, брат! — Отчего же это, дед? — Оттого, что теория есть создание ума, а практика сплошь да рядом результат порывов сердца. — А как нужно? — спросил мальчик. — Как нужно-то? Да как тебе сказать? И ум — хорошо, и без сердца жить невозможно… А впрочем, слушайся больше сердца. Оно — умнее. — Умнее ума? — Вот именно, мой голубчик!* * *
В тот же день, после обеда, на веранде, между стариком генералом Буртасовым, его сыном Александром Львовичем и невесткой Лидией Николаевной завязался опять вчерашний разговор. Генерал, впрочем, на этот раз почти не возражал. Он только посмеивался в свои седые усы. — Выбор книг для мальчика в возрасте Левы — вещь крайне затруднительная, — говорила Лидия Николаевна, лениво обмахиваясь веером. — Да, положительно не знаешь, что и давать ему читать, — в тон жены продолжал Александр Львович. — В специально детских журналах печатается такая бездарная чепуха, что более или менее развитого мальчика можно заставить их читать разве из-под палки. Да и они просто портят изящный вкус у детей. А с другой стороны, вот этакие Конан-Дойли направляют их фантазию в совершенно нежелательную сторону. Они начинают увлекаться… — Ну, и пусть увлекаются! — перебил его генерал. — Увлечение свойственно молодо… — Однако! — возразил сын. — Делать себе героя из сыщика Шерлока Холмса, это… — Не беспокойтесь за вашего сына! Никакие увлечения для него не опасны! У него есть славный якорь, который всегда удержит его от всяких нежелательных увлечений. — Какой же это якорь? — спросил Александр Львович. — Честное сердце, — отрезал старик и, надев фуражку, пошел в сад, навстречу бежавшему к нему внуку. 1902
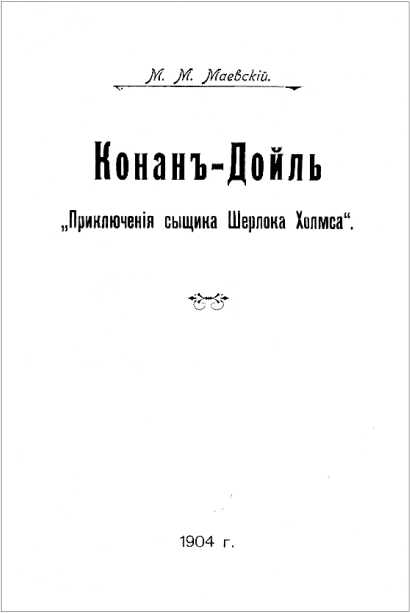 Михаил Маевский
КОНАН-ДОЙЛЬ
«Приключения сыщика Шерлока Холмса»
Михаил Маевский
КОНАН-ДОЙЛЬ
«Приключения сыщика Шерлока Холмса»
Рецензия.
Конан-Дойль: «Приключения сыщика Шерлока Холмса».
Взявшись за эти рассказы о подвигах следствия и розыска преступлений, я отнесся к ним сначала с некоторым предубеждением; но по мере чтения, все более и более вырисовывались достоинства этого произведения Конан-Дойля, не как художественного, а как горячо, увлекательно и правдиво написанного трактата о методах наблюдения, артистически проведенных в жизнь героем рассказов Шерлоком Холмсом. Эти рассказы — дифирамб в честь логики, в честь изощренной человеческой наблюдательности, воспитанной на богатом житейском опыте. В герое этих рассказов поражает быстрота и поразительная точность выводов, богатство индукции и сила анализа явлений. Прочитав многие страницы этих увлекательных рассказов, невольно приходишь к заключению, что так много в жизни и окружающей нас природе проходит мимо незамеченным, потому что, к сожалению, система нашего школьного обучения не приучила нас, в достаточной степени, к строгой дисциплине внимания и не развила всех богатств способности наблюдать, долго держа нас вдали от природы и действительной жизни. Разносторонняя теоретичность несколько оттеснила на задний план методы и уменье непосредственно наблюдать. Самый главный учитель наблюдать и многое видеть — природа — показана была нам только издали.
Итак, самое главное, что заинтересовывает нас в указанных рассказах Конан-Дойля — это ярко обрисованный метод наблюдения. В чем же заключается сущность наблюдения? Условиями его должны быть: 1) хорошо развитое внимание, способность во всякую данную минуту схватить наибольшее количество явлений, способность ясно, быстро и отчетливо воспринимать ощущения от окружающей нас природы, быстро комбинировать их в образы, а затем в понятия. Чем более понятий, тем больше запас нашего ума. 2) Острота запоминания, а затем и воспроизведения явлений в нашей памяти в том порядке по месту и времени, в каком эти явления зафиксированы памятью, 3) Быстрота и богатство ассоциации, способность быстро проводить через поле апперцепции длинные ряды образов, схватывая конец цепи ассоциируемых образов. Чем богаче память, тем обильнее и разностороннее выступают в нашем сознании образы, вызванные каким-нибудь явлением путем ассоциации. 4) Способность обобщения и количество общих суждений, оперируя с которыми, мы создаем богатство выводов и в той или иной степени познаем отношение явлений в окружающем нас мире. 5) Наивозможно полное уяснение причинности явлений. Путем накопления фактов, путем критической оценки их, мы должны приобрести наиболее изощренное умение видеть неизбежную и органическую зависимость одного явления от другого, руководствуясь правилом «ех nihilo nihil fit, — ничто не бывает без перемен в предшествующих обстоятельствах». Наблюдая ряд повторяющихся совпадений, мы ожидаем повторения этих совпадений. Раз эти совпадения повторяются, мы устанавливаем единообразие явлений. Если то или другое соединение или совпадение повторялось в пределах нашего опыта, то мы начинаем ожидать, что оно будет повторяться и впредь, и получаем уверенность, что оно встречалось и вне сферы нашего опыта (Минто). Недостаточно внимательное исследование причинности явлений может легко повести нас к ошибкам, когда мы допустим себе смешать простую последовательность с причинной зависимостью явлений. Иногда мы случайно можем впасть в заблуждение, принимая, что: post hoc, ergo, propter hoc[19]. К заблуждениям может привести изучение явлений не на личном наблюдении, а на суждении с чужих слов, при недостатке опытом проверенных положений и т. д. На богатстве общих суждений и на широком и точном познании причинности явлений основывается возможность и богатство умозаключения, которое есть не что иное, как наиболее полное и ясное установление связи между причиной и следствием в ряде последовательных явлений, в подведении частного под общее.
Останавливаясь на следствиях Шерлока Холмса, мы видим в них яркие доказательства прекрасного уменья наблюдать, редкую способность сосредоточиться своим вниманием на определенной группе явлений, богатство ассоциации, быстроту и правильность умозаключения, поразительную остроту соображения. Его богатая память закрепляет все то, что освещает его внимание; он подмечает и запоминает массу мельчайших явлений, обыкновенно ускользающих от внимания. Идя по улице, он подмечает все подробности улицы, видя пред собой человека, он сразу, с первого взгляда, изучает подробности фигуры, костюма и старается заключить, по особенностям костюма, цвету кожи и манере держаться, об общественном положении, о профессии данного лица. Для увеличения своего опыта, он изучает все, с чем ни придет в соприкосновение, изучает тщательно, добиваясь наиболее полного выяснения причин данного явления. Для суждения о характере людей, он изучает влияние человека на предметы его обихода в том предположении, что всякий человек налагает на предмет повседневного обихода свой индивидуальный отпечаток. Взглянув на вещи, которыми обладает данное лицо, на костюм, который он носит, можно с некоторой долей вероятности говорить о некоторых сторонах характера и наклонностей этого лица. Позволю себе указать на один из хороших примеров, во множестве рассеянных по всем рассказам, на характеристику, сделанную Холмсом по часам[20]. Холмсу было предложено сообщить характеристику г-на N по карманным часам. Я приведу отрывок рассказа. Холмс «взвесил часы на руке, пристально посмотрел на циферблат, открыл крышку и осмотрел механизм сперва невооруженным глазом, затем через сильное увеличительное стекло. Когда он захлопнул, наконец, крышку, с унылой физиономией и передал их мне (д-р Ватсон), я с трудом удержался от улыбки. Здесь мало исходных пунктов, заметил он. Часы были недавно в чистке, что меня лишает наиболее характерных признаков. Совершенно верно, заметил я, они были вычищены, прежде чем их прислали мне. Холмсу, как мне тогда показалось, нужен был этот пустячный предлог, чтобы скрыть свое поражение, потому что какие же исходные пункты он мог найти у невычищенных часов? Исследование хотя и неудовлетворительное, но все-таки не бесплодное, — продолжал он, уставившись тусклыми мечтательными глазами в угол комнаты.
Не ошибусь ли я, если скажу, что эти часы принадлежат вашему старшему брату, который унаследовал их от отца?
— Вы заключаете это, без сомнения, из инициалов Г. В. на крышке.
— Совершенно верно. В. — это инициал вашей фамилии. Судя по цифровой дате, монограмме почти пятьдесят лет, так что она так же стара, как и часы. Следовательно, последние были сделаны для прошлого поколения. Ценные вещи обыкновенно переходили к старшему сыну, который большею частью носил имя отца. Так как ваш отец, насколько мне известно, умер много лет тому назад, то ваш старший брат и имел с тех пор эти часы. — Пока все верно, сказал я. — А что вы, кроме того, можете сказать?
— Он был очень распущен в своих привычках — распущен и небрежен. Он получил хорошее состояние, но скоро, однако, все растратил и жил в бедности. Иногда его положение улучшалось на некоторое время, пока он, наконец, не запил. Вот все, что я мог узнать», (стр. 172–174).
Несколькими строками далее приводится и разъяснение того, каким путем Холмс пришел к подобному выводу. «Я вообще никогда не угадываю. Это отвратительная привычка, которая разрушает способность к логическому мышлению. Этот результат кажется вам таким удивительным потому, что вы не следили за ходом моих мыслей и не заметили незначительных признаков, которые могут привести к важным выводам. Каким путем я пришел, например, к заключению, что ваш брат был небрежен? — Рассмотрите хорошенько крышку от часов. Вы заметите, что она не только сдавлена в двух местах, но вся в шрамах и царапинах, — это является следствием привычки носить в одном кармане вместе с часами другие твердые предметы, как-то монеты, ключи и т. п. Но тот, кто обращается таким образом с дорогими часами, должен быть небрежным человеком. Для того, чтобы это узнать, не нужно большого остроумия. Точно так же не нужно быть особенно сообразительным, чтобы вывести заключение, что наследник такой драгоценной вещи был вообще хорошо обеспечен. — Содержатели ссудных касс в Англии обыкновенно, как известно, выцарапывают на внутренней стороне крышки заложенных часов номера залоговых квитанций, продолжал Холмс. И вот на этих часах я через увеличительное стекло увидел ни более, ни менее, как четыре таких номера, — доказательство, что ваш брат часто бывал в стесненных денежных обстоятельствах, но все-таки дела его временами поправлялись, иначе он не мог бы несколько раз выкупать свои часы. Посмотрите теперь еще раз на внутреннюю крышку. Вы видите вокруг отверстия для ключа множество царапин — это следствие того, что ключик выскальзывал из рук. На часах трезвого человека вы никогда не заметите таких царапин, но у пьяницы их находят сплошь и рядом. Он заводит часы иногда и ночью, оставляя на них доказательство неуверенности своей руки. Где же во всем этом тайна?» (стр. 175–176).
Только что приведенный отрывок вполне ясно характеризует метод наблюдения и дар наблюдательности, которыми владеет Шерлок Холмс. В этом отрывке вполне ясно раскрывается та точная последовательность мыслей, подчиненная строгой причинной зависимости, последовательность, которая через цепь поразительно быстро ассоциируемых образов скоро приводит к верному конечному заключению. Здесь перед вами поразительная быстрота ассоциации. Подобные только что приведенному примеры обильно рассыпаны по всем рассказам. На страницах 10-й 1-й серии рассказов и на 100-й и 165-й 2-й серии представлены примеры такой же силы и яркости, как и вышеприведенный. Во всех рассказах мы постоянно наталкиваемся на прекрасные примеры индукции, основанной на тщательнейшем изучении мельчайших фактов, в обычной жизни обыкновенно ускользающих от нашего внимания только потому, что они мелки и слабо затрагивают наше внимание. Выше я мельком коснулся способов изучения явлений, с которыми Шерлоку Холмсу приходилось иметь дело. Всякое заинтересовавшее его обстоятельство или явление подвергалось всестороннему изучению, тщательно исследовались все побочные явления данного события, строго устанавливались сходства отношений явлений, исключалось все невозможное, случайное. У Холмса существует странное правило «после того, как отбросишь все невозможное, ищи истину в том, что осталось, как бы невероятным это тебе ни казалось». Принимая, что «жизнь представляет собою громадную цепь причин и следствий, что по каждому звену можно узнать суть целого», Холмс сосредоточивает все свое внимание, все силы своего ума на тщательном изучении отдельных звеньев великой цепи и рассуждает, вооруженный строго проверенными фактами. Он никогда не гадает, не угадывает, не судит по впечатлению, так как способы угадывания и суждения по впечатлению приучают нас к поверхностности, отучают от вдумчивости и сплошь и рядом наталкивают на ложные и излишне поверхностные выводы. Угадывание и ссылка на свидетельство той или иной эмоции без точного и глубокого познания факта вредно отзываются на логическом мышлении. Повседневная жизнь указывает нам, что громадное большинство людей сильно склонны к суждению по впечатлению. Часто отношения между той или иной категорией людей устанавливаются только на основании «первого впечатления», подогретого случайным состоянием и характером эмоций в данную минуту. С каждой страницы на нас смотрит правило — не рассуждать под влиянием предвзятых идей и предрассудков. Предвзятые идеи могут заставить нас искать наличность причинной зависимости явлений там, где ее нет.
Холмс, исследуя известное явление, анализирует массу предшествующих ему явлений и, если хотя одно из них, даже самое незначительное, самое, по-видимому, невероятное не уничтожает данного явления, когда все другие ингредиенты отброшены, то это одно, хотя бы и невероятное явление, считается причиною исследуемого. Всякое сложное явление, где сосуществуют несколько причин, он упрощает, выделяя из этого явления все то, что могло получиться от уже ранее известных ему причин; после этого уже исследует получившийся неизвестный остаток. Шерлок Холмс нигде и никогда не разбрасывается, никогда и ни под каким видом не оставляет нерасчлененным данное обстоятельство, в разнообразии старается видеть единообразие.
Вооруженный богатством наблюдавшихся и тщательно изученных фактов и умеющий быстро и точно разбираться в причинной зависимости их, Холмс в состоянии проявить богатство и разнообразие анализа. Он быстро и точно идет от общего к частностям. Зная только результаты известного ряда явлений, он путем анализа этого результата в состоянии представить себе последовательную смену явлений, приведших к исследуемому результату. Холмс, прошедший стадию синтеза явлений, является блестящим представителем анализа.
Читая увлекательные рассказы Конан-Дойля, нельзя не остановить внимания на том, как обрисована тщательность работы Холмса. Он — не ремесленник, он — одушевленный любовью, вдохновенным влечением творец в своей области. К своему делу он основательно научно подготовлен. В своей области он ученый экспериментатор. От каждого его шага веет глубокой опытностью в наблюдении и хорошо подобранными прикладными познаниями. Любитель в своей профессии, он отнюдь не дилетант, а глубокий ученый. Прекрасно владеет химией, изучает свойства разных сортов табака, изыскивает вернейшие реакции на кровь, работает для судебной химии, изучает яды; занимается психологией. Занимается изучением вопроса о влиянии окружающей обстановки и профессии на внешность человека настолько успешно, что внешний вид данного субъекта дает ему возможность почти безошибочно судить о профессии и привычках и некоторых чертах характера его. Для целей своей специальности он тщательно изучает характер следов, оставляемых разнообразной обувью. По величине следов, ширине шага Холмс имеет возможность судить приблизительно о возрасте и силе владельца шагов. В этом отношении очень демонстративен рассказ «Дом № 3 по Брикстонской улице»[21]. В этом рассказе изучение и людей и экипажа, характер чередования следов дают поразительное заключение о характеристике убийцы.
Холмс подробно изучает казуистику преступлений, так как точное знание казуистики дает возможность более успешно ориентироваться во всяком новом преступлении, ибо изобретательность преступников не настолько велика, чтобы обстановка и способы совершения преступлений от времени до времени не повторялись. Он выдающийся эксперт письма — ни одна буква, ни одна писаная строчка не остается неизученной. Ничтожный клочок бумаги дает ему иногда возможность делать важные выводы и т. д.
Во всяком случае, как я уже в начале упомянул, самое главное достоинство разбираемых рассказов — это ясное, точное и увлекательно изложенное собрание методов наблюдения, тонких и остроумных умозаключений.
Эти рассказы — излишнее средство напомнить нам о важности развития и изощрения внимания, уменья продолжительно сосредоточиться. Прочитав эти рассказы, можно лишний раз воздержаться судить по впечатлению и от угадыванья. Угадыванье бесплодная и вредная затрата сил. Эти рассказы — дифирамб любви и преданности делу, образец полного проникновения в раз избранную область знаний. Холмс не один раз говорит, что гений и талант есть не что иное, как упорный труд; только крайне добросовестная и тщательная подготовка к известной работе делает эту работу гениальной. «Гений есть неутомимая выдержка».
Василий Розанов Из книги «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
«Неужели же так и кончится его деятельная жизнь, посвященная всецело на благо человечества? Ему не хотелось верить, что Провидение уготовило ему столь ужасный конец. Он вспомнил о Гарри Тэксоне, вспомнил много случаев, когда он освобождал от ужасной смерти этого многообещающего, дорогого ему юношу…»Так предсмертно рассуждал Шерлок Холмс, вися в коптильне под потолком, среди окороков (туда его поднял на блоке, предварительно оглушив ударом резины, — разбойник), и ожидая близкой минуты, когда будет впущен дым и он прокоптится наравне с этими окороками. Мне кажется, Шерл. Хол. — то же, что «Страшные приключения Амадиса Гальского», которыми зачитывался, по свидетельству Сервантеса, герой Ламанчский, — и которыми без сомнения потихоньку наслаждался и сам Сервантес. Дело в том, что неизвестный составитель книжек о Холмсе (в 48 стр. 7 к. книжка), — вероятно, исключенный за неуспешность и шалости гимназист V–VI-го класса, — найдя такое успешное приложение своих сил, серьезно раскаялся в своих гимназических пороках и написал книжки свои везде с этим пафосом к добродетели и истинным отвращением к преступлению. Книжки его везде нравственны, не циничны, и решительно добропорядочнее множества якобы «литературно-политических» газет и беллетристики.(«Графиня-преступница»)
Есть страшно интересные и милые подробности. В одной книжке идет речь о «первом в Италии воре». Автор принес, очевидно, рукопись издателю: но издатель, найдя, что «король воров» не заманчиво и не интересно для сбыта, зачеркнул это заглавие и надписал свое (издательское): «Королева воров». Я читаю-читаю, и жду, когда же выступит королева воров? Оказывается, во всей книжке — ее нет: рассказывается только о джентльмене-воре.
Есть еще трогательные места, показывающие дух книжек: «На мгновение забыл все на свете Шерлок Холмс, ввиду такого опасного положения своего возлюбленного ученика. Он поднял Гарри и понес его на террасу, но окно, ведущее в комнаты, оказалось уже запертым… …— А кто этот раненый молодой человек? — Это честный, добрый молодой человек, на вас не похожий, милорд». («Только одна капля чернил»).
Еще, в конце: «— И вы действительно счастливы и довольны своим призванием? — Так счастлив, так доволен, как только может быть человек. Раскрыть истину, охранять закон и права — великое дело, великое призвание. — Пью за ваше здоровье… Вы — утешитель несчастных, заступник обиженных, страх и гроза преступников!». («Одна капля чернил», конец).
Читая, я всматривался мысленно в отношения Шерлока и Гарри, — с точки зрения «людей лунного света»: нельзя не заметить, что, как их представил автор, они — не замечая того сами — оба влюблены один в другого: Гарри в Холмса — как в старшего по летам своего мужа, благоговея к его уму, энергии, опытности, зрелости. Он везде бежит около Холмса, как около могучего быка — молодая телушечка, с абсолютным доверием, с абсолютной влюбленностью. Холмс же смотрит на него, как на возлюбленного сына, — с оттенком, когда «сын-юноша» очень похож на девушку. Обоих их нельзя представить себе женатыми: и Гарри, в сущности — урнинг, и Холмс — вполне урнинг:
Crimen
Оно — есть, есть, есть!!!.. Есть как особое и самостоятельное начало мира, как первая буква особого алфавита, на котором не написаны «наши книги»; а его, этого преступного мира, книги все написаны «вовсе не на нашем языке». И, помню, я ходил и все думал: crimen! crimen! crimen! «Никогда на ум не приходило…» И мне представился суд впервые, как что-то необходимое и важное. Раньше я думал, что это «рядятся» люди в цепи и прочее, и делают какие-то пустяки, не похожие на дела других люден, и что все это интересно наблюдать единственно в смысле профессий человеческих. Нет. Вижу, что — нужно. Дело.
![]() src="/i/0/435500/i_012.jpg">
Дмитрий Березкин
СОВРЕМЕННЫЕ КУМИРЫ
Очерк современной сыщицкой литературы
Речь к учащемуся юношеству
src="/i/0/435500/i_012.jpg">
Дмитрий Березкин
СОВРЕМЕННЫЕ КУМИРЫ
Очерк современной сыщицкой литературы
Речь к учащемуся юношеству
«Криво да косо не будет ровно».Кто в наше время не слыхал о Шерлоке Холмсе, Нате Пинкертоне, Нике Картере, Путилине и других «знаменитых» и «величайших» сыщиках? Кто не читал или не видал на сцене, как эти сыщики, несмотря на все чудовищные ухищрения и козни не менее знаменитых «воров-аристократов» и иных «героев» темного преступного мира, вроде лорда Листера, Арсена Люпэна и Лейхтвейса, всегда удивительно счастливо и удачно раскрывают самые таинственные преступления, неутомимо преследуя их виновников по всем уголкам земного шара и выходя целыми и невредимыми из самых, казалось бы, невозможных положений? Тощенькие, маленькие книжечки из плохой бумаги, с ярко и грубо раскрашенными обложками, повествующие об «удивительных» подвигах и приключениях этих вымышленных досужей фантазией виртуозов сыска и преступления, в какие-нибудь два-три года буквально заполонили собой книжный рынок. Попробуйте заглянуть, напр., в сумки газетчиков и книгонош, в книжные шкафы железнодорожных станций, на прилавки и полки не только книжных магазинов средней руки, но и писчебумажных и даже табачных и мелочных лавок и ларей, — и пред вами одинаково всюду замелькают они, эти пестрые книжки с сенсационными «сногсшибательными» заголовками вроде: «Тайна красной маски», «Кровавые драгоценности», «Двенадцать мертвых сердец», «Дом семи дьяволов», «Человеческая бойня», «Школа убийц» и проч, и проч. Перечислить, хотя бы приблизительно, даже выдающиеся только номера этой современной авантюрской литературы решительно не представляется никакой возможности: их не десятки, не сотни, а тысячи. Каждый грядущий день родит все новые и новые выпуски, и все эти выпуски одинаково по-своему «выдающиеся». Для их фабрикации на наших глазах выросли специальные издательские фирмы, в целях рекламы и сбыта раскинувшие своих представителей чуть ли не по всем городам матушки-Руси. От этих представителей в главные конторы их фирм то и дело летят заказы выслать то «серию Дацара», то «серию Пат Коннера», то «серию д-ра Кварца», «Мутушими», «Лейхтвейса» и проч. И главные конторы работают, шлют. Из недр их складов каждый почти день эти «серии» всевозможной шерлоковщины и пинкертоновщины целыми громадными кипами плывут по всем направлениям, проникая в самые отдаленные уголки, до затерявшихся в глухой таежной тайге деревушек включительно. О том, насколько велик в настоящее время сбыт произведений сыщицкой литературы, можно судить уже по тому, что, по официальным только данным, ее расходится в одном лишь Петербурге около семи с половиной миллионов книжек в год. За один лишь августа месяц прошлого года, когда пред началом ученья типографии бывают заняты, обыкновенно, главным образом печатанием учебников, в Петербурге было напечатано 898.710 экземпляров сыскных брошюр, вес которых равнялся 2.488 пудам 17 фунтам. Можно судить, поэтому, каково же общее, обращающееся среди российских обывателей, количество этих брошюр! Надо полагать, что это количество, если принять во внимание число брошюр, напечатанных не за один только, сравнительно «тихий», август месяц, а и за все месяцы года и не в одном только Петербурге, а и в Москве, Варшаве, Одессе и других городах России, а также — число брошюр, вывезенных в готовом виде из-за границы и, наконец, полученных в наследство от трех-четырех предшествующих лет, — будет умопомрачительно громадно: оно должно выразиться уже не десятком, а десятками миллионов экземпляров. Десятки миллионов экземпляров! Но ведь это — настоящее безбрежное море, настоящий книжный потоп! И, — спрашивается, — чего? Полуграмотных рассказов о том, как один человек вполне сознательно и хладнокровно совершает всевозможные мерзости и зверства, а другой охотится за ним, точно за красным хищным зверем и, после целого ряда до нелепости фантастических приключений, наконец, настигает его, хватает, сажает в тюрьму, стреляет, колет, рубит, режет без всякой жалости и милосердия. Обман, воровство, подлоги, бесчеловечная жестокость, разврат… И — кровь, кровь… И что особенно знаменательно и грустно, так это то, что это кровавое книжное море сыска и преступления, вздувшееся на наших глазах и при нашем высококультурном «благосклонном» попустительстве, на наших же глазах постепенно и невозбранно захлестнуло своей безобразной мутью не одни лишь дворницкие и швейцарские, а и наши школы, наше учащееся юношество. Присмотритесь внимательно к тому, что читает последнее, — и вы, наряду с прекрасными книгами, нередко встретите все те же пестрые книжки о Шерлоке Холмсе, Нате Пинкертоне, Нике Картере и проч. Вместе с тем, вы подметите, что рядом со случайным чтением этих книжек (подвернулась, дескать, под руку книжонка — ну, взял да и прочитал, «со скуки» прочитал, «чтобы провести время» прочитал) идет чтение систематическое: книжки с рассказами о преступлениях и сыске читаются именно запойно, любовно, в ущерб умному и полезному чтению. «Когда я приехал в Петербург, — пишет один юноша в ответ на предложенный ему анкетный вопрос, — то мне пришлось читать книжку о Нате Пинкертоне. Я с восхищением прочитал одну книжку и попросил у товарища другую»[23]. «Ради этих книг, — читаем мы в другом ответе, — я бросил другие книги, не смотря на то, что дома не совсем охотно позволяли читать их». «Когда все спят, я зажгу лампу и читаю целую ночь». «Не могу оторваться», «не могу заниматься уроками», «упиваюсь», «испытываю наслаждение», «дочитался до привидений», «стало жутко» и проч. и проч. На вопрос: «Сколько прочитал из сыщицкой литературы?» — один юноша ответил, что прочитал 200 выпусков, другой — 300 выпусков, около сорока заявили, что прочитали около 150 выпусков каждый, 32 указали, что прочитали «много», что означает, во всяком случае, не менее 50 выпусков и проч. Некоторые из учащихся дошли в чтении всевозможной шерлоковщины и пинкертоновщины даже до того, что сделались своего рода специалистами в этой области, наловчившись отличать разные оттенки этих, в общем, однообразных «серий». Так, Путилин, напр., одному ученику нравится больше всех, потому что он «не сразу ловит, как другие, а постепенно». Мало того: вы подметите, что этими книжками увлекаются подчас настолько, что их чтение постепенно начинают считать «полезным» и «нужным», а героев сыска возводят даже в идеалы своей будущей жизни и деятельности. Так, один юнец откровенно заявляет, что книжки о сыщиках он «покупал и будет покупать», потому что считает их «полезными и для мальчиков, и для взрослых». А на анкету об идеалах учащихся, проведенную в октябре 1908 года в 15 классах мужских учебных заведений и 27 классах женских, поступил, между прочим, 31 ответ (24 от учеников и 7 от учениц), в которых «идеалами» выставляются именно или Шерлок Холмс, или Нат Пинкертон, Ник Картер и другие сыщики. К аналогичным же данным привела анкета, произведенная в одном из учебных заведений и в 1909 году. При этом, как в том, так и в другом случае, в некоторых ответах, после восторженного отзыва о личности и «подвигах» сыщиков, прямо и недвусмысленно заявляется: «Мне самому хочется быть Нат Пинкертоном», «Я больше всего хочу быть Шерлоком Холмсом», «Я также хочу раскрывать преступления и отыскивать преступников», «Я также намерен заняться этим делом по окончании курса гимназии» и проч. и проч. Спрашивается: в чем же кроется причина такого широкого распространения сыщицкой литературы в современной нам обществе и что, собственно, дурного в увлечении ею? Простая ссылка на «психическую заразу» является, конечно, общим местом и по существу ничего не объясняет, так как сама «психическая зараза» нуждается в своем объяснении; именно и важно выяснить те болезнетворные условия, благодаря которым эта «зараза» эпидемически усвояется психикой современного нам общества. И нет сомнения, что в ряду таких условий далеко не последнее место занимает общая настроенность нашего времени с его кровавыми ужасами. За последние семь-восемь лет мы столько пережили, сколько люди не переживают обычно за всю свою жизнь. Кровопролитная несчастная война с Японией, обидный для национального самолюбия мир, манифест 17 октября, младые мечты о скороспелом обновлении внутренней жизни России, братоубийственная смута с ее забастовками, безумием восстаний, бесконечным кровавым рядом покушений, экспроприаций и грабежей — все это, естественно, должно было оставить сильный след в душе современных русских людей. Под влиянием, с одной стороны, горького чувства разочарованности и недовольства однообразием и бесцветностью обыденной обывательской жизни, а с другой, — бурной гаммы повышенных чувств и настроений только что пережитого, полного захватывающих кипучих страстей, в душе многих из них, рядом и одновременно с приподнятым до болезненности интересом ко всякой смелой активной личности, безотносительно подчас к ее нравственному облику, и не менее болезненной потребностью самолично пережить с этой личностью настроение нервной, напряженной борьбы, постепенно наслоилась и прочно закреплялась привычка к сильным ощущениям. Эта привычка осталась у них и тогда, когда пенистые валы взбаламученного моря так называемого «освободительного движения» несколько поулеглись. Она видоизменилась лишь со стороны ценности самих возбудителей ощущений, мало-помалу переродившись в так характерную для переживаемого нами времени грубо-эгоистическую жажду сильных впечатлений и безудержную изобретательность всевозможных способов к ее удовлетворению. Эта недостойная жажда у различных людей проявляется различно. Равным образом, различными способами люди и удовлетворяют ее. У одних она сказывается, напр., в похотливом задевании и раздражении тех психологических струн, которые связаны с вопросами половой физиологии, причем эти люди для удовлетворения ее бросаются в порнографию и самый бесшабашный разврат со всеми чудовищно-гнусными его уродливостями, до половой перверзии включительно. Они зачитываются «санинской» литературой, нарасхват раскупают циничные фотографические карточки и «алфавиты любви», идут в «колонии естественных людей» и в различные «Дорефы» и «Лови моменты», неопустительно посещают «вечера красоты» и всевозможные «Variétés», восторгаются в «театрах сильных ощущений» сценами из «Певички Бабинет», «Радий в постели», «Падшей» и проч. и проч. У других эта жажда сильных впечатлений проявляется в создавании и поощрении общественных развлечений, поразительных по своей дикой бессмысленности и жестокости. Точно в эпоху распада могущественной когда-то Римской империи, люди этой категории, с криком «Зрелищ!» идут в различные цирки смотреть или на то, как на головокружительной высоте «человек с железной шеей», накидывая на себя натуральную мертвую петлю, изображает повешенного, или на то, как различные укротители с одним хлыстиком в руках входят в клетки с дикими хищными зверями, маги-престидижитаторы с звонким хрустом перемалывают зубами и глотают стекло, «профессора» атлетики гнут железные полосы, профессиональные борцы «кладут на лопатки» своих менее счастливых соперников, а жокеи-наездники разбивают лбы при скачках «с препятствиями»… У третьих она сказывается в болезненной эксцентричности, претенциозном самомнении и предвзятом желании, наперекор всему и всем, все осуждать, разрушать и вносить с собою всюду беспорядок, свару и скандал. Этих личностей теперь вы можете встретить везде: и в обществе, и на улице, и в семье, и в шкоде. Без них не обходится ни одно общественное собрание, ни одно общественное увеселение. Заметками об их «подвигах» изо дня в день пестреют газетные хроники… Есть, наконец, и такие — и много-много их по нынешним временам! — которые, подобно портному Окоемову из романа Сологуба «Тяжелые сны», любят занимать свое воображение и щекотать свои больные нервы лишь всем таинственно-кровавым, чудовищно-зверским. Им нравятся, напр., только из ряда вон выдающиеся преступления, вроде «Таинственного убийства в Лештуковом переулке», «Дела Александра Кара», «Красной вдовы», «Покойника без головы» и проч. Они смакуют каждую деталь этих отвратительных преступлений, с нетерпением ждут продолжения их описания и поистине с волчьей жадностью набрасываются на свежие номера тех газет, «в каждом номере которых самых разнообразных преступлений хоть отбавляй: читай — не хочу, так что под конец, — как заявляет Окоемов, — и внимания не обращаешь: ну, убил, зарезал, отравил, — тьфу!..» Разумеется, для людей этой категории всевозможная шерлоковщина и пинкертоновщина явилась настоящим кладом, ибо в ней оказалось в наличности решительно все, что им так нравится и чего они ищут: и кровавые зверские преступления, и не менее кровавые и зверские расправы с преступниками, и напряженное до последней степени состязание между преступником и сыщиком в ловкости, хитрости, находчивости, хладнокровии и храбрости, и так любезная им таинственность, загадочность. Неудивительно после этого, что современные Окоемовы с восторгом встретили появление пестрых книжек о сыске и преступлениях, а издатели, своевременно подметившие спрос на эти книжки, с не меньшим восторгом принялись печь их, всячески подделываясь под невзыскательный вкус Окоемовых-покупателей. И чем больше разрастался спрос, тем шире и изобретательнее развивалась и деятельность издателей. Когда рассказы английского писателя Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе, этом, так сказать, родоначальнике и прототипе современных героев сыска, были исчерпаны все и впереди, таким образом, предстояло скучное и плохо оплачиваемое повторение, — по предложению издателей десятки разных анонимных борзописцев со рвением, достойным лучшего применения, принялись сочинять по образу и подобию Шерлока Холмса новых аналогичных героев сыска и преступления, из которых каждый следующий, к несчастью, выходил и грубее, и нравственно-безобразнее предыдущего. Так постепенно за Шерлоком Холмсом появился лорд Листер, этот «вор-джентльмен и артист-любитель», вслед за ним — «вор, авантюрист, мошенник и плут» Арсен Люпэн, а затем — особенно пришедшийся по душе г. Окоемовым «гроза и ужас всех воров, мошенников и плутов» — Нат Пинкертон. За последним же, точно грибы после теплого летнего дождя, как-то разом выплыли на свет Божий из складов издательских фирм — американский Шерлок Холмс, Ник Картер, знаменитый американский сыщик Боб Витией, знаменитый немецкий сыщик граф Стагарт, знаменитый лондонский сыщик Павел Бек, знаменитая сыщица мисс Дора Мирль, «удивительная» сыщица Этель Кинг, грозный судья угнетателей красавец Картуш, знаменитый бандит Лейхтвейс, дневник знаменитого вора Георгия Манолеску и проч. и проч. Действительно, просто «читай — не хочу». Куда глазом ни кинешь, везде он стал встречать все те же пестрые книжки или о сыщиках или о сыщицах разной масти и фасона. Волна вздувалась быстро, пока не затопила, как мы видели, весь книжный рынок. И это дело оказалось далеко не безразличным, как в простоте души полагали родители, воспитатели и вообще — все те, кому своевременно этим делом ведать было нужно. Когда своим наводнением улиц, витрин, прилавков и даже открытых сцен книжки о сыске на каждом шагу стали настойчиво и систематично барабанить по нервам, давить на психику, против воли врываться в сознание, то, по закону сложения стимулов (Вильям Джемс), постепенно и стала создаваться та каленая болезнетворная атмосфера внушения и гипноза, которая медленно, но неизбежно и верно и привела к своего рода психозу, мало-помалу охватившему и не одних уже Окоемовых: книжки о сыщиках стали читаться всеми, и не одними уже только взрослыми, но, как мы видели, и детьми, нашим учащимся юношеством. Наступило поистине какое-то темное, безотчетно-захватывающее эпидемическое увлечение. «Зараза» какая-то пошла, и эта «зараза», к сожалению, отравила своими нездоровыми ядовитыми миазмами не одну светлую юную душу. Грустно, а — факт. Непреложный и глубоко поучительный факт. Дайте себе труд внимательно и беспристрастно вдуматься и учесть то, что дало вам в конечном результате чтение сыщицкой литературы, — и вы сами воочию убедитесь в этом. Вы сами не только со стыдом, но и с тревогой, близкой к ужасу, в конце концов подметите в себе, прежде всего, принижение здорового литературно-художественного вкуса. Вы увидите и вполне признаете справедливость того, что все время, которое вы провели в обществе Шерлоков Холмсов, лордов Листеров, Нат Пинкертонов, Ник Картеров и проч., вы провели в очень дурной компании, — компании не живых, реальных лиц, носителей и воплотителей каких-либо жизненных, идейных начал, не глубоко-продуманных, психологически-правдивых характеров, не типично-красочных и индивидуально-ценных физиономий, а в компании искусственно-придуманных и бульварно-пошлых манекенов, говорящих дубовым бульварным языком. Вы увидите и вполне согласитесь с тем, что во всех рассказах об этих бульварных героях, за исключением разве рассказов Конан-Дойля[24]1, нет ни логической связи фактов, ни постепенного развития действия и постепенного разрешения задачи: все ясно с первых же страниц и все одинаково неправдоподобно и фальшиво, так как опирается в большинстве случаев не на умозаключение от присутствия основания к присутствию следствия и от отсутствия следствия к отсутствию основания, а на невозможное с логической точки зрения умозаключение от присутствия следствия к присутствию основания. Факты нанизываются подчас совершенно несообразно, лишь с целью достижения эффектов лубочного характера. Обыкновенно дело представляется так, что сыщик каким-то непонятным образом или благодаря нелепой случайности нападает на след преступления, но, выслеживая преступников, сам попадается в их руки. Казалось бы, он должен погибнуть, но — нет! — он все-таки вывертывается, выходит из критического положения с помощью самых удивительных и нередко — прямо-таки недопустимых с точки зрения здорового разума средств. Так в одном рассказе передается, напр., о том, как преступники захватывают ненавистного им Нат Пинкертона, привязывают его животом к дулу заряженной пушки, вставляют в последнюю фитиль с зажженным концом и уходят. Казалось бы, — сыщику пришел карачун: связанный по рукам и по ногам, он должен видеть, как постепенно перегорает шнур фитиля и с каждым мгновением все ближе и ближе надвигается на него неумолимая и неминуемая смерть. Однако, Нат Пинкертон, т. е., собственно говоря, не Нат Пинкертон, а автор рассказа, не теряется и не смущается: он просто-напросто заставляет своего героя откусить кончишь языка и выплюнуть его вместе с кровью на горящий фитиль, благодаря чему последний гаснет, и сыщик, таким образом, спасен. Он освобождается, победоносно ловит преступников, сыгравших с ним такую скверную штуку, сажает их в тюрьму, за что и получает условленный гонорар. А так как без языка сыщику обойтись никак невозможно, то автор заставляет врачей приделать ему новый язык — и дело в шляпе. И подобных несообразностей вы найдете целую кучу. Удивительно ли после этого, что художественный вкус, развитие и воспитание которого требуют самого тщательного и внимательного выбора книг, при чтении подобной антихудожественной дребедени невольно притупляется и принижается. Ведь нельзя же, в самом деле, безнаказанно прочесть до 150-200-300 подобных рассказов! Мысль, в силу повторности, невольно привыкает укладываться в такое же больное русло, делать такие же логические несообразности, свыкаться и сживаться с фальшивыми бульварными образами и картинами, выражаться вовне таким же дубовым, бульварным языком. Поистине, в данном случае правы пословицы: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты таков» и «Нет на свете ничего гаже дурной компании»… Но, помимо принижения литературно-художественного вкуса, вы увидите, далее, и нечто более ужасное: вы увидите, как под влиянием чтения сыщицкой литературы постепенно притупляется и извращается нравственное чувство у человека, как последний, питая воображение грязными картинами преступного мира, постепенно и незаметно для самого себя утрачивает отвращение к этим картинам, сживается с ними, капля за каплей впитывает в себя взгляды разных Нат Пинкертонов, лордов Листеров и Арсенов Люпэнов, а при неуравновешенности, болезненной склонности к подражанию, истерии — сам начинает проповедовать то же самое и даже — становиться в их ряды. Да иначе оно, впрочем, и не может быть. Существенно-важный психологический момент всякого чтения, как известно, состоит в том, что воспринятые от чтения образы и картины, даже помимо желания читателя и, что еще важнее, даже помимо непосредственного сознавания им этого, вызывают в нем такой или иной субъективный отклик, такое или иное отношение к себе, возбуждая, по ассоциации, целую гамму соответствующих чувств и настроений. При частом же, а тем более продолжительном и систематическом повторении в чтении одних и тех же образов и картин происходит, если вовремя не дано необходимого противовеса, эмоциональное предрасположение воплотить эти чувства и настроения, как привычные уже, в ряд действий в своей собственной жизни и деятельности. Происходите, одним словом, явление своего рода гипноза, внушения через чтение. И если под влиянием подобного внушения часто меняют свои взгляды, привычки и характер даже взрослые, уже сложившиеся и духовно окрепшие люди, то что сказать о молодежи, увлекающейся, неустойчивой и еще не определившейся! При живости фантазии, она скорее, чем взрослые, может перенестись в условия жизни, изображаемый писателем, сблизиться с этой жизнью, с выведенными героями ее, вступить с ними в живой обмен своими чувствами и настроениями, своими симпатиями и антипатиями. И посмотрите, как, увлеченная общим психозом окоемовщины, реагировала она на образы и картины той жизни, что описывается на страницах пестрых книжек о сыске и преступлениях, и что из этого вышло. Вы увидите, что большинство юношей, увлекшихся чтением сыщицкой литературы, уже на втором — на третьем десятке ее номеров не только привыкает к грязным персонажам ее и не возмущается их преступными свойствами, а начинает даже постепенно, очевидно — по мере проникновения во вкус Окоемовых, — увлекаться их борьбою, сочувствовать им, дрожать за их участь, живо разделять все их интересы, вместе с ними придумывать новые способы воровства и избавления от опасности и, наконец, с облегчением вздыхать, когда вору или сыщику удаются их кровавые, зверские замыслы. На анкету, произведенную в 1909 году, поступили, между прочим, от таких юношей следующие, красноречиво иллюстрирующие только что сказанное, ответы: «Читаю и разделяю взгляды Арсена Люпэна», «эти воры мне нравятся потому, что очень интересно знать, как надо опустошать карманы богатым людям», «нравятся оттого, что умеют обманывать и воровать», умеют «надувать», «ловко укрываться», «нравятся оттого, что они здорово резали, из чего вид-но, что они смельчаки», «отчаянные», «готовы на все», «ни перед чем не останавливаются», «ничего не боятся», «хитры», «скрытны», «ловки», «рискуют своей жизнью», «я сам помог бы им (разбойникам) резать», «сам хотел бы сделаться лордом Листером, потому что имел бы тогда массу денег» и проч. и проч. Из 122 опрошенных 60, т. е. целых 40, 98 %, так или иначе старались подражать сыщикам, 15 (12, 29 %) играли в сыщиков, 12 (9, 83 %) называли себя именами сыщиков и разных преступников, 18 (14, 75 %) «хотели бы» или «хотели» сделаться ими, а 2 (1, 63 %) так даже пробовали быть таковыми. При вышеупомянутой анкете об «идеалах учащейся молодежи» выяснилось, что сыщики и разные архиплуты оказались более привлекательными и дорогими, чем даже отец, мать, другие родственники, чем выдающиеся ученые (Сократа, Брем, Менделеев, Юнг и др.), многие талантливые беллетристы-писатели (Гоголь, Тургенев, Крылов, Кольцов, Грибоедов, Достоевский, Чехов, Виктор Гюго, Гете и др.), многие обессмертившие себя в истории разных народов венценосцы и исторические деятели (Александр Македонский, Перикл, Цезарь, Ярослав Мудрый, Владимир Святой, Александр Невский, Ими. Александр II, Гарибальди, адм. Ушаков, Нахимов и др.), знаменитые изобретатели (Эдиссон), художники (Рафаэль, Репин), композиторы (Бетховен, Шопен, Римский-Корсаков), путешественники (Колумб, Магеллан, Пржевальский, Нансен, Стенли и др.), филантропы (доктор Гааз) и проч. и проч. Даже, страшно сказать, Сам Господь и Спаситель наш И. Христос, по безумному суду сбившихся с толку юношей, оказался ниже, малоценнее героев сыска, так как назван «идеалом» всего 4 раза, между тем как Шерлок Холмс — 12 раз (больше на 8 раз) и Нат Пинкертон — 7 раз (больше на 3 раза). Из сказанного с очевидностью явствует, что под ядовитым смрадным влиянием рассказов о разных «кровавых» героях сыска и преступления в юных душах перевернулись решительно все понятия: удаль, ловкость, обман, воровство, убийство и другие «качества» сыщиков и преступников оказались выше и желаннее, чем Божественная правда, любовь, милосердие, мудрость, самопожертвование, сострадание и проч., т. е., говоря иначе, они, эти безнравственные «качества», настолько овладели психикой юных, неуравновешенных читателей, что сделали их буквально глухими и слепыми относительно самых элементарных этических понятий. Точно зачумленные, они утратили всякое различие между добром и злом. По крайней мере, порок, как нечто мерзкое, гнусное, постыдное, уже не существует, ибо он не только не вызывает уже отталкивающих или так называемых «репульсивных» эмоций, а напротив — тянет к себе, тянет как нечто именно будто бы хорошее, чуть не добродетельное: его оправдывают, сочувствуют ему, восхищаются им, ставят целью своей будущей жизни и деятельности. И подумать только, что это происходит тогда, когда закладываются еще первые основные камни в фундамент духовной личности! Ясно, какую страшную опасность для развития нравственного характера учащихся представляет из себя эта пестрая, сплошь пропитанная грязью порока, клинически-патологическая окоемовская литература… Но и это не все. Оглянитесь внимательно кругом, — и вы с ужасом заметите, что сыщицкая литература, развращая ум и сердце своих экспансивных читателей, методически развращает и их волю, толкая на путь сыска же и преступления. Вы увидите, как зачитавшийся сыщицкой литературой юноша, в силу присущей ему способности и склонности к подражанию, начинает постепенно стремиться выразить охватившие его чувства восхищения и преклонения пред своими кумирами вовне, в таких или иных, приличных и достойных этих кумиров, движениях и действиях, т. е., говоря попросту, переходить мало-помалу от слова к делу, от чтения к воплощению прочитанного в реальной действительности. Просмотрите журнальные и газетные хроники последних пяти-шести лет, — и вы найдете сотни подтверждающих только что сказанное случаев. Вы прочтете в них и о том, как близ Берлина полиция недавно накрыла шайку воров-подростков из 26 школьников (10–14 лет), которые, под влиянием именно воровских и разбойничьих похождений разных Арсенов Люпэнов и лордов Листеров, бросили школу и образовали шайку, долго совершавшую мелкие кражи из лавок в самом Берлине и его окрестностях и грабившую на улицах девушек-школьниц; и о том, как в Иене один юноша, проглотивши разной пинкертоновщины на целых 15 марок (около 7 руб.), застрелил шестнадцатилетнюю девушку, заподозрив в ней важную преступницу. Вы узнаете из этих хроник, что во Франции игра в сыщиков охватила учеников чуть ли не всех средних школ и приняла прямо-таки угрожающие размеры, что там образовались даже партии Ник Картера и Нат Пинкертона, что игры теперешних французских гимназистов имеют своим сюжетом, главным образом, преступления и убийства, и что от игр эти юноши то и дело переходят к действительным преступным похождениям и подвигам. Так, один ученик лицея, председатель школьного общества Пинкертона, украл у кухарки своей матери 40 франков ее сбережений и при этом пресерьезно заявлял, что в его поступке решительно нет ничего дурного, так как он совершил его лишь как «вор-любитель» и проч. На основании тех же источников с грустью отметите вы горькие плоды сыщицкой литературы, выросшие и на русской почве. Урожай их обилен, — не сочтешь… Там одиннадцатилетний мальчик, рассердившись на прислугу, не разделившую его интереса к рассказам про сыщиков, стреляет в нее из револьвера; в другом месте дети, из которых старшему было 14 лет, играя в Пинкертона, устроили примерную смертную казнь, причем подоспевшие взрослые вынули из петли мальчика уже мертвым; в третьем две молоденькие девушки, начитавшись про Пинкертона и решившись «сыграть в анархистов-коммунистов», написали одному богатому купцу требование под угрозой смерти положить на определенном месте и в определенное время 300 рублей, а сами отправились наблюдать, что будет, и попали в руки полиции. В одном губернском городе недавно были арестованы четыре школьника-«вымогателя» в возрасте от 7 до 16 лет; их толкнули на вымогательство, оказывается, их кумиры — лорд Листер, Арсен Люпен и Лейхтвейс. В другом губернском городе полиция недавно же задержала четырех юношей достаточных семей, воспитанников разных учебных заведений, совершавших систематические кражи из передних дантистов. Где-то на юге школьники, начитавшись сыщицкой литературы, устраивали поджоги; где-то образовали настоящую разбойничью банду. В нескольких местах пытались бежать в Америку, эту страну, по преимуществу освященную деятельностью любимых героев… И проч. и проч. Итак, воровство, вымогательства, грабежи, поджоги, убийства и всяческие насилия и зверства, ложь, обман и полное одичанье нравов, а за всем этим — арест, суд, тюрьма, каторга — вот куда приводит в конце концов своих адептов сыщицкая литература… Но — довольно. Картина и без того невесела: кровью и слезами сотен искалеченных молодых жизней веет от нее… И невольно в измученную душу западает тревожный вопрос: где же выход из всего этого и возможен ли он? Ответ может быть только один: выход есть и возможен, и этот выход — общая дружная борьба с клокочущим кругом нас книжным потопом от сыщицкой литературы. И, слава Богу, эта борьба уже начата. Английские газеты сообщают, что Конан-Дойль, ввиду вреда от его рассказов о Шерлоке Холмсе, признал необходимым расстаться с своим героем и теперь работает только над историческими драмами и повестями. Талантливый работник понял, что искусство — громадная сила, и недостойно честного человека обращать эту могучую силу на служение злу, на разжигание в людях дурных животных инстинктов… Начата борьба с сыщицкой литературой и во Франции, и в Германии. Перед нами как раз лежит воззвание дрезденского учительского общества к родителям учеников. И прислушайтесь, каким искренним осуждением «окоемовщине» звучит оно! «Родители! — читаем мы в нем. — Если вы найдете в ящике, в ранце или в кармане вашего сына тетрадки криминального романа, не выбрасывайте их непрочитанными. Прочитайте их предварительно сами, чтоб вам стало ясно, какие мошенничества и гадости, часто соединенные с полнейшей бессмыслицей, рассказываются тут юному читателю. Родители! Сброд заправских сыщиков, заправских воров и бандитов составляет особую категорию людей, которая существуете только в сочиненном мире разбойничьего романа, но не в действительной жизни. Родители! Взрослый человек, обладающий хоть небольшой долей собственных воззрений и хорошего вкуса, отворачивается от этих пошлостей; незрелый же мальчик все принимает за чистую монету, за сущую правду. Стоит ему прочитать несколько таких книжек, чтобы потерять различие между возможным и невозможным. Притупляющим образом действует криминальная литература на юного читателя и отнимает у него внимание и силу для изучения того, что необходимо ему в действительной жизни. Он скоро сделается самым дурным среди своих товарищей, самым ленивым среди своих братьев. Разве может он после этого с пользой и удовольствием прочитать хорошую книгу? Его испорченный вкус отвергнет ее, как скучную, в то время, как неиспорченным детям она послужит источником благороднейшего умственного развития и сердечной радости. Родители! Вы ждете и надеетесь, что со временем ваши сыновья в полном расцвете сил и с здоровыми нервами выступят в жизнь. Ваши сыновья — ваша гордость и ваша надежда, но они должны быть гордостью и надеждой всего народа. Берегите же их от влияния вредного чтения, расшатывающего нервы, затемняющего рассудок и ожесточающего сердце». И подобных воззваний за границей расходятся целые сотни. Их печатают в журналах и газетах, отдельными изданиями рассылают по домам, в виде афиш расклеивают по улицам. Их читают все. Читают и сами юноши и, сознавая правдивую их искренность, понемногу начинают отставать от вредного или, как называют его в Германии — «пакостного» чтения. «Долой окоемовщину!» — правда, еще робко, разрозненно, но все чаще и чаще начинает звучать и у нас на родине. В различных журналах и газетах уже появились более или менее обстоятельные статьи и заметки о вреде шерлоковщины и пинкертоновщины, а из разных мест, и что особенно отрадно и важно: от самих юных читателей, поступают время от времени, как показывают анкеты, такого рода заявления: «теперь читаю меньше, потому что стало надоедать», «стало скучно, потому что все небывальщина», «бросается в глаза явная ложь», «читаю, но редко, потому что там печатают все чепуху», «все старая каша», «все то же самое», «не читаю, потому что нашел более интересное чтение», «нашел более умные книги», «потому не читаю, что считаю вредными для науки», «нужно быть каким-то сверхъестественным существом, чтобы быть таким, каким описывается Нат Пинкертон; почему же не пишут про его неудачи, раз он простой человек», «такого удивительного сцепления обстоятельств, благодаря которому герой постоянно выпутывается из беды без малейшего для себя вреда, не может быть», «не читаю, потому что там есть разные глупости, и сочиняют их люди, которые сидят в тюрьме, и им не дают жрать, и они выдумывают всякую дрянь и пускают в чтение, за что и получают деньги» и проч. Таким образом, под влиянием простого чутья жизненной правды, нарастает волна отрезвления от увлечения авантюрской литературой и в среде самих поклонников этой литературы. Заразный период болезни как будто бы начинает проходить, но выздоровление еще впереди, так как грязные кумиры еще стоят на своих пошатнувшихся пьедесталах… Господа, ускорить выздоровление зависит от вас самих. Для этого нужно только присоединить и ваши дружные усилия к нарастающему повсюду трезвому стремлению свергнуть эти нелепые кумиры окончательно, разбить их, растоптать их, уничтожить своим презрением и осуждением… Проснитесь же! Сбросьте с себя нелепый, навеянный грубо-эгоистической жаждой сильных впечатлений кошмар окоемовщины! Поймите, что он не только унижает и оскорбляет вас: он, как тля, как ржавчина, разъедает все духовное ваше «я» — расслабляет вашу волю, извращает вашу мысль, загрязняет ваше юное благородное сердце. И — обкрадывает вас. Обкрадывает грубо, со взломом, заставляя вас так непроизводительно и с явным вредом для себя расходовать и ваше драгоценное время, и ваши молодые, кипучие силы… Поймите и запомните также и то, что выбор материала для чтения имеет громадное значение для определения всей последующей личности человека. Поэтому выбирайте книгу с разбором и не позволяйте процессу чтения руководить собой, а наоборот — сами руководите им. Глядите, что и как читаете. Если данное произведение доставляет эстетическое наслаждение — это, конечно, хорошо, ибо увеличение числа приятных минут и уменьшение числа неприятных только желательно. Если же это произведение, сверх эстетического наслаждения, может дать и серьезный материал для мысли — это еще лучше. Если же оно, в добавление ко всему сказанному, будит в вас и возвышенное настроение в той или другой форме, — это очень хорошо. Наконец, если оно мощно возбуждает святые, благородные чувствования или вызывает отвращение к диким и низменным — это уже прекрасно. Читайте последнее, — и тогда все эти пестрые книжки о сыске и преступлениях вызовут в вас только чувство омерзения и гадливости, как будто бы вам предложили съесть кусок протухлого мяса или окунуться с головой в грязную, вонючую, кишащую всевозможными паразитами трясину…Поговорка
Корней Чуковский Из книги «НАТ ПИНКЕРТОН И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Вы помните, десять лет назад в Лондоне, в тихой и отдаленной улице Бэкер-стрит, у одинокого камина засел мечтательный и грустный отшельник, поэт, музыкант и сыщик, пленительный Шерлок Холмс. У него артистически длинные пальцы, он меланхолик и, если у него тоска, он либо читает Петрарку[25], либо целыми часами играет на скрипке[26]. Он так хорошо понимает музыку, отчасти он сам композитор. В очерке «Союз рыжих» он спешит на концерт Сарасате и, вы помните, он говорит: — В программе объявлено, что будет немецкая музыка, а я ее больше люблю, чем итальянскую и французскую. Она глубже, а это-то мне и нужно. Весь вечер в безумном восторге сидит он в концертной зале и отбивает такт длинными тонкими пальцами. Он очень образован, написал по химии диссертацию и любит говорить афоризмами. «Опте ignotum pro magnifico»[27], — говорит он и может на память цитировать письма Флобера к Жорж Занд. Да, он сыщик, но он мог бы быть лермонтовским Демоном или Печориным, шпионство не ремесло для него, а — как он сам говорит — протест против жизненных будней, бегство от великой тоски. Закончив один особенно великий подвиг, вы помните, — он говорит: — Это дело спасло меня от скуки. Увы, я чувствую, мной опять овладевает тоска. Вообще, вся моя жизнь — это сплошное усилие избавиться от будничной обстановки нашего существования. Эти маленькие задачки, которые я разрешаю, слегка облегчают мне бремя жизни[28]. Ах, мы так любим Шерлока Холмса. «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес»[29]. В шпионстве он идеалист и поэт. Он шпионит ради шпионства, а не ради славы, не ради денег, не ради наград. Здесь он бескорыстен, как и всякий герой. И когда, после страшного напряжения всех своих сил душевных, после чудес наблюдательности и вдохновенных прозрений, после мучительных прыжков логики он, наконец, распутывает запутаннейшие узлы чужих козней и злодеяний, — как красиво и как величаво передает он тогда все нити от этих узлов бездарному инспектору Лестраду, а сам, тоскующий и одинокий, удаляется снова к себе в уединение на Бэкер-стрит. Он презирает и деньги, и славу, и почести. Пусть все это возьмет себе бездарный полицейский инспектор, а с Холмса довольно собственного величия. Как прекрасен он в такие минуты! Полицейский инспектор с изумлением спрашивает: — Вы не желаете, чтобы в моем докладе по начальству было упомянуто ваше имя?! — Не имею ни малейшего желания. Самое дело служит мне наградой. Бедный полицейский инспектор, ему не понятна душа поэта. Он не читал «Строителя Сольнеса»[30]. Он не знает, что всякий подвиг — есть «вещь в себе». И ему ли понять это гордое слово, обращенное поэтом к поэту:Виктор Шкловский НОВЕЛЛА ТАЙН
1) Можно вести рассказ так, что читатель видит, как развертываются события, и как одно возникает за другим, причем обычно такое повествование будет идти во временной последовательности и без значительных пропусков. В качестве примера можно взять «Войну и мир» Толстого. 2) Можно рассказывать так, что происходящее будет непонятно, в рассказе окажутся «тайны», потом только разрешаемые. В качестве примера можно привести «Стук-стук» Тургенева, романы Диккенса и сыщицкие рассказы, о которых речь будет дальше. Случаю второму часто соответствует временная перестановка. Причем одна временная перестановка, т. е. пропуск описания какою-нибудь события и появление этого описания уже после того, как обнаружились последствия события, часто может служить для создания тайны. Так, например, таинственное появление Свидригайлова у постели больного Раскольникова в «Преступлении и наказании», хотя и подготовлено указанием, сделанным нарочно мельком, о том, что какой-то человек подслушал адрес, но таинственность подновлена сном Раскольникова. Простым неупоминанием того, что Свидригайлов узнал адрес, достигнута таинственность второй встречи. При авантюрном романе, имеющем несколько параллельных линий повествования, эффекты неожиданности достигаются тем, что в то время, когда действие в одной сюжетной линии продолжается, в другой оно может идти тем же, или еще более быстрым темпом, причем мы переходим в другую линию, сохраняя время первой, т. е. попадаем на следствия незнакомых нам причин. Так натыкается Дон-Кихот на Санчо в провале. Этот прием кажется очень естественным, но он является определенным достижением. Греческий эпос его не знает. Зелинский показал, что в «Одиссее» не допускается одновременность действия, хотя и есть параллельные линии фабулы (Одиссей и Телемак), но события совершаются попеременно в каждой линии. Временная перестановка, как мы видим, может служить для создания «тайны», но не нужно думать, что тайна — в перестановке. Например: детство Чичикова, рассказанное после того, как он уже представлен нам автором, в классическом авантюрном романе, конечно, стояло бы в начале, но и перестановка этого описания не делает героя таинственным. Поздние вещи Льва Толстого очень часто построены с неиспользованием этого приема. То есть временная перестановка дана таким образом, что при ней снято ударение с интереса к развязке. В «Крейцеровой сонате»: «— Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, — сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор. — Вы, как я вижу, узнали кто я, — тихо и как будто спокойно сказал седой господин. — Нет, я не имею удовольствия. — Удовольствие небольшое. Я — Позднышев, тот, с которым, случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, — сказал он, оглядывая быстро каждого из нас». В «Хаджи Мурате» казак показывает Бутлеру отрубленную голову Хаджи Мурата, пьяные офицеры смотрят ее и целуют. Потом мы присутствуем при сцене последней борьбы Хаджи Мурата. Кроме того, сама судьба Хаджи Мурата, вся его история целиком дана в образе сломанного, раздавленного, но все еще хотящего жить репейника. «Смерть Ивана Ильича» начинается так: «В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Меловинских член и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом Красинском деле… Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные ведомости. — Господа, — сказал он — Иван Ильич-то умер». В последних приведенных случаях «Крейцерова соната», «Хаджи Мурат» и «Смерть Ивана Ильича» есть скорей борьба с фабулой, чем затруднения ее. Толстому нужно было, вероятно, уничтожить сюжетный интерес вещи, перенеся все ударение на анализ, на «подробности», как он говорил. Мы знаем срок смерти Ивана Ильича и судьбу жены Позднышева, даже результат суда над ним, знаем судьбу Хаджи Мурата и даже, что скажут над его головой. Интерес о этой стороны произведения снят. Нужно здесь художнику новое осмысливание вещей, изменение обычных рядов мыслей, и он отказался от сюжета, отведя ему служебную роль. В этом отступлении я пытался показать разность между временной перестановкой, которая в частном случае может быть использована для создания «тайн», и самой тайной, как определенным сюжетным приемом. Я думаю, что при самом невнимательном рассмотрении авантюрных романов всякий обратит внимание на то количество тайн, которые в них фигурируют. Очень обычны даже названия со словом «тайна», например, «Тайны мадридского двора», «Таинственный остров», «Тайна Эдвина Друда» и т. д. Тайны в авантюрном романе или рассказе обычно вводятся для усиления интересности действия, для возможности двоякого осмысливания его. Романы с сыщиками, представляя из себя частный случай «романов преступлений», возобладали над романом с разбойниками, вероятно, именно благодаря удобству мотивировки тайны. Сперва дается преступление, как загадка, потом сыщик является профессиональным разгадчиком тайны. «Преступление и наказание» Достоевского также широко пользуется приемом приготовлений Раскольникова (петля для топора, перемена шляпы и т. д. даны до того, мы знаем их цель). Мотивы преступления в этом романе даны уже после преступления, являющегося их следствием. В романах типа «Арсен Люпен» главный герой не сыщик, а преступник-«джентльмен», но сыщик дан, как обнаруживатель тайны, введен только мотив опаздывания. Но и «Арсен Люпен» часто работает, как сыщик. Для того, чтобы показать конкретный случай рассказа, построенного на тайне, разберем одну из новелл Конан- Дойля, посвященных приключениям Шерлока Холмса. Для анализа беру рассказ «Пестрая лента», параллели буду брать, главным образом, из той же книги собрания сочинений (т. IV. Собр. соч. изд. Сойкина 1909 г.) для того, чтобы читателю было легче следить за мной, если он задумает сделать это с книгой в руках. Рассказы Конан-Дойля начинаются довольно однообразно: иногда идет перечисление приключений Шерлока Холмса, делаемое его другом Ватсоном, который как бы выбирает, что рассказывать. Попутно даются намеки на какие-то дела, указываются детали их. Чаще дело начинается появлением «клиента». Обстановка его появления довольно однообразна. Вот пример: «Хитрая выдумка». «Он (Холмс) встал со стула, подошел к окну и, раздвинув занавески, стал смотреть на скучную однообразную лондонскую улицу. Я заглянул через его плечо и увидел на противоположной стороне высокую женщину о тяжелым мехом боа на шее и в шляпе с большим красным пером, с широкими полями, фасона „Герцогини Девонширской“, кокетливо одетой набок. Из-под этого сооружения она, смущенно и тревожно, поглядывала на наши окна, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону и нервно теребя пуговицы перчатки. Внезапно, словно пловец, бросающийся в воду, она поспешно перешла улицу, и мы услышали сильный звонок. — Эти симптомы знакомы мне, — сказал Холмс, бросая папиросу в огонь. — Ей нужен совет, а между тем она думает, что данный вопрос слишком деликатного свойства, чтобы обсуждать его с кем бы то ни было. Но и тут бывает различие. Если женщина серьезно оскорблена мужчиной, то обычным симптомом является оборванный колокольчик. В настоящую минуту можно предположить любовную историю, но барышня не так разгневана, как поражена или огорчена. Но вот и она сама является, чтобы разрешить наши сомнения». Вот другой пример: «— Холмс, — проговорил я, стоя однажды утром у окна в смотря на улицу, — вот бежит сумасшедший. Как это родственники пускают его одного… Это был человек около пятидесяти лет, высокий, плотный, внушительного вида, с резко очерченными чертами лица. Он был скромно, но хорошо одет. На нем был черный суконный сюртук, блестящий цилиндр, коричневые гетры и отлично сшитые серые брюки. Но поведение его странно противоречило его лицу и всему внешнему виду; он бежал изо всех сил, по временам подскакивая, как человек, не привыкший много ходить. На ходу он размахивал руками, качал головой и делал какие-то необыкновенные гримасы. — Он идет сюда, — сказал Холмс». Как видите, разнообразия не очень много. Не забудьте, что оба отрывка из одного тома. Но прежде, чем перейти к дальнейшим упрекам по адресу Конан-Дойля, уделим немного места вопросу, для чего нужен доктор Ватсон. Доктор Ватсон играет двоякую роль; во-первых, он рассказывает нам о Шерлоке Холмсе и должен передавать нам свое ожидание его решения, сам он не участвует в процессе мышления Шерлока, и тот лишь изредка делится с ним полурешениями. Ватсон, таким образом, тормозит действие, обращает струю события в отдельные куски. Его можно было бы заменить в этом случае особенным разбитием рассказа на главы. Во-вторых, Ватсон нужен, как «постоянный дурак» (термин этот грубый, и я не настаиваю на введении его в теорию прозы), он разделяет в этом случае участь официального сыщика Лестрада, о котором еще будет речь. Ватсон неправильно понимает значение улик и этим дает возможность Шерлоку Холмсу поправить его. Ватсон мотивировка ложной разгадки. Третья роль Ватсона состоит в том, что он ведет речь, подает реплики, т. е. как бы служит мальчиком, подающим Шерлоку Холмсу мяч для игры. Явившийся к Шерлоку Холмсу человек рассказывает ему обычно с большими подробностями все обстоятельства дела. Если такого рассказчика нет, т. е. Холмс идет по вызову, то он сам рассказывает свое дело Ватсону. Холмс любит ошарашивать своих посетителей всезнанием (то же он делает с Ватсоном). Приемы анализа однообразны: из 12 новелл, которые я разбираю, в трех Шерлок Холмс прежде всего обращает внимание на рукава. «— Тут нет ничего таинственного, — улыбаясь, проговорил он. — На левом рукаве вашей кофточки, по крайней мере, семь пятен от грязи. Пятна совсем свежие. Так забрызгаться можно, только сидя в тарантасе и то по левую сторону кучера». Дальше Холмс говорит: «— У женщины я прежде всего смотрю на рукава. У мужчины, пожалуй, стоит исследовать колени его брюк. Как вы заметили, рукава платья у этой женщины обшиты плюшем — материей, на которой ясно сохраняются следы. Двойная полоса — немного выше кисти, в том месте, где пишущий на машинке надавливает на стол, прекрасно обрисована. Ручная швейная машина оставляет такой же след, но на левой руке и подальше от большого пальца, тогда как здесь полоса проходит по самой широкой части. Потом я взглянул на ее лицо и заметил по обеим сторонам носа следы пенсне. Я и решил высказаться о ее близорукости и о переписке на машине, что, кажется, удивило ее. — Да и меня также». В другой новелле, «Лига красноволосых», Холмс так же огорашивает своего клиента, указав ему, что тот много писал последнее время. «— У вас правый рукав так блестит на протяжении пяти дюймов, а на левом видно вытертое пятно, как раз в том месте, где вы опираетесь о стол». Это однообразие приема объясняется, вероятно, тем, что новеллы появились одна за другой, и писатель не отчетливо помнил, что уже использовано. Но нужно вообще сказать, что самоповторение более обычное явление в литературе, чем принято думать. Прием тайны иногда внедряется в самое тело романа, в способ выражения действующих лиц и замечания автора о них. Я показывал это на Диккенсе. У Конан-Дойля Шерлок Холмс иногда выражается таинственно, таинственность иногда достигается простым обиняком. Государственный сыщик спрашивает, поедет ли Шерлок Холмс на место преступления. «— Очень любезно и мило с вашей стороны, — ответил Холмс. — Но все зависит от барометрического давления… — Я не вполне понимаю вас, — с недоумением проговорил Лестрад». Барометр стоит высоко, и Шерлок Холмс остается в гостинице (в которой ему совершенно нечего делать). Скоро мы узнаем разгадку. «— Барометр все еще стоит высоко, — заметил, он, садясь на стул. — Очень важно, чтобы не было дождя, пока мы не осмотрим место преступления». («Тайна Боскомботской долины»). Таким образом, этот обиняк значит: если не будет дождя. Вставить это место казалось Конан-Дойлю довольно важным, хотя оно и не имеет значения в дальнейшем развитии сюжета. Но для введения его Шерлок Холмс оставлен, как я уже говорил, в гостинице и имеет еще больше основания сердиться, чем прежде: «О, как бы все было просто, если бы я попал сюда раньше, чем все нагрянули сюда, словно стадо буйволов, и истоптали всю местность». Неловкая задержка в гостинице, кроме цели дать Шерлоку Холмсу сострить и высказать свою предусмотрительность, использована еще для возможности внести аналитические разговоры. («Человек с уродливой губой», «Тайна Боскомботской долины», «Голубой карбункул» и т. д.). В случае «Пестрой ленты» рассказ разбивается на два куска: в первой части рассказывается причина преступления, это, так сказать, сводка; во второй — передается самое преступление, при чем очень подробно. Я приведу сейчас в отрывках рассказ девушки о смерти ее сестры из начала рассказа «Пестрая лента». Так как я не пишу сам сейчас рассказа, основанного на тайне, то дам предисловие к показанию. В нижеприведенных отрывках будут даны указания, из которых некоторые рассчитаны на создание ложных разгадок. Другие указания даны не прямо, а так (вскользь: в придаточных предложениях, на них рассказчица не останавливается, но они и есть главные указания). Итак, предупреждаю: отрывок I — матерьял для ложной разгадки; отрывок II — неточное указание на способ совершения преступления; III — в начале этого отрывка в придаточном предложении важное указание на обстоятельства преступления, нарочито данные вскользь. IV — подробности убийства. V — то же. VI — слова убитой даны так, чтобы поддержать возможность ложной разгадки (что будто бы убили цыгане). В начале рассказа идут сведения, показывающие, что отчиму стоило произвести убийство. Это часть мотивировочная. Теперь изложение.I
«Единственные его друзья — бродячие цыгане. Им он позволяет раскидывать шатры на своей земле и иногда живет у них в шатрах и даже уходит с ними на несколько недель».II
«Он очень любит индийских животных, которых ему присылают из Индии. В настоящее время у него есть павиан и пантера, которые бегают повсюду, наводя на поселян страх» (стр. 175).III–IV
«Окна всех трех комнат выходят на лужайку. В эту роковую ночь д-р Ройллот рано ушел к себе, хотя мы знали, что он еще не ложился, так как до сестры доносился запах крепких индийских сигар, которые он обыкновенно курил. Она пришла ко мне и просидела несколько времени, болтая о предстоящей свадьбе. В одиннадцать часов она встала и пошла к двери, но вдруг остановилась и спросила меня: — Елена, ты никогда ночью не слышишь свиста? — Никогда, — ответила я. — Не может быть, чтобы ты свистела во сне, не правда ли? — Конечно, нет. Почему ты спрашиваешь это? — Потому, что вот уже несколько дней, около трех часов утра я слышу тихий свист. Я сплю очень чутко и просыпаюсь от этого свиста. Не знаю, откуда он доносится — из соседней комнаты или с лужайки. Я хотела спросить тебя, не слышала ли ты этого свиста? — Нет. Должно быть, это свистят противные цыгане» (стр. 176).V
«Когда я открыла дверь, я услышала тихий свист, про который говорила мне сестра, а затем звук, как будто от падения какого-то металлического предмета» (стр. 177).VI
«Сначала я подумала, что она не узнала меня, но когда нагнулась над ней, она вскрикнула: „О, Боже мой, Елена. Это была лента, пестрая лента“. Через несколько минут девушка умерла. На теле ее не оказалось никаких следов» (стр. 177). Дело в том, что «лента» в английском языке омоним, т. е. звук этого слова имеет два значения: «лента» и «шайка». Важность существования двух разгадок этого слова видны из последующего разговора. «— А, как вы думаете, что могли означать слова о „ленте“, „пестрой ленте“? — Иногда мне кажется просто бредом, иногда я думаю, что это относится к шайке, может быть, тех же цыган. Не знаю только, чем объяснить странное прилагательное: „пестрая“, если это относилось в цыганам — разве тем, что их женщины носят пестрые платки на голове. Холмс покачал головой о видом человека, далеко не согласного а заключением мисс Стовер». Это использование омонимов обычно для Конан-Дойля, на этом же основано место в «Тайне Боскомботской долины»: «Следователь: Не говорил ли вам отец чего-нибудь перед смертью? Свидетель: Он пробормотал несколько слов, но я понял только, что он поминал о крысе». Холмс дает иное толкование слову. «— Ну, а что же значит слово крыса? — спрашивает его Ватсон. Шерлок Холмс достал из кармана сложенный лист бумаги и разложил его на столе. — Это карта колонии Виктория, — сказал он. — Вчера вечером я телеграфировал, чтобы мне выслали ее из Бристоля. Он закрыл рукой часть карты. — Что остается? — спросил он. — „Эрат“, — прочитал я. — А теперь? — сказал он, отнимая руку. — „Баллэрат“. — Совершенно верно. Вот слово, произнесенное умирающим. Сын расслышал только два последних слога. Покойный старался назвать своего убийцу. „Такой то из Баллэрата“». Таких примеров из одного Конан-Дойля можно было бы привести несколько. Прием этот обычен. Например, разное значение слова в двух языках использовано у Жюль Верна в «Детях капитана Гранта», где таинственный документ, полусмытый водой, разгадывается несколько раз различно в зависимости от того, как решают вопрос о языке, на котором писал путешественник, спрятавший этот документ в бутылку. Истинная разгадка осложнена тем, что писавший использовал для названия места крушения географический синоним (остров Табор). Заинтересовавшиеся вопросом смогут сами подобрать параллели. Как идите, основной вопрос сводится, так сказать, к возможности опустить из одной точки два перпендикуляра на одну линию. Писатель ищет случая совпадения двух несовпадающих вещей по одному признаку. Конечно, и в сыщицких рассказах этот совпадающий признак далеко не всегда слово. У Честертона в его «Простодушии отца Брауна» использовано для создания аналогичной конструкции совпадение вечернего костюма джентльмена с формой лакея. Но не будем уходить в сторону. Такие намеки, дающие предупреждение разгадки и делающие ее более правдоподобной тогда, когда она появляется, довольно часты в «романах тайн». Один из рассказов Конан-Дойля, «Человек с уродливой губой», основан на том, что человек переодевался нищим, чтобы собирать милостыню. Ряд не очень сложно построенных случайностей приводит к тому, что С. Клер арестован под видом нищего и обвинен в убийстве самого себя. Шерлок Холмс производит следствие и создает ложную разгадку. Дело идет о том, что С. Клер не найден, но в канале, недалеко от места предполагаемой гибели несчастного, найден сюртук с карманами, набитыми медяками. Шерлок Холмс строит новую гипотезу. «— Нет, сэр, но этому можно найти объяснение. Предположим, Бун выбросил из окна Клера так, что никто не видел этого. Что же дальше? Наверное, ему пришла в голову мысль, что надо отделаться от улик в виде платья. Он схватывает сюртук и уже готов выбросить его из окна, как вдруг вспоминает, что сюртук не опустится на дно, а всплывет наверх. Времени у него мало, так как он слышит суматоху на лестнице, слышит, как жена С. Клера требует, чтобы ее пустили к мужу, а может быть, и малаец, сообщник его, успел предупредить его о приближении полиции. Нельзя терять ни одного мгновения. Он бросается в укромный уголок, где спрятаны его сбережения, и набивает карманы сюртука попадающимися ему под руку монетами. Затем он выбрасывает сюртук и хочет сделать то же с остальными вещами, но слышит шум шагов на лестнице и еле успевает захлопнуть окно до появления полиции». Это ложная разгадка. Между тем, тождество С. Клера Буну дано уже намеком. При обыске квартиры Буна были найдены следы крови. При осмотре на подоконнике оказались следы крови; капли крови виднелись также и на деревянном полу комнаты. При виде крови мисс С. Клер лишилась чувств, и полиция отправила ее домой в кэбе, так как ее присутствие не могло помочь розыскам. Инспектор Бартон тщательно обыскал все помещение, но ничего не выяснил. Сделали ошибку, что не сразу арестовали Буна и дали ему возможность переговорить с малайцем. Однако, скоро спохватились и исправили эту ошибку. Буна арестовали и обыскали, но не нашли никаких улик против него. Правда, на правом рукаве рубашки у него оказались следы крови, но он показал палец, на котором виднелся порез, и объяснил, что, по всем вероятиям, следы крови на подоконнике являются следствием этого пореза, так как он подходил к окну, когда у него шла кровь из пореза. Мы видим, что порез на руке Буна, установлен здесь косвенно, главное — кровь на подоконнике. Мадам же С. Клер, рассказывая о симпатии, связывающей ее с мужем, говорит: «— При той симпатии, которая существует между нами, я бы почувствовала, если бы с ним произошло что-либо дурное. В тот самый день, когда я видела его в последний раз, он порезал себе палец в спальне. Я была в это время в столовой и бросилась наверх, — так была уверена, что о ним случилось что-то». В этом отрывке упор на том, что мадам С. Клер почувствовала, что ее муж поранил себя, а не на факте ранения. Между тем, получается мотив установления тождества (и С. Клер и Бун имеют порез на пальце). Но элементы совпадения даны в несовпадающих формах. Здесь цель не дать узнавание, а сделать его правдоподобным после: Чехов говорил, что если в рассказе сказано, что на стене висит ружье, то потом оно должно стрелять. Этот мотив, данный с напором, переходит в то, что называют «обреченностью» (Ибсен). Это правило в обычной своей форме действительно соответствует общему правилу художественных средств, но в романе тайн ружье, висящее на стене, не стреляет, стреляет другое ружье. Очень любопытно смотреть, как художник исподволь подготовляет материал для такой развязки. Возьмем далекий пример. В «Преступлении и наказании» у Достоевского Свидригайлов подслушивает признание Раскольникова, но не доносит. Роль угрозы Свидригайлова другая. Но неудобно писать о Достоевском в примечании к статье о Конан-Дойле. До отступления я уже отмечал, что слово «лента» своим двойным значением и указание на цыган подготовляют ложную развязку. Шерлок Холмс говорит: «— Если сопоставить все — свист по ночам, присутствие табора цыган, пользовавшихся особым расположением старого доктора, то факт, что д-р был заинтересован в том, чтоб его падчерица не выходила замуж, ее последнее слово о „шайке“ и, наконец, рассказ мисс Элены Стонер о слышанном ею металлическом звуке (быть может, то был шум от болта, которым запирались ставни), — то есть большое основание предполагать, что тут именно надо искать разгадку тайны». Как видите, творцом «ложной разгадки» в данном случае является сам Шерлок Холмс. Это происходит от того, что в «Пестрой ленте» не участвует казенный сыщик, обычно делающий ложную разгадку (так же Ватсон дает всегда неправильное толкование деталей). Но, так как сыщика нет, то Шерлоку Холмсу приходится путаться самому. То же мы видим в рассказе «Человек с уродливой губой». Один из критиков объяснил постоянную неудачу казенного следствия, вечное торжество частного сыщика у Конан-Дойля тем, что здесь сказалось противопоставление частного капитала государству. Не знаю, были ли основания у Конан-Дойля противопоставлять английское, чисто буржуазное по своему классовому признаку государство английской же буржуазии, но думаю, если бы эти новеллы создавал какой-нибудь человек в пролетарском государстве, будучи сам пролетарским писателем, то неудачный сыщик все равно был бы. Вероятно, удачлив был бы сыщик государственный, а частный путался бы зря. Получилось бы то, что Шерлок Холмс оказался на государственной службе, а Лестрад добровольцем, но строение новеллы (вопрос, занимающий нас сейчас) не изменилось бы. Вернемся к пересказу новеллы. Шерлок Холмс со своим другом едут на место предполагаемого преступления и осматривают дом. Осматривается комната умершей, в которую переведена сейчас ее сестра, боящаяся за свою участь. «— Куда ведет этот звонок? — проговорил он, указывая на толстый шнур, висевший над самой постелью, так что конец его лежал на подушке. — В комнату экономки. — Он новее всех остальных вещей в этой комнате? — Да, этот звонок провели только два года тому назад. — Вероятно, ваша сестра просила об этом? — Нет, она никогда не употребляла его. Мы привыкли все делать сами. — Вот как, зачем же было проводить этот звонок? Позвольте мне осмотреть пол. Он бросился на пол и стал быстро ползать взад и вперед, внимательно рассматривая в увеличительное стекло трещины между досками. Он исследовал также плинтусы, затем подошел к кровати и тщательно оглядел ее и стену. Наконец, он сильно дернул шнур. — Не звонит, — проговорил он. — Как не звонит? — Он даже не соединен с проволокой. Это крайне интересно. Видите, он прикреплен наверху к крючку над отверстием вентилятора. — Как глупо, я не заметила этого. — Очень странно, — бормотал Холмс, дергая шнурок, — в этой комнате вообще есть странности. Например, что за дурак тот, кто ставил вентилятор. Зачем было проделывать его из одной комнаты в другую, когда можно было устроить так, чтобы он выходил наружу? — Вентилятор также устроен не так давно, — сказала мисс Стонер. — В то же время, как звонок? — заметил Холмс. — Да, в то время было вообще несколько переделок. — Удивительно интересно. Звонки, которые не звонят, вентиляторы, которые не вентилируют». Мы имеем три предмета: 1) звонок, 2) пол, 3) вентилятор. Обращаю внимание, что Шерлок Холмс говорит сейчас только в 1 и 3, причем третий явился в виде намека. Смотри первый рассказ о преступлении — придаточное предложение первого пункта. Дальше идет осмотр соседней комнаты, принадлежащей доктору. Шерлок Холмс осматривал комнату и спрашивал, указывая на несгораемый шкаф. «— А кошки там нет? — Нет. Что за странная идея? — Посмотрите. Он снял со шкафа стоящее на нем блюдечко с молоком. — Нет, мы не держим кошек. Но у нас пантера и павиан. — Ах, да. Конечно, пантера не что иное, как большая кошка, но сомневаюсь, чтоб она удовольствовалась блюдечком». Тут же Холмс обращает внимание на плетку, завязанную петлей. Далее он говорит: «— Мне хочется выяснить одно обстоятельство. Он присел на корточки перед деревянным стулом и внимательно осмотрел его сиденье. — Благодарю вас, этого достаточно, — сказал он, поднимаясь и пряча лупу в карман». Как видите, результат наблюдения не сообщен. То же мы видим в случае с кроватью. Результат осмотра также не рассказан сразу, и на одну деталь внимание обращено сперва без высказывания, напоминаю место: «Он исследовал также плинтус, затем подошел к кровати и тщательно оглядел ее и стенку». Далее происходит разговор Шерлока Холмса с Ватсоном. Шерлок Холмс подчеркивает не подчеркнутую сперва деталь о вентиляторе и говорит здесь то, чего не сказал на стр. 185 о том, что кровать привинчена. «— Я не видел ничего особенного, за исключением шнура от звонка, и не могу себе представить, для чего устроили этот звонок, — говорит Ватсон. — Мы видели и вентилятор. — Да, но не вижу в этом ничего особенного. Отверстие такое маленькое, что едва ли мышь могла пролезть в него. — Я знал, что есть вентилятор, прежде чем мы приехали в Сток-Морэн. — О, милый Холмс! — Да, знал. Помните, мисс Стонер сказала, что ее сестра чувствовала запах сигары д-ра Ройллота. Это, конечно, сразу навело меня на мысль, что между комнатами должно быть какое-нибудь сообщение; отверстие это маленькое, иначе его заметил бы следователь. Я решил, что это должен быть вентилятор. — Но что же в этом дурного? — Ну, по крайней мере, странное совпадение. Устраивается вентилятор, вешается шнур, и спящая в кровати девушка умирает. — Не вижу никакой связи. — Вы ничего не заметили особенного в кровати? — Нет. — Она привинчена к полу. Случалось ли вам видеть такую кровать? Девушка не могла отодвинуть кровать. Она должна быть всегда в одинаковом положении относительно вентилятора и веревки… Приходится так назвать этот шнур потому, что он вовсе не предназначался для звонка». Таким образом, новая деталь появляется сперва намеком, потом связывается с другими. Получается ряд: вентилятор, звонок, привинченная кровать. Остается нерассказанным, что увидел Холмс на стуле, и в чем дело с плеткой. Недогадливый Ватсон все еще не понимает. Шерлок Холмс не рассказывает ему, а, следовательно, и нам, отделенным от него существованием пересказчика. Шерлок Холмс вообще не объясняется, а кончает дело эффектом. Но эффекту предшествует ожидание. Сыщик и его друг сидят в комнате, где ожидается покушение на преступление. Ожидали долго. «— Никогда не забуду этой страшной ночи. Я не слышал ни одного звука, ни даже дыхания, а между тем знал, что Холмс находится в нескольких шагах от меня и испытывает такое же нервное возбуждение, как и я. Ни малейший лучсвета не проникал через запертые ставни; мы сидели в полнейшей тьме. Снаружи доносился по временам крик ночной птицы; раз около нашего окна послышался какой-то вой, напоминающий мяуканье кошки; очевидно, пантера разгуливала на свободе. Издалека доносился протяжный бой церковных часов, отбивавших четверти. Как тянулось время между этими ударами! Пробило одиннадцать, затем час, два, три, а мы все продолжали сидеть безмолвно, ожидая, что будет дальше. Внезапно у вентилятора появился свет». Я не критикую Конан-Дойля, но должен указать на повторяемость у него не только сюжетных схем, но и элементов их заполнения. Приведу параллель из той же книги — «Лига красноволосых». «Как долго тянулось время. Впоследствии оказалось, что мы ждали только час с четвертью, но тогда мне казалось, что ночь уже приходит к концу, и скоро должна заняться заря. Все члены у меня окоченели, потому что я боялся изменить свою позу, нервы дошли до высшей точки напряжения, а слух так обострился, что я не только слышал, как дышали мои товарищи, но мог даже различить глубокое, тяжелое дыхание Джонса от тихого, похожего на вздох дыхания директора банка. С моего места, за корзиной, мне были видны плиты пола. Внезапно я заметил на них луч света…» В обоих случаях ожидание (очень обнаженный случай употребления приема торможения) кончается покушением. Преступник выпускает змею, змея ползет по шнуру из вентилятора. Шерлок Холмс бьет змею, раздается крик. Шерлок Холмс и его ассистенты бегут в соседнюю комнату. «— Страшное зрелище представилось нам… У стола сидел доктор. На коленях у него лежала плетка, которую мы видели утром… На лбу у него была страшная желтая лента с коричневыми пятнами, плотно охватывающая голову. Он не шевельнулся, когда мы вошли в комнату. — Лента, пестрая лента, — прошептал Холмс. Внезапно странный головной убор доктора зашевелился, и из волос поднялась змея». Как видите, перед нами сводка всех данных. Лента налицо, и, наконец, устроена плетка с петлей, которая была использована. Привожу анализ Холмса. «— Я пришел было к совершенно ложному выводу, милый Ватсон, — сказал он. — Видите, как опасно строить гипотезы, когда нет основательных данных. Присутствие цыган вблизи дома и слово „лента“, сказанное несчастной молодой девушкой и понятое мной иначе, навели меня на ложный след. Очевидно, она успела разглядеть что-то, показавшееся ей лентой, когда зажгла спичку. В свое оправдание могу сказать только, что отказался от своего первоначального предположения, как только увидел, что обитателю средней комнаты опасность не может угрожать ни со стороны окна, ни со стороны двери. Вентилятор и шнур от звонка сразу привлекли мое внимание. Открытие, что звонок не звонит, а кровать привинчена к полу, возбудило во мне подозрение, что шнур служит мостом для чего-то, что переходит в отверстие и падает на кровать. Мысль о змее сразу пришла мне в голову, в особенности, когда я вспомнил, что доктор привез с собой из Индии всяких животных и гадов. Идея употребить в дело яд, недоступный химическому исследованию, могла прийти в голову именно такому умному, бессердечному человеку, долго жившему на Востоке. Быстрота действия подобного рода яда имела также свое преимущество. Только очень проницательный следователь мог бы заметить две маленьких черных точки в том месте, где ужалила змея. Потом я вспомнил свист. Это он звал назад змею до рассвета, чтобы ее нё увидали. Вероятно, он приучил ее возвращаться к нему, давая ей молоко. Змею он направлял к вентилятору, когда находил это удобным, и был уверен, что она спустится по шнуру на кровать. Может быть, целая неделя прошла бы прежде, чем змея ужалила молодую девушку, но рано или поздно она должна была стать жертвой ужасного замысла. Я пришел ко всем этим выводам раньше, чем вошел в комнату д-ра Ройллота. Осмотрев его стул, я убедился, что он часто становился на него, очевидно, с целью достать до вентилятора. Шкаф, блюдечко с молоком и петля на плетке окончательно рассеяли все мои сомнения. Металлический звук, который слышала мисс Стонер, очевидно, происходил от того, что ее отчим захлопнул шкаф». Конечно, все эти приемы более или менее замаскированы, — ведь всякий написанный роман уверяет нас в своей реальности. Противопоставление своего рассказа «литературе» обычно у всех писателей. Людмила (в «Руслане и Людмиле» Пушкина) не просто ест фрукты в саду Черномора, а ест, нарушая литературную традицию: «Подумала и стала кушать». Еще более это приложимо к сыщицким романам, гримирующим себя под документ. Ватсон говорит: «— Я проводил их на станцию, погулял по улицам городка, затем вернулся в гостиницу, лег на диван, стал читать какой-то роман в желтой обложке. Сюжет романа был, однако, настолько неинтересен по сравнению с глубокой тайной, в которую мы старались проникнуть, и мысли мои так отвлекались от вымысла к действительности, что я, наконец, швырнул книгу прочь и отдался вполне размышлениям о событиях сегодняшнего дня». В качестве приема гримировки применяется еще ссылка на другие дела (не на те, о которых написаны рассказы) и указания, что опубликование данной новеллы стало возможным, так как такая-то дама умерла и т. д. Но разнообразие типов у Конан-Дойля очень невелико и, если судить по мировому успеху писателя, то, очевидно, и не нужно. С точки зрения техники — приемы рассказов Конан-Дойля, конечно, проще приемов английского романа тайн, но зато они концентрированнее. В новелле нет ничего, кроме преступления и следствия, в то время как у Рэдклиф или Диккенса мы всегда найдем описание природы, психологический анализ и т. д. У Конан-Дойля пейзаж очень редок и дается больше как напоминание и подчеркивание того, что природа добра, а человек зол. Общая схема рассказов Конан-Дойля такова: подчеркнуты номера важнейших моментов. I. Ожидание, разговор о прежних делах, анализ. II. Появление клиента. Деловая часть рассказа. III. Улики, приводимые в рассказе. Наиболее важны второстепенные данные, поставленные так, что читатель их не замечает. Тут же дается материал для ложной разгадки. IV. Ватсон дает уликам неверное толкование. V. Выезд на место преступления, очень часто еще не совершённого, чем достигается действенность повествования и внедрение романа с преступниками в роман с сыщиком. Улики на месте. VI. Казенный сыщик дает ложную разгадку; если сыщика нет, то ложная разгадка дается газетой, потерпевшим или самим Шерлоком Холмсом. VII. Интервал заполняется размышлениями Ватсона, не понимающего, в чем дело. Шерлок Холмс курит или занимается музыкой. Иногда соединяет он факты в группы, не давая окончательного вывода. VIII. Развязка, по преимуществу, неожиданная. Для развязки используется очень часто совершаемое покушение на преступление. IX. Анализ фактов, делаемый Шерлоком Холмсом. Эта схема не создана Конан-Дойлем, хотя им и не украдена. Она вызвана самым существом. Сравним ее кратко с «Золотым жуком» Э. По (вещь считаю известной; если кто ее не знает, то поздравляю его с удовольствием вновь прочесть хороший рассказ). Сам разберу рассказ так, чтобы не портить удовольствия. I. Экспозиция: описание друга. II. Случайная находка документа. Друг обращает внимание на оборот его (обычный и для Шерлока Холмса прием). III. Необъяснимые поступки друга, рассказанные негром (Ватсон). IV. Поиски клада. Неудача благодаря ошибке негра (обычный прием задержания, сравнить ложную разгадку). V. Находка клада. VI. Рассказ друга с анализом фактов. Каждый, собирающийся заняться делом создания русской сюжетной литературы, должен обратить внимание на использование Конан-Дойлем намеков и на выдвигание развязки из них.
 Губернский Шерлок Холмс
Шерлок à la russe
Губернский Шерлок Холмс
Шерлок à la russe
Александр Амфитеатров ШЕРЛОК ХОЛЬМС
Я всегда уважал и любил Марка Твена, но редко даже его честный, здравомысленный юмор радовал меня более, чем в убийственной пародии на модные ныне рассказы Конан Дойля о сыщике Шерлоке Хольмсе[34]. Пошлее и противнее конандойлевщины, апофеоза человека-ищейки, призванного травить «преступную расу» по манию английских и американских буржуев, кажется, не было еще направления в беллетристике. Габорио, Законнэ и прочие французские прославители Лекоков и К°[35] были и остались занимательными рассказчиками уголовных анекдотов для портерных: они не числились в литературе и не влияли, как литературный авторитет, на общество. А ведь Конан Дойль и в выдающиеся литераторы попал, и интеллигенция зачитывается им, захлебываясь, и — вон я нашел уже один рассказ в «Ниве», будто в Шерлока Хольмса с сочувствием играют русские дети[36]. Сыщик, — виноват: detective! — в качестве героического идеала для возраста, о коем обещано: «Из уст младенцев и сосущих получишь хвалу»![37] Как все это некрасиво и — как не по-русски! Ну, с какой стороны мы, благополучные россияне — Шерлоки Хольмсы? Откуда? Чем-чем грешны, только не этим. Для Шерлоков Хольмсов мы не вышли ни буржуйным «интеллектом», ни характером, да и, с гордостью прибавлю, не утратили еще настолько совести, чтобы возводить в подвиг охоту человека за человеком, хотя бы и преступным. — Кулев, а Кулев! — окликаю я, сидя у ворот, нашего захолустного Шерлока Хольмса, важно шествующего через улицу с разносною книжкою под мышкою. — Здравия желаю, барин. — Поди-ка сюда… Так и есть! То-то я гляжу, что в тебе какая-то перемена. Шерлок Хольмс ухмыляется. — Это вы насчет бороды? — Ну да. Зачем вычернил? — Их высокоблагородие… — Ловите кого-нибудь? — Посылают на Фитькин завод. Кукольников высматривать. — А-а-а! — Потому что много идет фальшивой монеты. И были послухи, будто с Фитькина завода. Вот-с, их высокоблагородие и пожелали: — Кулев, съезди, понюхай… — Слушаю, ваше высокоблагородие. — Только, говорит, — ведь тебя, черта, все здешние верст на триста кругом знают в лицо, как пестрого волка. — Так точно, ваше высокоблагородие. — Так ты того… бороду, что ли, выкраси и глаз подвяжи, чтобы люди тебя не сразу признавали. — Ну, брат Кулев, — спешу я огорчить его, — на это не надейся. На что уж я — слеп, как курица, а узнал тебя вон еще откуда. — Да уж это конечно, — соглашается Шерлок Хольмс. — Как не узнать? На то человеку Господь лик даровал и фигуру в препорцию, чтобы его люди узнавали. Против Бога не пойдешь. — Да и от людей не спрячешься? — Где! Шерлок Хольмс безнадежно машет рукою. — Я, барин, теперича, по должности, имею обязанность обходить три раза город, для порядка. Человек я, вам известно, аккуратный, службу свою соблюдаю. Намедни иду Кузнечною слободою, — слышу: говорят мать с дочерью. Дочь спрашивает: — Мама, который бы теперь час? — А мама ей на то: — Надо быть, два: вон сыщик пошел уже воров ловить, — он за ними всегда в два ходит. Вот как от них спрячешься-то, от обывателей здешних. — А это недурно, что вы собрались пугнуть фальшивых монетчиков. Безобразие! Что ни базар, снабжают мужиков и оловянными рублями и стеклянными полтинниками. — А то что? — соглашается Кулев. — Очень просто. — Лови, лови. — Рад стараться. — Только ведь, небось, не поймаешь? — Да ведь как оно… случаем, знаете, — скромничает Шерлок Хольмс. — Где их, шельмов, поймать? Тоже ребята с ухами. Небось, я еще к плихмахтеру не вступал с бородою своею, а от них уже верховой в свое место скачет: сыщик-де едет, держи ухо востро. Подходит сосед-обыватель. — Нижайшее! — Здравствуйте. — Как Бог милует? Что? Сумерничаете? — Да, вот с телохранителем нашим… — Эка рожу вымазал! — восклицает обыватель, присаживаясь ко мне на скамейку и немедленно добывая из кармана горсть «кедрового разговора». — Эфиоп! Давеча смотрю в окно: чей цыган по улице ходит? Спасибо, тесть объяснил, что не цыган, а — просто наш Кулев едет фитькинских мошенников следить, так под цыгана себя обозначает. Шерлок Хольмс возражает, несколько изумленный: — А вашему тестю откуда знать? Я его не видал. — Ему приказчики сказали. У Бандзурова. — Ишь, — чертям до всего дело! А я, чать, у Бандзурова-то ноне и не бывал. — Ты не бывал, да плихмахтер был. — Экий стервец! — искренно огорчен Шерлок Хольмс. — Ну, не стервец ли? Прошено помолчать, — нет, шапку на голову и побег звонить! Таких звонил, как у нас в Храповицком горожане, — всю империю обыскать — других не сыщешь. — Сам, брат, хорош! Пликмахтеру — кто раззвонил? Ты же! А, между прочим, ссылаешься на прочую публику. — Плихмахтеру я — по-приятельски, как доброму человеку, а не то, чтобы раззванивать. Ежели раззванивать, как я могу воров ловить? Разве вор мне в руку пойдет — опосля звону-то? Обязательно, что не пойдет. Вот и живите с ворами! Сами виноваты, что стеклянные полтинники на базар плывут. — А мне сказывали за верное, — возражает обыватель, — что их не в Фитькином работают. Я заинтересовался. — Где же? — Будто — недалеко ходить: в остроге нашем. — Это верно, — подтверждает Шерлок Хольмс, согласно и даже с жаром мотая головою. — Доподлинно знаю. В тюрьме. И мастера известны: Ловейщиков Пашка, что за переселенную девчонку сидит, да Бунус, латыш, — корневики своему делу. — Что же ты не ловишь, коли знаешь? — А поди — докажи! — И обязан доказать, — смеется обыватель. — На то ты к званию приставлен. Кулев улыбается. — Небось доказывать-то — надо самому сесть к ним в тюрьму. — Сядь. — За пятнадцать-то в месяц? — Присягу имеешь, должен свою присягу исполнять. — За пятнадцать-то присягу?! Кулев даже вызверился. Обыватель строго уставился на него: — Да ты что? — Я ничего. Ты-то что? За пятнадцать рублей? Эх, совесть! — Ты мне пятнадцатью не тычь! Назвался груздем… знаешь? Стало быть, потребуется тебе живота решиться, — решишься; надо в тюрьму сесть, — сядешь… — Сядьте, — хладнокровно говорит Кулев. — Куда? — изумляется обыватель. — Сядьте, — ну, пожалуйста, ну, сделайте такое ваше одолжение, сядьте в тюрьму, как мне ракиминдуете. Сядьте, а я посмотрю. — Пшел ты, знаешь, к кому?! Выдумал равнять… Кулев заливался хохотом: — Пашка ударит вас толкачем в лоб! — Ну да! толкачем! — огрызается несколько сконфуженный обыватель. — Было бы откуда там толкачу взяться. — Он найдет! — продолжает грохотать Кулев. — Для вашего собственного удовольствия отыщет… Нет, — каково? В тюрьму — а? В нашей тюрьме и простых-то арестантов жиганы смертным боем убивают, а вы меня под ихнюю молотовку посылаете… Намедни двоих насмерть ухлопали. Слышали, может быть? — обращается он ко мне. — Слышал что-то. — Старики новичков били. Вдесятером на двоих, поленьями. Озверели, не подойди к ним. За солдатами посылали… — С чего они? Из-за карт, что ли? — Нет, старики с новеньких входные деньги требовали, — ну, а те не дали, да еще обругались… артель их и приняла в свои руки. Кабы не солдаты, их бы до ночи трепали… — Мертвыми, я слышал, отняли? — Где быть живым?! — крестится обыватель. — То есть вот как! — одушевился Кулев. — Ни одной кости целой! Мягкие мяса черные, в чугун измолочены, как бы в бештек. А на бочках, где ребрышки сломаны, оскребушки прорвались, торчат косточки… беленькие… — Эки изверги! — Да! Вот вы к ним и сядьте!.. Мосей Порохонников в зачинщиках был. Их высокоблагородие спрашивают: «Как ты дерзнул?» — А они, говорит, зачем грубили? Разве большакам можно грубить? Какая же это артель, если старикам грубианство? Их высокоблагородие возражают: «Это ужасно, какое преступление. Жди себе жестокого суда». А Мосей на усищи свои смешком оборонился и отвечает: «Как вы это довольно глупо рассуждаете! Может ли быть мне жестокий суд?. Я уже на двадцать лет Сахалина имею, а от рождения мне пятьдесят шестой год. Стало быть, каторжный я по гроб своей жизни, и хуже, чем есть, ничего сделать мне нельзя, потому что век мой исчислен, и годов мне вы не умножите». Их высокоблагородие говорят: «Как ты смел это мне в глаза? Разве ты меня не боишься?» Мосей опять смеется: «Вам надо меня бояться, а мне вас — что? Жисти — врете, не прибавите!» — Так и сказал, врете? — любопытствует обыватель. — Так и сказал. Их высокоблагородие говорят: «Прибавить нельзя, но убавить очень можно. Коли не боишься людей и Бога, так памятуй хоть о виселице: ты, голубчик мой, прямо на нее едешь…» А Мосей: «Вот, барин, кабы вы мне это самое выхлопотали, так я бы вам в ножки поклонился. Потому — самому давиться, говорят, грех — ну, а ежели начальство петлю наденет, его воля, а мне одно ослобождение». Чуяли? Вот он каков гусек-от. Каково поговаривает. — Да, к энтому не сядешь, — задумчиво соглашается смущенный обыватель. — То-то, — умиротворяется Кулев и, довольный победою, спешит великодушно дать побежденному реванш. — Я что ж! Я не хвастаю: случаем вышел агент, — их высокоблагородие приказали. Действительно, что я к службе этой совсем даже не способен и прибытка себе от нее никакого не нахожу. — Смирный ты, — с чувством сознается обыватель. — Смирный. Возьми ты Гуськова в Перинском — разумом-талантом меня хуже, а суетою своею всему городу обрыдл. А я, брат, себе место знаю. Ты помолчи, я помолчу: вот у нас и будет хорошо. — Скажи, пожалуйста, Кулев, — спросил я, — случалось тебе все-таки поймать какого-нибудь преступника? Кулев оживился: — А ведь поймал, барин! — весело воскликнул он. — Как же!.. Я тогда еще городовым стоял… Ну, и того… имел слабость: зашибал хмелем. А, зашибемши, бесперечь буйствовал. И выдумали их высокоблагородье назначать меня за то в ночные посты, не в очередь дежурства. А мне что? И без дежурства — сон, и на дежурстве — сон, — одна натура-то. Облюбовал я себе крылечко — при Патрикеевском доме, изволите знать? Чудесный подъездик: ни те дождь мочит, ни те погода обдует. Провожу обход и сплю на подъезде до другого обхода. Участковый засвищет, и я проснусь, свищу… — Кулев! — Точно так, ваше благородие. — Дрыхал, подлец? — Никак нет, ваше благородие. — Смотри у меня! — Слушаю, ваше благородие!.. И Патрикеевы рады, что я у них на подеъзде спать полюбил: от воров оборона, — потому что про эту мою привычку все жулики в Храповицком доподлинно доведались и ужасно как меня опасались. Но одного шельму черт таки нанес. Приходит, дурень, ночью с коловоротом и желает вертеть патрикеевскую дверь. Я, братец ты мой, — обход проводемши, только было завел глазки под лоб, а он, шут безглазый, с темну ли, сослепу ли, как ступит мне ножищею в самый живот. Я, конечное дело, испужался, ухватил его за босые ноги, кричу: режут! помоги, кто в Бога верует!.. Он тоже испужался, коловорот уронил, мордою в дверь чкнулся, упал, лежит. Спрашивает: — Ты кто?.. Отвечаю: — Как кто? Бога ты не боишься! Ты кто? А я, не видишь, — полиция!.. Тут он меня очень забоялся: — Ну, сказывает, ежели меня в полицию вперло, твое, служивый, счастье: бери! А что кишки тебе раздавил, на том не взыщи, потому что я с Сахалина беглый, и зовут меня Яков с гвоздем, и ни за что бы я тебе, служивый, не сдался, да уж больно обголодал… Тем часом, по моему крику и свисту, выходят из Патрикеева дома сам хозяин с револьвертом, дворник с топором, стряпка с ухватом. Патрикеев, жирный шар, — инда пена у него изо рта кипит, — так и подсыкается застрелить Якова из револьверта. Я говорю: — Купец! оставь! Это одно твое сибирское безобразие. Лучше поди в управление, чтобы их благородие пришли взять его в каталажку. Потому что я отойти от поста не могу, а вот уже четверть часа свищу и никого не могу досвистаться! Патрикеев возражает: — Как я могу идти от своего дома в потемки? Может, у него товарищи. Дворник вызвался: — Ежели хозяин даст мне свой револьверт, я могу сходить, но без револьверта не пойду, потому что бродит брахло. Патрикеев ему на это: — Как я могу отдать тебе свой револьверт? Ты сроки отбываешь. Кто тебя знает, каков ты еси? Может, у тебя семь душ на душе восьмую поджидают. Дворник отвечает: — Это не касается. — Как не касается? Ты, получив револьверт, можешь всех нас перестрелять. Дворник обиделся. — Я, — кричит, — не на то к тебе нанимался, чтобы хозяина расстреливать. Знать тебя не хочу. И в дом к тебе, толстопузому, больше не пойду. Коли так меня огорчили, желаю в загул. Вот — при кавалере объясняю! К девкам хочу и неси мне, нечистая сатана, расчет сию минуту. И пошла между ними брань. А Яшка есть просит. А стряпка, которая с ухватом, дрожмя-дрожит, кланяется: — Кавалеры! — отпустите мою грешную душу: дело мое женское, хожу тяжелая, и младенец, ангельская душка, во мне несносно вертится… Тут, слава Богу, уже обход засвистал, да и светать стало. После этого раза их высокоблагородие и велели мне быть агентом. Как же! Поймал! И от губернатора имел благодарность… Как же! Обыватель снасмешничал: — Этому делу завтра, никак, сто годов будет? — Ври: сто! — возмутился Кулев. — Всего двенадцатый. — И то добре. А с тех пор уже ничего? ни-ни? Кулев подумал: — Ложки нашел. — Ишь! — Да. У попа Успенского серебро сперли. Их высокоблагородие приказывают: чтоб были ложки! Роди да подай!.. А откуда я их возьму? Туда-сюда, — слышу: у Марьи Емельяновны, — старушка тут одна, закладчица, проживала, — проявилось некое неведомое серебро. Доложил. Нагрянули с обыском. Старуха глаза пучит, языком мнет, какое серебро, откуда, изъяснить не умеет, — принес и заложил незнакомый человек. Сейчас старуху под сюркуп, а серебро предъявляем попу к удостоверению. Поп пришел и чудак оказался: руками развел, глаза вытаращил… — Это, говорит, не мое серебро. Мои метки Рцы Слово, Роман Святодухов, а на этом Иже Буки, под короною. Тут уж их высокоблагородие даже и оскорбились. — Это, — отвечают, — батюшка, одни ваши капризы. Это неблагодарность. Вы заявили, что у вас пропало две дюжины серебряных ложек, — мы вам две дюжины серебряных ложек и представляем. А вы какого-то Рцы Слова ищете! Что вам — Рцы Словом, что ли, щи-то хлебать? Подумал поп, согласился. — Хорошо. Мои ложки. Попадья у меня — уроженная Ирина Благосветлова, так это ее придания. Вот только корона эта? — Эх, батюшка! — отвечает их высокоблагородие. — Ложки приданые, а корона — венец, всему делу конец. Как женились вы на матушке, держали над вами венец? — Держали. — Ну, вот он самый и есть! — Что он вам тут звонить? — внезапно раздался баритонный возглас, и пред нами, как из-под земли вырос, вышел из-за угла сам его высокоблагородие, начальник граду и уезду сему, седоусый подполковник Провожанцев. — Да вот… повествует… Но Провожанцев уже упер руки в боки и, покивая головою и великолепно топорща пушистые усы, угрызал Кулева, вытянувшегося перед ним в струну. — Эх ты, рожа! Рожа — рожа и есть. Ну, можно ли на тебя, рожу, положиться хоть в малой малости? Говорил я тебе, чтобы секретно? а? говорил? — Виноват, ваше высокоблагородье. — Отчего же о твоей поганой крашеной бороде гудит весь город? И, не ожидая ответа от уничтоженного Шерлока Хольмса, обратился ко мне: — Вы знаете, в чем дело? — Наслышан. — Видите ли: это не моя была идея выкрасить ему бороду. Мировой внушил. Это чучело явилось ко мне за инструкциями, а у меня винт: мировой, податной, акцизный и я. Мировой, как узнал, куда и на что едет Кулев, стал советовать, чтобы ему выкраситься. — А откуда же узнал мировой? — Просто услыхал, что мы разговаривали. Дело при всех было, между игрою. Что же мне было — Кулева в отдельную комнату уводить, что ли, и там с ним шептаться? — Конечно, — зачем вам? — Кажется, мы все здесь свои люди, благородные… — Конечно, конечно. — Между мировым и податным далее ужасный спор вышел. Мировой говорит: краситься. А податной: не надо, — один глупый маскарад и никакого результата! Ну, дебаты, доказательства… оба люди умные, в университетах обучались, такую Спинозу с Дарвином развели, — я даже не ожидал, чтобы из-за крашеной бороды столько науки… Зашел доктор… — Ах, и доктор был? — Да, он к казначею ехал, увидал нас в окно, завернул на попутный дымок… Взяли доктора за судью. Ну, он, сами знаете, скептик, циник. Охота, говорит, вам, господа, драть горло из-за пустяков! Все равно ведь никого Кулев не выследит и не поймает, а бока ему, что крашеному, что некрашеному, обязательно намнут. — И, конечно, намнут! — загремел подполковник на Кулева. — Потому что хвастун и болтун! Языка за зубами держать не умеешь! Всему базару расславил свою пасквильную бороденку… Вот и охраняй обывателя с такими агентами! А начальство пишет нагоняи, будто у нас много происшествий. Провожанцев трагически поник думною головою. Потом — добродушнейшим тоном — приказал Кулеву: — Ступай уж, вымой рожу-то… Хвастунишка! Никуда не поедешь: прославился и без езды. И кто тебе эти примеры дает? А только так больше нельзя. В последний раз спускаю. Вот — при благородных свидетелях говорю, понял? — Слушаю, ваше высокоблагородье!
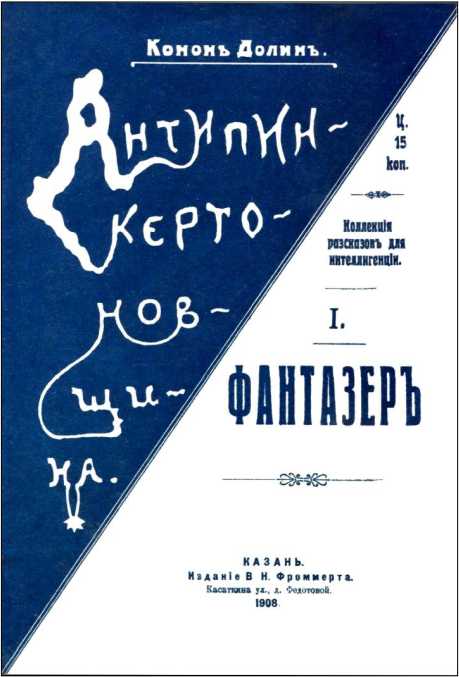 Конон Долин
ФАНТАЗЕР
Конон Долин
ФАНТАЗЕР
Предисловие
Имя Конона Долина совершенно неизвестно читающей публике. И немудрено! При жизни своей Долин (умерший в Киеве в сентябре 1905 года) вовсе не подозревал, чтобы кого-нибудь могли заинтересовать его заметки, которые он любил составлять в часы своих досугов: нам положительно известно, по крайней мере, что он никогда не думал выпускать их в свет. В какие-нибудь два года после его смерти многое изменилось… Изменился и литературный вкус русского читателя, понизившись до увлечения изделиями бульварных писателей, изображающими небывалые подвиги небывалых сыщиков. Началась своего рода эпидемия: Пинкертоны, Картеры, женщины-сыщики, русские Шерлоки Холмсы, «преступные гении» Жерары замелькали в витринах магазинов, в сумках разносчиков, на вокзалах… Производя, подобно алкоголю, приятное раздражение напряженных нервов, изделия эти в конце концов выродились в нечто такое, что напоминает собою в настоящее время ту подмешанную табаком сивуху, какою опаивают предприимчивые «носители культуры» познавших прелесть алкоголизма дикарей… Где только нет теперь этой сивухи? Она загипнотизировала русского обывателя, заполонила мысль юношества, проникла чуть ли не в каждую семью, втиснулась в школу… Манекенообразные «короли сыщиков» и «бичи преступников» сделались воистину королями литературного рынка и бичами ослабевшей от отравы мысли!.. Сравнивая ряд доставшихся нам по смерти Долина заметок его, близких по содержанию к указанного рода литературе, мы не могли не обратить внимания на то, что заметки эти стоят во всех отношениях значительно выше обычных российских изделий этого сорта. И вот, после целого ряда колебаний, мы решились издать их: если так уж непреоборим спрос на сивуху, то не лучше ли предложить вместо нее то, что, быть может, окажется вином? И как знать? — Если мы не ошиблись в оценке литературных дарований этого своеобразного писателя, — не послужит ли выпуск его произведений своего рода противоядием против губительной пинкертоновской бациллы? Не отвернется ли опоенный русский читатель, прочтя Долина, от «королей сыщиков», не сойдет ли с него постепенно тот несчастный «сглаз», во власти которого он теперь находится? Редактор записокГлава I
Для любителей ощущений не столько приятных, сколько сильных
Когда мне в первый раз попались в руки рассказы о подвигах знаменитого английского сыщика Шерлока Холмса, я после прочтения книги не мог скрыть своего крайнего изумления. — Николай Гаврилович! — обратился я к своему хозяину и другу, Николаю Гавриловичу Кореневу. — Прочтите-ка вот эту книжку и скажите на милость, кто кого копирует: вы ли Шерлока Холмса, английского сыщика, или он вас? Вопрос мой, видимо, сильно задел любопытство моего друга: он задул свою спиртовую лампочку, над которой грелась у него какая-то химическая смесь, и повернул ко мне свое бледное лицо. — Что там еще за диковина такая? И почему такой возбужденный тон? Я молча подал Кореневу книгу, сожалея, что мне не придется следить за впечатлением, какое будет производить на него постепенное ознакомление с деяниями Холмса: неотложные дела звали меня из дому, и я неохотно покинул своего друга, погруженного в чтение. С биографией своего приятеля, N-ского частного поверенного по общественному положению, по врожденной же страсти и по таланту — спортсмена тонкой мысли и наблюдательности, — я познакомлю читателей в другой раз. Здесь же достаточно будет сообщить, что не одно преступление в России обязано своим раскрытием исключительно закулисной работе Коренева и что, подобно лондонскому Лестраду, N-ский начальник уголовной сыскной полиции Зверев не раз обращался в затруднительных случаях к его бескорыстному и в то же время артистическому содействию. Вернувшись в описуемый памятный день домой, я застал Николая Гавриловича шагающим с папиросою в зубах из угла в угол в его рабочем кабинете. — Ну что, Коренев, прочли? — спросил я. — Не только прочел, что вы дали, а заказал даже прислать из книжного магазина все, что есть о Шерлоке Холмсе. — А что скажете об английском сыщике? — Скажу, что после Холмса — nil admirari![38] И вы напрасно задавали вопрос о подражаемости: Холмс неподражаем, и я не претендую даже на слабую копию его. — Вы, по обыкновению, скромничаете, Коренев. Однако же, какое любопытное совпадение: насколько могу судить из прочитанного, вы даже в ваших личных привычках похожи на Холмса! — Да! — сказал, смеясь, Коренев. — Это есть. Однако же, если допустить, что совпадением моей личности с Шерлоком Холмсом оправдывается «повторяемость истории», то на вашу долю выпадает не совсем лестная для вашего самолюбия роль — именно, роль доктора Уатсона. Так что, не лучше ли воздержаться от сравнений?.. Эту шутливую тираду Коренева перебил раздавшийся в передней звонок. — Вот, верно, и книги вам принесли из магазина, — сказал я. — Итак, сегодня у нас литературный вечер! — Боюсь, что литературный вечер сегодня придется «по непредвиденным обстоятельствам» отложить, — возразил Коренев. — Это звонок Зверева, а его посещение вряд ли предвещает особенно благоприятные условия для мирных занятий. К моему удивлению, к нам действительно вошел Зверев. — Здравствуйте! — сказал он, здороваясь. — Ну, ладно, что хоть дома вы, по крайней мере, Николай Гаврилович! Такая жара, такая жара, накажи меня Бог! — продолжал он, усаживаясь и вытирая платком свое круглое здоровое лицо. Уж извините, прямо скажу — случись дело где-нибудь подальше в городе, ни за что бы по этакой жарище не пошел! Случай то пустяковый, в сущности, однако думаю — отчего не зайти? Близко, главное. Но заранее предупреждаю — надежд не питайте: преступления никакого. А все-таки, заметьте, и не без оригинальности дельце, накажи меня Бог! И очень даже не без оригинальности… Однако же и жара нынче! Просто не начало мая, а чистый июль, как есть… Во время этой благодушной болтовни Коренев позвонил и приказал вошедшей горничной подать чаю. — Собственно, некогда чай-то распивать, — продолжал болтать Зверев, беря, однако, стакан, — разве уж на скорую руку. Впрочем, я велел на всякий случай ничего не трогать, и все будет без перемен до нашего прихода. Дело — самоубийство, изволите видеть. В третьем часу в бани Брыкина — знаете, здесь, на Мироновской? — пришел пожилой господин, хорошо одетый, взял номер. Банщика отпустил, остался мыться. Ждать-пождать, проходит час, полтора — не выходит. Постучался к нему банщик — не отзывается. Что за история? Встревожился, натурально, банщик и входит сам. И видит, представьте, что сидит раб Божий в ванне, голова свесилась, а вода красная, можете себе представить, и на полу бритва валяется… Перерезал жилу на руке и — так кровью и истек, накажи меня Бог! Доктор говорит, что так будто бы римляне там, что ли, жизни себя лишали и что будто бы оно как-то, по его выходит, приятно даже этаким то манером умирать: сиди-де, изволите ли видеть, в теплой водичке да посиживай, боли нет, а вроде, как бы сказать, опьянение… Так-де и помрешь в удовольствии… Хорошо удовольствие, — как цыпленок, кровью изойти! Чего лучше, накажи меня Бог! — Любопытный способ самоубийства, — отозвался Коренев. — Кто же он оказался, чудак этот? — Вот то-то и есть, что неизвестно. Никаких документов в платье не нашли. — Записки, значит, тоже не оставил? — А я вам не говорил разве? Записка-то есть, да что в ней толку! «Прошу, — пишет, — никого не винить. Деньги жертвую на добрые дела». А вместо подписи одно слово: «Римлянин» — и больше никаких! Да ведь это, поди, не фамилия, а, как бы сказать, одна аллегория, насчет способа самоубийства больше… Так и доктор говорит. — Маньяк какой-нибудь, — сказал я. — Уж не педагог ли-классик, угнетенный падением классицизма в России? Коренев поглядел на меня, и в его глазах блеснули лукавые искорки. — Вы, кажется, стоите на верном пути, Николаев. Радуюсь, что моя попытка сравнить вас с доктором Уатсоном оказывается не в его, а в вашу пользу: вы будете подогадливее Уатсона. — Скажите, — продолжал он, обращаясь к Звереву, — итак, документов не оказалось? — Ровно никаких. Ясно, что самоубийца хотел сохранить инкогнито. — Да, ясно. А как насчет денег? — Деньги найдены, в бумажнике. И изрядная сумма: 600 рублей с лишним. — Интересно, интересно, — продолжал Коренев. — Как банщик проник в номер, когда ему не отпирали? — Дверь оказалась не запертой. — Вот видите, — вставил я снова замечание, польщенный недавней похвалою приятеля и забывая про лукавое выражение его глаз. — Еще одно из косвенных указаний на то, что мы имеем дело с педагогом: человек, лишающий себя жизни, обыкновенно запирает дверь. Особенно естественно было бы сделать это в бане. А тут — обратное. Не приписать ли это рассеянности, одному из профессиональных недостатков людей, занимающихся педагогической деятельностью? — Браво, браво, Уатсон… то бишь, простите, Николаев! — вскричал Коренев. — Я пойду дальше, и вы увидите, что я хвалю вас недаром. Быть может, как педагог, покойник носил очки? Найдены они в бане? — Верно! — сказал Зверев. — От вас, черт возьми, ничто не скроется, накажи меня Бог! Очки есть, точно. И очень даже хорошие очки, золотые. — Видите, Николаев, — не я Шерлок Холмс, а вы! И еще раз прошу прощения за сравнение с Уатсоном. Однако, не будем терять времени, — продолжал он, оживляясь. — Если у вас нет желания пропустить еще стаканчик-другой-третий чаю, то, пожалуй, и в путь пора. Мы отправились. Бани Брыкина находились, действительно, близко от нас: всего через три квартала. Это было обширное двухэтажное здание красного цвета, выходящее углом на две улицы — Косую и Мироновскую С Мироновской улицы вел подъезд в номерные бани, с Косой в общие. Здесь же, на Косой, рядом со входом в общее отделение, находились ворота во двор владельца дома и бань, купца Брыкина. По мере того, как мы приближались к баням, лицо Зверева становилось все озабоченнее: у нас в квартире это был благодушный болтливый старичок, беседующий с хорошими знакомыми, теперь же к нему вернулось, очевидно, сознание всей тяжести и ответственности лежащих на нем обязанностей. Всю дорогу он молчал. Однако от Коренева не ускользнуло, что к этому сознанию у Зверева примешивалось еще и чувство досады. — Да, — сказал Коренев, как бы отвечая на мысль полицейского, — действительно неприятно: добро бы было из-за чего, а то извольте заниматься установлением личности. Преступления, как вы говорите, нет, а поди, возись! — Вот то-то и оно, накажи меня Бог! — согласился Зверев. — Поди, разбирайся с ним, что он за птица такая! И угораздит же человека… эх! «Римлянин», «Римлянин», а он такой римлянин, как я султан турецкий! Беда да и только, накажи меня Бог!. Придя к баням, мы не могли заметить возле них почти ничего такого, что указывало бы на разыгравшуюся здесь недавно трагедию. Лишь молодой безусый городовой, застывший при нашем появлении, стоял у подъезда с двумя лохматыми извозчиками, лошади которых мирно кормились здесь же из своих подвешенных к мордам мешков. Мы вошли в подъезд с Мироновской улицы. Из-за конторки навстречу нам вышел стоявший рядом с конторщиком сам хозяин, очевидно, вызванный случившимся несчастьем из лавки, где он обыкновенно проводил день. Это был пожилой уже, благообразный купец с окладистою бородою, румяным лицом и черными густыми волосами, постриженными «под скобку», — чисто русский тип. Он был, видимо, встревожен и заждался нас. — Ипполит Семеныч, ради Бога! — обратился он вполголоса к Звереву. — Уж будьте милостивы, развяжите меня с ними. Слухов-то ведь, что дальше, больше будет. По нашему делу поскорее бы как надо, чтоб огласки-то больно не было. Ох, грехи!.. Уж будьте настолько великодушны, уважьте: прикажите убрать поскорее! — Ладно, ладно, — успокоил его Зверев. — Вот взглянем еще разик, а там и с Богом, — в полчаса обделаем. Пойдем-ка-сь! Мы поднялись по лестнице наверх, предводительствуемые хозяином. Здесь, в конце полутемного левого коридора, находился роковой 19-й номер, охраняемый двумя городовыми; околодочный надзиратель с третьим городовым встретили нас в самом номере. Помещение, где произошло самоубийство, начиналось довольно просторным предбанником, комнатою в два окна, с двумя диванами, зеркалом, столом и двумя стульями; пол был покрыт новым еще, грубоватым войлоком. На одном из диванов лежало в беспорядке белье и платье самоубийцы, а на вешалке возле двери висело коричневое пальто его и такого же цвета шляпа с широкими полями. С подавленным чувством и молча вошли мы в следующую комнату. Яркий свет мая не мог сладить с закрашенными матовыми стеклами единственного окна, и представившаяся нашим взорам картина казалась при скудном освещении еще мрачнее и трагичнее. Опершись спиною о стенку ванны, с полуопрокинутой в левую сторону головою, в темной воде сидел бледный крупный человек лет под шестьдесят. Длинные, исседа-русые волосы его были откинуты назад, и в глаза особенно бросался выпуклый высокий лоб; бледность лица и шеи подчеркивалась темным фоном воды, сквозь которую с трудом лишь можно было разглядеть погруженное в нее тело. С минуту мы молчали. — А где же бритва? — спросил Коренев. — Где бритва? — спросил в свою очередь Зверев околодочного. Тот засуетился и исчез в предбаннике. — Бритва совсем новая, кажется, и вряд ли употреблялась для бритья, — сказал Коренев, разглядывая принесенную околодочным бритву. — Где лежала она, когда вы вошли? — Здесь вот, возле самой ванны, на полу, — отвечал Зверев. — Никто не трогал ее до вашего прихода? — А уж не умею вам сказать, ей-Богу. Если банщик не трогал, то больше некому было. Где он? Позвать банщика! — Гаврилу, Гаврилу спроси! — крикнул Брыкин вдогонку городовому. Через минуту городовой привел маленького старичка-банщика. — Скажи, брат Гаврила, — обратился к нему Зверев, — ты, как увидел, что тут вышло, сейчас же побежал в контору и ничего не трогал здесь? Или, может, разглядывал что? — Уж и не могу сказать, ваше благородие, — отвечал Гаврила, как бы припоминая. — Я их, вишь, окликнул раз, другой из двери, — они не отзываются. Я подошел поближе — думаю, может, сомлел человек, с устатку ли, с угару ли, — мало ли бывает? Ан, гляжу, вода красная, а на полу бритва блестит. Тут меня ровно по башке ударило… Застыл я, это точно, на месте. Мало-мало простоял таки, надо быть, тут и не враз побег. А чтоб трогать чего, где уж тут! не до того было… — Стало быть, где лежала бритва? — А вот здеся, вот! Сами, чай, изволили видеть. И он указал на то же место, что и Зверев. Коренев кивнул головою и подошел к ванне. Осмотревши труп сквозь воду, он нагнулся и вынул его левую руку. — Где же рана? — удивленно сказал он, опуская эту руку и вынимая другую, правую руку трупа. На ней, вершках в двух от запястья, зияла глубокая рана, сделанная поперек руки, длиною с вершок. — Так… левша, значит, — пробормотал Коренев. Он ощупал руку с низа до самого плеча, потом вынул другую руку и проделал с нею то же самое. Затем, оставивши труп, поглядев снова на то место, где была найдена бритва, и некоторое время стоял, погруженный в задумчивость. — Николай Гаврилович! — сказал я. — Вы хоть бы руки вымыли. Ведь опасно. Коренев очнулся. — Ах, да, — верно! Я и позабыл. Спасибо, что напомнили. Впрочем, кажется, не так уж и опасно, как можно бы подумать, — добавил он, повертывая кран. — Вот что, Ипполит Семеныч, — обратился он, вымывши руки, к Звереву, — распорядитесь, пожалуйста, принести пузырек чистый или бутылку. Доктор осматривал труп? Да, значит, все готово и протокол уже составлен, — чудесно! Препятствий с вашей стороны к тому, чтобы убрать труп, не имеется? Что ж, убирайте! Только я просил бы все прочее оставить в том же виде пока, как и сейчас. Если можно, то и воду из ванны просил бы не спускать. А теперь перейдем сюда, — закончил он, направляясь в переднюю комнату. Здесь на столе мы увидели записку, написанную карандашом на полулисте обыкновенной почтовой бумаги. Карандаш, новый и свежеочиненный, чернильный, лежал здесь же. Записка была написана нетвердым и некрупным почерком и дословно гласила следующее: «Никого не винить. Деньги жертвую на добрые дела. Римлянин». Коренев долго разглядывал почерк и даже вынул для этого из кармана свою складную лупу. Ничего не сказавши, он опустил, наконец, записку в свой боковой карман. Затем мы приступили к осмотру вещей покойного. Они состояли из белья, пиджачной пары хорошего серого сукна, из пальто, шляпы, ботинок и калош. — Белье новое и свежее, — говорил Коренев, начиная осмотр. — Куплено недавно и еще не было в мойке. Нужно предположить, что покойник надел его перед самым приходом в баню. Меток никаких нет. Есть, однако, кое-что, заслуживающее внимания, — продолжал он, разглядывая в лупу воротник рубахи. — Перейдем к костюму. Сукно не дешевое. Шил недурной мастер. Локти вытерты более других частей. Если не ошибаюсь, покойник был не из аккуратных: изрядно-таки все поизмято, несмотря на то, что шилось недавно. Эге, вешалки тоже нет! А как насчет чистки? — продолжал он, подходя к окну истановясь в полосу солнечного света. — О, смотрите-ка, от одного щелчка сколько пыли. Благо, что серый цвет все скрадывает. То же, пожалуй, и с пальто. Так и есть, и на пальто пыли сколько угодно! Вешалка, однако, цела. Жаль только, что портной покойного не усвоил хорошей привычки выставлять на вешалке свое имя. Нет ли, но крайней мере, букв на калошах? Тоже нет. Да, Ипполит Семеныч, нелегко вам будет с установлением личности! Шляпа… — но по ней видно лишь, что покойник бывал и за границей; куплена в Берлине. Трудненькое-таки дело предстоит вам: ведь вот даже носового платка нет, а на нем-то уж хоть метка была бы! Позвольте, а это что за метка на простыне? «С. Б.», — уж не хозяйская ли? Ага, хозяйская, — значит, покойный требовал простыню. Ею займемся особо, а пока из собственных вещей его остаются очки и бумажник. Рассмотрим. Но очки и бумажник дали еще меньше указаний на личность самоубийцы, чем все остальное. Покончивши с осмотром их, Коренев несколько минут просидел на диване, погруженный в размышления. Затем он обратился к Брыкину. — Как узнали вы о происшедшем? — Конторщик прислал записку в лавку. — Не с вами ли случайно эта записка? Брыкин порылся в жилетных карманах и подал измятую бумажку. — Благодарю вас, — сказал Коренев, чуть взглянувши на поданный ему клочок и возвращая записку Брыкину. — Давно ли служит у вас конторщик? Целых три года, — он должен, значит, знать приблизительно всех ваших постоянных посетителей, — самоубийца ему неизвестен? — Говорит, что будто не припомнит. А лучше бы самого его спросить. Позванный конторщик подтвердил, что действительно не может припомнить, видел ли когда-нибудь самоубийцу в числе посетителей; скорее готов утверждать, что нет. — А не заметили ли чего особенного, когда неизвестный покупал билет? Может быть, волновался? Был рассеян? — Напротив, был, кажется, спокоен. Даже говорил о погоде. — Что именно? — Жаловался на жару. Говорит: «Слава Богу, добрался до бани». — А вы наверное помните, что он именно так и сказал: «добрался»? — Ну, уж наверное не скажу. Будто бы так. — Не говорил ли еще чего? — Говорил. Когда взял билет и пошел, то вернулся от лестницы и сказал: «Тут меня, быть может, один господин спрашивать будет, бритый такой, так скажите, пожалуйста, что я, мол, в 19 номере». Корнев насторожился. — Это очень важно, что вы сейчас сказали. И что ж, никто не спрашивал? — Никто. — А вы все время были за конторкою? — Как же-с! Кроме меня, ведь некому. Корнев помолчал. — А он, быть может, зайдет еще, бритый этот, — смущенно заговорил Зверев. — И как я раньше о нем не знал, накажи меня Бог! Надо бы того, — наблюдение, что ли, устроить… Ах ты, чтоб тебя! Пойти хоть теперь уж того… распорядиться… А? И как это я не знал, накажи меня Бог! Коренев проводил его чуть заметной усмешкою. — Припомните теперь хорошенько, — обратился он снова к конторщику, — кто приходил еще в баню после того, как покойный взял билет? И не было ли кого-нибудь бритого? Хоть, может, он ни о ком и не спрашивал… — Кто ж приходил? Был гимназист один, был еще один молодой человек в штатском, только не бритый, а брюнет, в усах и бороде; да еще отец протоиерей. А больше, кажись, никого и не было. — Знаком ли вам кто-нибудь из этих троих? — Как же-с! Отец протоиерей каждую неделю моются. А вот про гимназиста, да и про молодого человека, это точно, не могу сказать: может, и видел когда, да где уж всех упомнить! — Кто из банщиков прислуживал сегодня здесь, в номерах? — А вот этот самый, Гаврила, что здесь недавно был. — Давно он служит? И что за человек? — Служит давно, — годов, поди, десять. Человек смирный, непьющий. — Грамотный он? — Печатное, кажись, разбирает кое-как. Коренев велел снова позвать банщика. Из расспросов выяснилось, что неизвестный за приготовление номера дал Гавриле двугривенный и велел подать простыню. В разговоры посторонние с ним не вступал. Спрошенный, не видел ли он неизвестного после того, как подал ему простыню, Гаврила сообщил, что видел: подавши простыню, Гаврила ушел в другой коридор и когда вернулся снова, примерно через полчаса, то увидел старика бродящим по коридору. Старик сказал, что ищет, где купить ему мыла, но что забыл в номере очки и не знает теперь, ни куда идти за мылом, ни как вернуться в номер. Сердился, что никого-де не дозовешься. Гаврила проводил его к номеру, а сам пошел за мылом. — Вошел он при тебе в номер? — перебил его Коренев. — А вот и не упомню. Деньги-то наперед дал, в коридоре, — полтинник. — Сколько времени ходил ты за мылом? — А кто знает, недолго: минут, чай, пять, не больше. — Пять? — удивился Коренев. — Ведь до кассы два шага! — Так ведь в лавочку же бегал: мыло-то ему, вишь ты, от перхоти понадобилось, а мы сами его, знашь, не держим — потому, редко кто требует… Коренев, по-видимому, все больше и больше заинтересовывался, хотя для меня, должен сознаться, все эти расспросы казались лишь ни к чему не нужной проволочкой и тратой времени. — Где отдал ты ему мыло? — Подал из коридора в номер. — Был номер заперт, когда ты принес мыло? — Кажись, был. Да, верно: я постучался. Подал мыло и сдачу, а он еще 30 копеек, спасибо, на чай дал, — сдачу-то всю, значит! — Скоро он отворил тебе? Гаврила начинал недоумевать. — Да как все приметишь! Кабы знать, что понадобится, вот бы и замечал, — а то, чай, как упомнить! — Ну, ладно. Словом, в номер ты не входил. А в чем был старик, когда ты увидел его в коридоре? Вот, когда очки он позабыл? Был он в пиджаке или может, в пальто? — Был, кажись, в пальто. — А может, и в шляпе? — Кажись, что так. Да ей-Богу, ваша честь, всего не приметил, — вот, кабы знать, что понадобится… — Ну, ладно, ладно! Коренев прекратил, наконец, расспросы и молча занялся снова тщательным исследованием очков. Он даже надел их и попробовал читать, затем подошел в очках к окну и стал глядеть на улицу. По особому выражению глаз своего друга и по характерному, мне лишь известному расширению ноздрей я мог заметить, что внимание его достигло высшего напряжения и что ему стоило немалого труда побороть свое, непонятное мне, волнение. Среди общего молчания он сделал несколько шагов по комнате, потом ушел в ванную, вернулся оттуда и, глядя искрящимися глазами на банщика, спросил: — Ну, Гаврила, а теперь скажи: где же мыло, что ты принес? Ведь, говоришь, подал ты его покойному, — где ж оно? Стали искать мыло, но — к изумлению всех, особенно же Зверева — не нашли и следов его! — Неужто ж смылил все? Чудо, да и только, накажи меня Бог! — волновался Зверев. — Смылил, говорите? — улыбнулся Коренев. — Для самоубийцы-то, положим, не так уж важно, с перхотью или без перхоти явиться на тот свет. Но допустим даже, что смылил, а где ж, все-таки, обертка? Обертку-то уж не смылишь, а ты, ведь, Гаврила, сам мыла не распечатывал? — Куды тебе! Знамо, не распечатывал, — растерянно пробормотал банщик. — То-то вот и есть. А обертки-то ведь, братец, тоже нет! Все бросились теперь искать загадочно исчезнувшую обертку. Когда самые тщательные поиски оказались тщетны, всеми овладело тягостное смущение. Помню, как по моему сознанию прошла волна досадного, смутного недоумения и в сердце закралось предчувствие чего-то недоброго. Призрак угрюмой тайны, казалось, заглянул к нам в комнату и повеял над нами своим темным, холодным крылом… Зверев подошел к околодочному и что-то тихо сказал. Я расслышал только — «ни на шаг…» и «чуть что — сейчас же…» И снова все мы тяжело молчали. Первым заговорил Коренев. — Ну, на первый раз довольно, — сказал он. — Попрошу вас, Ипполит Семеныч, — обратился он к Звереву, — распорядиться, чтобы в те номера, где мылись о. протоиерей, гимназист и еще тот третий, брюнет, никого не впускали до моего вторичного прихода. Если можно, я просил бы даже все эти четыре номера — те три и этот — запечатать пока. Советовал бы вам, между прочим, снять фотографическую карточку с трупа — она может пригодиться для установления личности, ведь пока мы в этом отношении совсем беспомощны. Ага, бутылку, что я просил, вы добыли, — спасибо! Хочу взять в нее воды из ванны. Когда освободитесь здесь, приходите к нам: будет о чем потолковать. Белье и шляпу покойного позволите взять пока? Спасибо, спасибо. Записка, очки и бритва тоже у меня. Так приходите же, обязательно! Мы отправились с Кореневым домой, я — разбитый и утомленный, сбитый с толку его расспросами и действиями, он — сосредоточенно возбужденный и молчаливый. — С кровавой водою теперь, пожалуй, и делать-то нечего уже… — было единственное, что сказал он дорогою, поправляя в кармане бутылку. Зная привычку своего друга не особенно охотно говорить с «непосвященными» о деле, не доведенном до конца, я и дома не приставал к нему с вопросами, тем более, что чувствовал себя усталым. Предстоящие собственные и притом неотложные дела тоже не располагали меня сосредоточиться на случившемся. Когда я проснулся от послеобеденного сна, я слышал, однако, как Коренев в своем кабинете, рядом с моей комнатой, говорил Звереву: — Судебное вскрытие необходимо, и оно докажет, что я прав: самоубийства не было, было убийство. Чтобы разрезать правую руку, нужно быть левшою, а у покойного, как я убедился, более развиты мускулы правой руки: значит, левшою он не был. Если предположить даже, что разрез правой руки был вызван чем-нибудь другим, то спрашивается, чем же именно? Уж не тем ли, что если держать бритву в левой руке, как якобы сделал покойный, то тогда для того, чтобы выбросить бритву справа от ванны, что покойный тоже якобы сделал, нужно тянуться через всю ванну? Судите сами, насколько это удобно, особенно для ранившего себя человека! Это было первое, что натолкнуло меня на мысль об убийстве. Да и вы согласны, не правда ли? Очень рад. А затем, возьмите другие данные. Зачем, хотя бы, человеку, решившемуся на самоубийство в ванне, требовать простыню? Или зачем ему надевать перед банею чистое белье, если решил через несколько минут сбросить его с тем, чтобы уже никогда больше и не надеть? Вы говорите, что за мылом тоже нечего было посылать. Это разумеется, так, но… — но здесь начинается новая нить: ведь мыла-то мы не нашли, не нашли и обертки от него, и здесь-то именно у меня возникла иного рода теория. Какая? Ну, этого я пока не скажу: боюсь ошибиться. Только из нее вовсе не следует то, что думаете вы: Гаврила, по-моему, ничего не скрывает и во всем давал правдивые показания — и вы напрасно, по — моему, его арестовали. Смейтесь, смейтесь, я не сержусь, — а вот как бы не пришлось напоследок сердиться вам, а мне смеяться! Кто же, вы спрашиваете, убийца и как проник он в номер? Пока это неясно, но я чувствую одно: исходной точкой всех поисков должен быть маленький, но вполне установленный факт, а именно — исчезновение мыла. Сопоставляя этот странный факт с некоторыми другими черточками всей истории, я построил уже несколько теорий; которая из них окажется верной, покажет будущее. Пока скажу лишь, что убийца — смышленый и ловкий человек и был особенно заинтересован, чтобы личность убитого возможно долгое время оставалась невыясненною. Этого он достиг, но это же в конце концов может и погубить его: чтобы придать преступлению вид самоубийства и в то же время устранить все данные о личности жертвы, убийце пришлось напрячь все силы ума и изворотливости и повести дело со всею тонкостью, на какую только он оказался способен. Но ведь где тонко, там и рвется!.. «Коготок завяз — всей птичке пропасть», а «коготок»-то этот, думается, в моих руках… Дело, разумеется, крайне сложное и запутанное. Личность убитого установить трудно — еще труднее найти убийцу. Кстати, оба они, думается мне, приезжие, а не то и проезжие даже (вспомните пыль на пальто и пиджаке, а также слова покойного: «Слава Богу, добрался до бани!»); а если так, то это еще более запутывает дело. Словом, у нас, с одной стороны — несуществующий кусок мыла, а с другой — неизвестная личность убийцы, скрывающаяся в пределах России, а то и всей Европы; определивши по несуществующему куску мыла неизвестную личность, нужно найти ее в этих пределах… Если прибавить ко всему, что придется затем подыскать еще и веские доказательства, что найденное лицо есть действительный убийца, а не жертва необузданной фантазии того, кто его нашел, то ясно, насколько трудна предстоящая задача. Но в том-то и прелесть ее, тем-то и заманчивее решить ее! — Где уж нам, старикам, угоняться за вами! — уныло отозвался на речь Коренева Зверев. — Во всех этих мылах да черточках ваших ничего я, по совести, не понимаю, да и не пойму никогда, накажи меня Бог! Мне уж хоть бы личность поскорее установить — и на том спасибо… Позвольте, позвольте! — оживился вдруг он. — Вы ведь вот тоже вначале сбились было: помните, согласились с Николаевым, что покойник — самоубийца и, верно, педагог? Помните, еще про очки угадали, — что покойник, мол, наверное, очки носил? — Это уж у меня — просто удача, — смеясь, отвечал Коренев. — Просто хотел пошутить — и угадал. Да и чем я рисковал, угадывая? Не угадал бы про очки, спросил бы тогда, не носил ли покойник длинных волос… — тоже, как педагог… Или не был ли неряшлив в одежде… И все-таки что-нибудь да угадал бы в конце концов. Шутка, как видите, почти всегда должна была удаться. — Вон оно что… А я то и уши развесишь! Ну, и лукавый же вы человек, Николай Гаврилович, накажи меня Бог! — отвечал, в свою очередь посмеиваясь, Зверев. Он и не подозревал, что в соседней комнате находилось лицо, которое особенно охотно согласилось с этим выводом его… Доктор Уатсон сильно вырос в этот вечер в моем мнении, а моя собственная зарождающаяся слава сыщика так и «отцвела, не успевши расцвесть»… Весь этот день останется для меня навсегда тем более памятен, что моему коварному другу он сослужил совсем иного рода службу: как увидим ниже, он дал ему случай применить свои исключительные способности к раскрытию одного из наиболее удивительных преступлений всей его добровольной практики. Но что всего важнее, — удивительность завязавшихся событий сказалась, в конце концов, не столько в узоре внешних сцеплений, сколько в той мелодии, какую разыграли на них завертевшиеся в этот день валики и колесики жизни… Не станем, однако, забегать вперед!Глава II
Для любителей ощущений не столько сильных, сколько приятных
В универсальной загадке загадок — жизни — самая крупная частичная загадка есть, без сомнения, человеческая мысль. Ключ к уразумению вещей, — сама мысль уразумению не подлежит; источник, из которого черпаем все мерила и определения, — сама мысль не поддается ни измерению, ни определению. Что такое, в самом деле, мысль? В чем ее сущность? И какие законы управляют ею? Почему она то пресмыкается, тесно прижавшись к самым низам земли, то вдруг устремляется к небесам, ликующая и светлая, и дерзновенно шевелит там завесу вечного, тайного и бессмертного? Где тяжесть, гнетущая ее вниз? Где крылья ее? Вспоминая описанного Гейне юношу, который ждал у моря ответа на подобные же вопросы, я предпочитаю уступить решение их самому любознательному читателю. Делаю это тем охотнее, что точно так же поступают, как известно, даже и величайшие из писателей: ведь все они тоже вечно ставят перед читателем целый ряд самых интересных и важных вопросов, но всегда почему-то загадочно умалчивают о решении хоть бы одного из них… Почему они делают так, — это, очевидно, их глубокая профессиональная тайна; но саму остроумную манеру эту мне все-таки давно уже посчастливилось подметить у них, и я решил в конце концов, что недурно усвоить ее, на всякий случай, и себе. Но — к делу! Коренев, как славянин, был чужд изъянов мысли, свойственных другим нациям. Маленькому острому ножу подобна неугомонная мысль немца. Усевшись на пятнышке вселенной, она бойко работает над отделением от тел инфузорий их ножек и ведет безошибочный счет образующим эти ножки суставам. Слон — ее давнишний и непримиримый враг. Сквозь стекла ученых очков она открывает вселенные в капле болотной воды и с точностью полицейского протоколиста возвещает о них невежественному смертному, который в своей дерзкой наивности попросту думал, что вселенная, напротив, — это он сам и его собратья; что вселенная — это греющее его тело солнце и смягчающие его душу звезды; что вселенная — это река, над которой он вырос, и лес над нею, где так много веселых птиц и так славно пахнут цветы… Француз собирает протоколы немецкой мысли и, идя дальше, старается уже найти по ним сходство между слоном и инфузорией. Но пылкий темперамент не дает ему, к сожалению, сосредоточиться. Открывши, что у слова тоже есть ноги и что часть сходства, таким образом, найдена, французская мысль вспыхивает, как порох, и без потери времени выкидывает по сему радостному поводу маленький антраша в сторону — так, примерно, через весь земной шар, захвативши, кстати, и кусочек небесного пространства. Еще минута — и она гостила бы уже где-нибудь на Марсе. Но тут замешивается одно маленькое и совершенно непредвиденное обстоятельство, — всего лишь в образе неизвестно откуда подвернувшейся, но зато, как на грех, нарочито пленительной брюнетки или блондинки… Небесный маршрут немедленно отменяется — и через минуту милый француз снова дома, снова на земле. Вот он сидит уже у себя, нежась земной уютностью, довольный прогулкою, немножко возбужденный, немножко усталый; он пьет вино, болтает, каламбурит и, наконец, окончательно успокаивается на какой-нибудь, собственного изделия, бесполезно-блестящей, как ракета, салонной остроте. Не такова мысль славянина. Идеалист, остающийся до конца дней скептиком, и скептик, до гроба верный идеализму, славянин управляет своей мыслью двумя противоположными, но равно крепкими вожжами. Мысль не завезет его, разгорячившись по пустякам, на луну, но и не станет она подслеповато колесить взад и вперед по пустому месту. Ясно видна ей бесконечная дорога ее манящего пути. И, совершая этот назначенный Богом путь, радуется она днем солнцу, свету и воздуху, ласкающему ветру полей, свежести проносящихся мимо рек и лесов; радуется после вечера бодрящей ночной прохладе, блестящим в траве светлякам и купающимся в каплях росы звездам… Но не испугается она и не шарахнется в сторону от ударов разразившейся внезапно грозы, не смешает ивановского червяка с маяком спасения, и в ночной ветле не почудится ей ни разбойник, ни привидение. Зоркая и трезвая, ясно различает славянская мысль вещи и понимает, какое место отведено природой для каждой из них; жизнерадостная и поэтическая, а следовательно, полная желаний, она не выдумывает того, чего нет, а лишь стремится познать сущность того, что есть, и старается затем на основания этого познания расположить вещи так, чтобы новая комбинация их дала осуществление ее желаний — ее идеала. Поэтому-то так далека славянская мысль от намерения задуть солнце или, наоборот, водворить небеса со всеми светилами на земле; напротив — она фантазирует прежде всего о том лишь, как бы у всякого живущего на земле был хлеб и приют, и твердо знает, что после этого не будет надобности ни гасить солнце, ни притягивать небеса к земле: они и в своей отдаленности будут давать тогда наибольшее тепло и отраду… Описанный в предыдущей главе разговор Коренева с Зверевым заставил меня несколько надуться на своего друга. Но должен сознаться, что та же шутка Коренева, по странному противоречию человеческой природы, еще больше подняла его в моих глазах: такова уж, видно, неотразимая сила талантливости! Я втайне снова заинтересовался задачей, за которую взялся Коренев, и решил втихомолку наблюдать за всем, что он станет делать. Однако истина, что чем выше человек, тем он проще, оправдалась и здесь, и мой друг сам пошел навстречу моим желаниям. — Хотите, Алексей Иванович, побывать на вскрытии? — спросил он меня утром следующего дня. — Это «педагога»-то вчерашнего вскрывать будете? — несколько натянутым тоном отвечал я. — Нет уж, спасибо. Поезжайте сами, а то еще с вами опять на насмешку напросишься. — Ну, полноте, Николаев! Ведь вы сами знаете, что я никогда не насмехаюсь… т. е., правильнее, не насмехаюсь зло. Вы просто была несколько опрометчивы в выводах — и я хотел лишь дать вам маленький урок осторожности. Вы, надеюсь, не сердитесь на меня серьезно? — Да где уж на вас сердиться, Николай Гаврилович! И хотел бы — да не могу… — откровенно сознался я. Добродушный смех и рукопожатие снова восстановили мир между нами. Но ехать на вскрытие я все же отказался: не было времени. — Напрасно отказываетесь. Алексей Иванович: после вскрытия поехали бы опять в бани, номера распечатывать; а там можно снова надеяться на что-нибудь интересное. — Да что толку мне в банях? Сам я все равно ничего не замечу и не пойму, а вы ведь меня в ваши выводы не посвящаете, — возразил я. — Логично, логично, накажи меня Бог, — как выражается наш несравненный Ипполит! Но утешьтесь: во все посвящу, как есть во все… — лишь во благовремении. И мы еще с вами — именно с вами вместе! — такое, быть может, дельце состряпаем, что Звереву и во сне не приснится! Впрочем, последним словам особенного значения не придавайте: ведь вы сами знаете, какой я фантазер! — Да, — фантазия иногда того… Бывает, что она иногда, как бы сказать, и ничего себе вещь… Штука занятная, — неопределенно сказал я. — Вот! — оно это самое и есть! Верно это вы говорите, Алексей Иванович! — горячо придрался вдруг к моим словам Коренев. — Именно так, как вы сказали: что может быть выше фантазии! А ведь я знаю — надо мной многие смеются… Они не понимают одного: чтоб получить песчинку на лицо, нужно уметь творить фантазиею горы! Ум, у которого всего на грош фантазии, обречен вечно пресмыкаться и никогда не поймет, что и сам-то он жив лишь потому, что питается плодами мысли как раз тех же фантазеров, которых он часто презирает… Верно это вы сказали, Алексей Иванович! Золотые эти слова ваши! Одно могу сказать: спасибо за них… Мне ничего не оставалось, как лишь принять благодарность приятеля за свои «золотые слова», хотя я чувствовал, признаться, что мои авторские права на эти «золотые слова» вряд ли особенно чем отличались от таких же прав моих на «Одиссею» или, скажем, на Библию… Что делать! Ладно уж и то, что приятель воздвиг перед моим изумленным взором всего лишь одну «гору» фантазии: ведь в этот промежуток времени ему, я знал, ничего не стоило бы создать и целую, умеренной бесконечности, горную цепь!.. Часа через четыре после ухода Коренева горничная Глаша (она же экономка, кухарка, прачка и посыльный) подала мне написанную его рукою записку. — Старик там принес какой-то. В кухне дожидается, — сказала она. Вскрывши конверт, я прочел: «Препровождается с сей запискою жертва служебного усердия Ипполита и К°, банщик Гаврила. Насилу уломал отдать мне на поруки. Подлец Брыкин осерчал и на место не принимает. Так как некоторым образом сам я бросил палку в колесо Гаврилиной фортуны, то решил, в виде искупления, взять его пока что к себе в услужение. Посвятите поскорее в это дело Глашу, на предмет незамедлительного насыщения сего не только закоренелого, но и, по всем данным, весьма голодного преступника». Посвященная в дело Глаша позвала Гаврилу ко мне. «Жертва служебного усердия» являла видь крайне жалкий и растерянный: мочалистая бородка ее тряслась вместе с подбородком, как в лихорадке, из-под приподнятых седых бровей стальным блеском посверкивали маленькие глазки, утопающие в лучах морщин и, видимо, давно не спавшие. Даже изъясняться «жертва» не могла как следует. — Чего, то-ись, такое? Видит Бог… «Туды-те, растуды», — грит… Ась? Это хозяин то, — да… Да как так! Я хуч бы слово какое, али как, а он — поди-ко-ся! «Иди, — грит — иди!» Да… А куды итить-то? Ась? Ах ты, дуйте горой! Вор я тебе, али как? «Арештант», — грит. Да нешто я по своей воле… Десять-то годов — не десять-то ден, чать, — а? Да по мне хоть тысчи!. Да кабы я — видит Бог!.. Ась? «Закоренелый преступник» имел, очевидно, очень смутное представление о том, в чем он обвинялся. И то сказать: немало-таки встречается у нас умственных лентяев среди преступников! Очень многие из них ни за что не хотят пошевелить мозгами и припомнить, что, собственно, сделали они преступного. Они так ленивы, что говорят даже, будто они так-таки, хоть убей, и не могут вовсе этого вспомнить… Жалкие, негодные лентяи! И что за каторжный труд должны нести из-за них бедные прокуроры! Убедившись, что Гаврила принадлежит, несомненно, к числу подобных лентяев, я поспешил прекратить нашу несколько туманную беседу и услал его на кухню обедать. Сам Коренев вернулся домой лишь перед вечером. Он был еще бледнее, чем обыкновенно, но от всей крупной фигуры веяло торжественностью, глаза сияли. — Ну, дружище, — сразу обратился он ко мне, — так как теперь наступил момент, когда мне нужно взнуздать себя, то выложу вам целиком все факты, а затем, умоляю, о деле ни гу-гу! Во-первых, — вскрытие. Он оказалось, утоплен, как я и думал. Во-вторых, — газеты. Репортерам, по моему настоянию, пущен туман в глаза, и они будут писать теперь не об убийстве, а о самоубийстве, — что, мол, не остается никаких сомнений и т. д., в том же обычном их авторитетном тоне… Ну-с, в третьих, — осмотр запечатанных номеров. Ничего существенного осмотр не дал… судебным властям, то есть. Мелочи, на которые они не обратили внимания, конечно, в счет пока не идут: разбираться в мелочах — дело фантазеров, а представители правосудия — все люди солидные, как известно. Думаю, что солидности этой в них даже «немножко много» — как говорил мой учитель немецкого языка. Что ж еще? Да, кажется, и все пока. А теперь мне необходимо отдохнуть и постараться позабыть на сегодня о деле, — не то, пожалуй, как разыграется воображение, так всю ночь и не уснешь. Кстати, мы давно уже не играли с вами в шахматы, — давайте-ка изобразим перед ужином партийку-другую: я заметил, это успокаивает. Да и вы ведь целый день работали, вам тоже не мешает развлечься. Между прочим, — чтоб не позабыть — нужно себе, на всякий случай, еще за бромом спосылать. Да, ведь у нас теперь даже собственный посыльный есть, — вот лафа! Дороговатое несколько удовольствие, нужно-таки сознаться, но что делать? Жизнь, — как сказал Конфуций, — фирма солидная, и дешевые распродажи такого ходкого товара, как удовольствия, у нее вообще не практикуются… Как, между прочим, понравился вам наш закоснелый злодей и вся эта нелепая история с ним? Бедняга, кажется, совсем сбит с толку: представьте, он уверен, что его обвиняют в краже мыла, — как вам это нравится?.. Пойду погляжу, однако, как и где он там устроился. Воспользовавшись уходом Коренева, я позволил себе развлечься кое-какими, по возможности невинными, мыслями. Хорошее это занятие — думать, жаль только, что не вполне общедоступное! Я нахожу, что позволять иногда мыслям свободно пролетать через голову так же приятно, как, например, пускать кольцами дым хорошей папиросы или, лежа в траве, смотреть на облака и следить за их милыми, причудливыми изменениями… Теперь, припоминая сказанное Кореневым о Гавриле и по поводу Гаврилы, я не мог не усомниться кое в чем, но в то же время кое с чем пришлось все-таки и согласиться. Усомнился я прежде всего в том, чтобы афоризм о дешевой распродаже удовольствий принадлежал именно Конфуцию. Впрочем, я скоро примирился на решении, что все это, в сущности, не беда; если Конфуций и не говорил ничего подобного, то, во всяком случае, он свободно мог бы это сказать; может быть, он даже и хотел уже как-нибудь сказать это, да просто почему-нибудь не успел… Затем моему сомнению подвергся и другой пункт из сказанного приятелем, именно тот, где он пользование Гаврилою отнес к разряду удовольствий. Пожалуй, известного сорта удовольствие Гаврила, действительно, сулил нам, но это удовольствие почему-то рисовалось мне не иначе, как вроде того, какое древле получил милосердный самарянин, совершая в пустыне свой столь выдающийся по своеобразности мотивов поступок. Мне лично такая перспектива мало улыбалась: в удовольствиях этого сорта я, с детства еще, вообще как-то сдержан… Зато в чем и согласился я вполне с приятелем, так это в том, что удовольствие будет, действительно, не из дешевых. Тут уж не было места никаким сомнениям, ибо характер своего друга я достаточно знал с этой стороны: будучи сам человеком невзыскательным ко всем жизненным удобствам, Коренев до мнительности беспокоился всегда об удобстве других, и я не без основания опасался, как бы Гаврила, выражаясь фигурально, не лег некоторого рода бременем на наш и без того скудный в общем бюджет. Скоро приятель вернулся из кухни с озабоченным лицом. — А дело знаете, плоховато, — сказал он. — Что такое? — Старикашка-то наш, понимаете ли, пообедал и спит теперь. Но главное — я боюсь, что у него, кажется, жар. В аптеку-то я уж сам схожу лучше. Кстати, нужно будет и хины купить ему. Пожалуй, невредно еще малины сушеной захватить, что ли… Как вы думаете? Я предпочел, однако, сохранить на сей раз свое мнение под покровом возможно глубокой тайны. С гордостью вспоминаю, что у меня хватило даже духу не вызваться самому пойти в аптеку! Впрочем, вряд ли Коренев стал бы и слушать меня, — так он засуетился и забегал: ему, видите ли, крайне необходимо оказалось удостовериться, есть ли у нас коньяк, медикамент, как известно, для вызова испарины не только полезный, но и, можно сказать, почти необходимый, — особенно ввиду столь тревожного симптома у болящего, как сон после обеда… Не найдя, разумеется, никакого коньяку и — стоит ли даже говорить об этом? — решивши, что покупка его неизбежна, он, наконец, исчез. Так положено было прочное и счастливое начало новой Гаврилиной роли — посыльного при Кореневе. Вечером мы играли в шахматы, много курили, немало, как водится, молчали. Давши мне чуть ли не третий мат, Коренев позвонил Глашу. — Ну, что, Глаша, как наш Гаврила? — Да беда с ним, барин! Я уж и не знаю… — Что он? — встревожился Корнев. — Спит все еще? Не бредит он? — Да где тебе спит! Кабы спал, а то табак трет… Просто — чихаешь, чихаешь… — Какой табак? Что за ерунда такая! — Да он, вот, как поспал, так и пошел: в гости, говорит, к куму. А кум-то у него, вишь, деревенский, — так вот, табаку ему и привез… Кум этот, значит, чтоб ему пусто! Саморослый там он, что ли, табак у них, в деревне то… Вот он, идол, и трет теперь в черепке палкою, — нюхать чтоб, значит… Вы бы уж ему, барин, сказали, а то такое там напустил… Кошка — и та чихает. Коренев недоуменно помолчал. — Зачем же он, дурак, трет? — сказал наконец он, приподнимая брови. — Купить ведь мог бы. Денег у него, что ли, нет? — Вот, поди ж ты с ним! И я уж ему говорила, — так он, вишь ты, купленного — говорит — не люблю: крепость — говорит — в нем не та, в купленном-то… Я попробовал высказать предположение — не в бреду ли совершает Гаврила свои идиллические действия; но мысль эта почему то осталась без сочувствия. — Вот вы смеетесь, — сказал Коренев, — а я ужасно рад: старикашка-то наш, видно, и впрямь на поправку идет! Кум ему, значит, подарочек привез, а он теперь сидит и старается. Воображаю, сколько серьезности и души вкладывается в это занятие! Ах он, подлец этакий! Вот Божье дитя-то где!.. Милый чудак! Он и не подозревал, как удачно нарисовал он последними словами свой же собственный портрет… Ночью, когда я уже достаточно выспался, меня разбудил Коренев. Он пришел ко мне в халате, со свечою в руке. Его мертвенная бледность и горящие глаза поразили меня и испугали. — Николай Гаврилович! Что с вами? Нездоровится? Коренев, не выпуская свечи, присел ко мне на постель. — Боюсь… — стал он, наконец, говорить. — Только стану засыпать, так он и приснится. Так и сидит в ванне… и головой еще качает.. Мне это сообщение сразу не понравилось. Я, впрочем, промолчал. — Не знаю, как и быть, — продолжал Коренев. — И стыдно — а страшно! Бромом тут, видно, не поможешь… — Ложитесь у меня, авось уснете, — предложил я. Но он, казалось, не слышал того, что я сказал, и, не мигая, глядел куда-то далеко, будто сквозь стену. — Знаете, — сказал вдруг он, ежась и каким-то торжественным шепотом, — я и того сейчас видел… — Того, другого, который его утопил… Совсем ясно. Вот как вас… Мне самому стало жутко… Но скоро я опомнился и решил, что необходимо принять сразу же меры решительные и крутые: бром тут и вправду не годился! — Черт возьми! — вскричал я. — Всему есть мера! Вы уже обратили нашу квартиру в богадельню, теперь хотите расширить богадельню и сделать еще маленькую пристроечку для лечебницы… Вот до чего доводит ваша хваленая фантазия, черт бы ее побрал совсем! И кто вас просил, скажите на милость, путаться во все это дикое дело? Или с вас мало уже земных знакомств, знакомств, притом, вполне приличных? Что же вы суетесь еще к выходцам с того света и рады чуть ли не меняться визитными карточками с первым попавшимся бродягой из привидений? Бросьте эту неряшливую манеру в выборе знакомств; она до добра не доведет! Коренев слушал меня с широко открытыми глазами, сначала сидя, потом стоя. Затем он побродил возле кровати и поставил, наконец, свечу на стол. Это возвращение к духовидцу способности человеческих действий ободрило меня. Из его ответа я убедился, однако, что мое лекарство подействовало еще не вполне. — Друг мой! — начал он, и в его голосе зазвучала нестерпимая ласковость. — К чему клеветать на самого себя? Ведь я вас хорошо знаю и меня не проведете. Вы хотите лишь отвлечь своими шутками мое внимание в другую сторону — но ваши шутки… в них много грубости… И к тому же есть вещи, которыми нельзя шутить… Вы знаете это не хуже меня, — к чему же выставлять себя с дурной стороны? Прошу вас, не делайте этого: пусть уж лучше продолжаются эти сны, чем я буду видеть вас наяву хуже, чем вы есть на самом деле… Но меня не так легко было сбить: кислосладкость этой тирады заставила меня лишь поторопиться с отпуском новой порции лекарства. — Да, — продолжал я, — я никогда не сомневался ни в вашем великодушии, ни в добром мнении обо мне, — жаль только, что вы уж чересчур великодушны и что я в вашем мнении чересчур уж хорош! Ваша фантазия сделала из меня какого-то, черт возьми, сахарного херувима, которому не полагается даже выражаться по-человечески!.. А потом, ваше великодушие… И что вообще за несносная манера у этих великодушных людей! Упаси вас Бог как-нибудь невзначай задеть великодушного человека! Но особенно берегитесь наскочить на клыки его всепрощения, находясь в обществе… Великодушный человек, по кротком выслушании того, что показалось ему обидой, немедленно же скрестит руки на груди и с ласковой грустью станет, не отрываясь, глядеть вам прямо в глаза; затем, когда все находящиеся в комнате стихнут и застынут в ожидании его словесной манны, он начнет говорить медленно и тихим-тихим голосом (зачем говорить ему громко, если в комнате и без того не слышно уже никаких иных звуков, кроме биения вашего бедного сердца? — зачем говорить ему громко, если уже сбежалась и затаила дыхание у дверей вся прислуга, и вы сами с ужасом видели, как из третьей комнаты давно уже вкатили параличную бабушку хозяйки, и даже эта почтенная старушка обратилась уже целиком в одно напряженно-нетерпеливое молчание?!..). Медовым голосом великодушный человек скажет вам по смыслу приблизительно следующее: «Друг мой! Вы грубы и дерзки, как ломовой извозчик, но меня вы не надуете: я ведь хорошо знаю, что в сущности вы — оптовый склад добродетели и в состоянии дать десять очков вперед любому херувиму! Зачем же, дорогой мой, вы притворяетесь? К чему стараетесь выставить себя в дурном свете? Зачем вы поступаете, мой друг, так, как пристало это делать только самому отпетому мерзавцу, да и то лишь при условии, если он вдобавок отъявленнейший нахал и первейший в мире наглец, плут и негодяй?» И когда он выкадит перед вами весь этот фимиам своего смиренномудрого сердца, взоры всех присутствующих безмолвно устремятся на вас, и в них будет столько доброты и грусти!.. И если вам не посчастливится, не сходя с места, сгореть со стыда дотла и без остатка или, наоборот, не хватит духу потрепать с поощрительной улыбкою великодушного человека по плечу и заявить, что вам, в общем, удался-таки ваш маленький опыт, затеянный вами исключительно с целью испытать его, великодушного человека, проницательность, — если, повторяю, не случится ни то, ни другое, во что, спрашиваю я вас, обратитесь вы по его же, великодушного человека, милости?.. Судите сами. Я же с своей стороны ручаюсь лишь за то, что вы очень и очень скоро откроете в своей груди неиссякаемый источник теплого, нежного чувства к жителям Новой Зеландии, Сандвичевых островов и прочих укромных уголков Божьего мира. «Добрые, милые дети природы! — мечтательно станете думать вы. — У вас живы еще более человечные способы отражать обиды: вы прибегаете всего лишь к скальпированию, а не то даже просто к какому-нибудь пустячному, ребяческому оглушению дубиной!» Этой и подобной болтовней я выбил-таки своего друга сначала из его кошмарной, а затем и из мечтательно-великодушно-кислой позиции. Он умостился кое-как на диване в моей комнате и, посмеявшись, спокойно уснул. Для меня, однако, повествования его о снах не прошли бесследно: весь остаток ночи и мне грезилась все какая-то чепуха. Снились даже бани и тот номер, где разыгралась драма, — с той лишь разницей от снов приятеля, что мол сны были не так поэтичны, а насчет страха и совсем уж как-то жидковаты. Даже сама ванна в номере почему-то отсутствовала в моих видениях, а на месте ее сидел на полу, вытянувши ноги, Гаврила и тер в черепке толстой палкою табак. Над ним стоял в грозной позе прокурор и говорил обвинительную речь.Михаил Ордынцев-Кострицкий ГУБЕРНСКИЙ ШЕРЛОК ХОЛМС
I
— Нет! Это, наконец, возмутительно! — раздалось где-то в комнате, и вслед за тем на веранду выкатилась небольшая круглая фигурка Александра Фомича Букатова, владельца трехсот пятидесяти десятин запущенной земли и такой же усадьбы в бассейне «реки» Гнилотрясиновки. — А что такое?.. — равнодушно отозвался господин, сидевший на крылечке. — Не подходи только! Не подходи! Лески перепутаешь… Говори, где стоишь… Что случилось?.. — Возмутительно! Прямо-таки возмутительно!.. — Да это я уж слышал, а что дальше?.. — Представь себе, приехал Федька… — Знаю, мы с ним рыбачить отправляемся сегодня… — А ты не перебивай, не в этом дело!.. Захожу к нему только что в мезонин — взглянуть, как он устроился… Сказал что-то; гляжу, а у него весь стол завален какими-то разноцветными книжонками… «Что это?» — спрашиваю. — «Ничего, папочка, книжки: вот это — Шерлок Холмс, а вон Нат Пинкертон, а те поменьше — Ник Картер, а вот дальше»… И пошел, и пошел!.. «Ах, ты, поросенок, — говорю, — тебе бы Андерсена читать, до Майн Рида не дорос еще, а туда же за эту дребедень берешься». — «Ничего подобного, папочка! Майн Рид уж устарел, а эти книжки развивают наблюдательность и мне полезны». Каково?!.. Плюнул я, разумеется, и бомбой вылетел за двери. — Общеизвестный педагогический прием… А возмущаешься-то ты совсем напрасно… — И ты туда же!.. Ну, скажи по совести, стоит ли хоть гроша ломаного вся эта феноменальная наблюдательность, построенная на явной подтасовке фактов?.. — Стоит, и даже много больше. — Да ну?.. Пожалуй, ты еще станешь утверждать, что и в действительности возможно что-либо в том же роде? — Представь себе, что стану. Всех этих Пинкертов я не читал, да и надобности нет читать, ведь они — копия, а с оригиналом, Конан Дойлем, я основательно знаком и мнения о нем высокого… — Вот ерунда!.. — Ты ошибаешься. — А чем докажешь?.. — За доказательством далеко ходить не нужно… О Шерлоке Холмсе у нас еще и не слышно было, а я уже давно знал человека, который на своей практике применял тот же метод, что и герой Конан Дойля, и применял с успехом поразительным. — Да? Это интересно! Кто такой? — Ты не слыхал о нем, должно быть, — я тогда еще кандидатом был… Феогност Иванович Трубников… — Трубников?.. Нет, что-то слышал, но только сразу не припомню… — Если не торопишься, я могу рассказать что-либо… — Вот и прекрасно!.. А я чаю выпью… еще не пил. Взволновал меня этот поросенок Федька, вот я и того, позабыл, что самовар уже затух. — Ну, что ж, я с удовольствием. О чем бы только?.. — и говоривший, задумавшись, остановился. Несколько минут длилось молчание. Александр Фомич совершенно успокоился, покончив с первым стаканом и уже принимался за второй…II
— Ну, так вот слушай… У Конан Дойля, если помнишь, Шерлок Холмс занимается химией, изучает пепел всех Табаков, но главным отличительным признаком является его страсть к курению… Феогност Иванович едва ли много смыслил в химии, вовсе не курил, но все сладкое любил до самозабвения. Это и естественно: у всех героев бывали свои странности, числилась такая и за моим… Когда, бывало, ни придешь к нему, а на низеньком столе, подле его излюбленной тахты, уже красуется несколько стеклянных вазочек с различными вареньями, а между ними коробки с карамелью, пастилой, засахаренными фруктами, короче говоря, со всем, что только можно было раздобыть по этой части в единственной кондитерской Зетинска. Особенно налегал Феогност Иванович на эту снедь во время производства следствия… Ну-с, так вот, прихожу я к нему как-то около полудня. Дело было летом и притом в праздник, так что Феогност Иванович оказался дома, на своей тахте… Поздоровались, уселся я, но разговор не клеится… К счастью, на столе, как и всегда, оказалось несколько газет… Начал было я просматривать передовицу в «Нашем крае», а Феогност Иванович и говорит: — Оставьте эту дребедень!.. Сегодня есть интересная заметка… — В происшествиях?.. — Конечно. Смотрю: «Кража со взломом», «Буйство на Дворянской», «Загадочная драма»… — Последнее… Прочтите!.. Читаю: «Как ни изобилует наше время самыми загадочными самоубийствами, способными поставить в затруднение и опытных слуг правосудия кажущимся отсутствием первичных причин печального конца, но грустный факт, только что сообщенный нам, едва ли не превзойдет своей необъяснимостью все аналогичные печальные случаи последних лет. Мы говорим о трагическом конце А. А. Чарган-Моравского, покончившего с собой минувшей ночью в своем родовом поместье Тальники. Камердинер покойного, изумленный тем, что барин, обыкновенно рано встававший, в это утро, несмотря на довольно позднеевремя, не подавал звонка, вошел в спальню и нашел своего господина в постели уже мертвым. Смерть последовала от раны в область сердца, нанесенной выстрелом из револьвера системы „Смит и Вессон“ 32 калибра, который оказался в судорожно сжатой руке самоубийцы. В записке, оставленной им на письменном столе, оказалась всего лишь одна стереотипная фраза: „Прошу никого не винить в моей смерти“. Супруга покойного…» — Довольно! Дальше неинтересно, — прервал меня Феогност Иванович. — Охотно верю… Тем более, что и в прочитанном такового не наблюдается… — Да… Вы правы… отчасти. Возьмите теперь номер «Бурлака» и найдите то же место. Нет, все читать не нужно. Вот отсюда… — Хорошо. «На письменном столе был найден надписанный карандашом конверт на имя госпожи Чарган-Моравской, а в нем такая же записка с просьбой усопшего никого не винить в его смерти»… — Вы не находите, что это происшествие становится интересным? — спросил Феогност Иванович. — Откровенно говоря, я не понимаю, что вы хотите этим сказать! — Да видите ли… — начал было он, но тут за окном загрохотали извозчичьи дрожки и остановились, в клубах пыли, у самого подъезда. «Когда дым выстрела рассеялся», как выражался твой излюбленный Майн Рид, то можно было видеть, что дрожки доставили к нам совсем молоденькую барышню, почти подростка, которая быстро взбежала на крыльцо и здесь остановилась, отыскивая, должно быть, отсутствовавшую дверную дощечку… Послышался звон, и я поспешил впустить неожиданную для нас гостью. Она вошла и нерешительно остановилась близ дверей.III
— Присаживайтесь, барышня! — предложил мой приятель, пытаясь выказать некоторую вежливость. — Благодарю вас, Феогност Иванович… если не ошибаюсь?.. — Он, собственной персоной… А вы кто же будете?.. Да отчего вы не садитесь?.. — Ах, помогите! Помогите мне!.. Вы знаете это ужасное происшествие?.. Мой бедный папа!.. — и барышня, вместо того, чтобы назвать себя, залилась слезами. Трубников дал ей выплакаться вволю, а когда наша посетительница успокоилась, приступил к последовательному допросу, который обогатил нас следующими данными: сам Чарган-Моравский, так бесславно погибший в своем родовом имении, был уже далеко не молодой человек, хотя бодрый и жизнерадостный. Его первая жена умерла лет восемь тому назад, оставив после себя дочь, Любовь Андреевну, нашу посетительницу, и сына, тогда двухлетнего ребенка. Когда первой исполнилось шестнадцать лет, ее отец женился вторично на княжне Захлябиной, теперешней мадам Чарган-Моравской. Вполне корректные, хотя и сдержанные отношения их друг к другу совершенно исключали возможность самоубийства на почве интимных недоразумений. Население усадьбы, кроме владельца, его жены и двух детей, составляли: камердинер Трофимыч, кандидат прав Орликов — гувернер мальчика, кучер Павел, ключница Берта Карловна и несколько человек домашней прислуги. — Зачем вы называете мне эти имена? — спросил Любовь Андреевну Трубников, когда она начала перечислять всех обитателей Тальников. — Потому что я не верю в самоубийство папы! — горячо воскликнула девушка. — Да… Почему же?.. Пропало что-нибудь ценное?.. — Нет, но я не верю!.. — Хорошо!.. Камердинер вошел в спальню вашего батюшки, встревоженный тем, что его в обычное время не позвали, не так ли?.. — Да, папа обыкновенно вставал в восемь часов… — Комната камердинера была далеко от его спальни?.. — Нет, между ними только одна библиотека. — Та-ак… Неловко мне, милая барышня, впутываться в это дело — ведь именье-то ваше в участке Ядринцева… Ну, да авось, он в претензии не будет — могу понадобиться ему на будущее время… Надеюсь, ничего не передвигали, не чистили?.. Все в первоначальном состоянии?.. — Да, следователя еще не было; только тело папы прикрыто простыней. — Ну, в таком случае, поедем… Ваши лошади на постоялом?.. Мишка! Одеваться!..IV
Всю дорогу Феогност Иванович сосредоточенно молчал, и только хрустение на его зубах прескверных леденцов, купленных им по пути на постоялый двор, доказывало, что его мысль усиленно работает над разрешением непостижимой для меня задачи. Мадемуазель Моравская несколько раз недоверчиво взглянула на моего приятеля, но я шепотом объяснил ей значение этого священнодействия — и она успокоилась. В глубоком молчании переехали мы гнилотрясиновский мост, и только когда из-за березовой рощи поднялись серые контуры строений Тальников, Феогност Иванович выбросил на дорогу остатки леденцов и пытливым взглядом стал осматривать окрестности. Через пять минут мы были у подъезда старинного барского дома. Еще на пороге нас встретил судебный следователь Ядринцев и, поздоровавшись с Феогностом Ивановичем, сказал: — Вы, коллега, прекрасно сделали, поторопившись приездом, так как мадам Моравская настаивает на немедленной отдаче тела покойного в руки домашних и, благодаря неоспоримости факта самоубийства, у нас нет данных отказывать ей в этом. А между тем, я узнал о вашем желании лично ознакомиться с обстановкой происшествия, и потому еще не начинал осмотра. — Очень признателен вам, Аркадий Павлович! В случае надобности во всякое время рассчитывайте на меня. Но к делу!.. Вы, кажется, сказали, что вам было известно о моем приезде?.. — Да, мне это сообщила мадам Моравская… То есть, она предполагала, что приехать можете и не вы, но я, разумеется, знал, что больше некому… — Ну да, само собой разумеется… А теперь, я полагаю, можно пройти и к месту происшествия, — сказал Феогност Иванович, и мы последовали за Ядринцевым, который провел нас во второй этаж дома. Расположение комнат здесь было очень просто: во всю длину дом пересекал прямой широкий коридор, по обе стороны которого и находились восемь комнат верхнего этажа. С левой стороны в коридор выходили две двери, расположенные в его противоположных концах; справа — три; две vis-a-vis с предыдущими, и одна на половине расстояния между ними. Ядринцев провел нас до конца коридора и повернул налево; мы очутились в маленькой комнате, из которой дверь вела в довольно обширную библиотеку. — Кто здесь жил? — спросил нашего проводника Феогност Иванович. — Старик-камердинер, помнящий усопшего еще ребенком… — Хорошо… Значит, один вход в библиотеку из этой комнаты, а другой — из двери напротив; она, вероятно, ведет в комнату самого Моравского? — Да… Войдем, там все готово… Трубников поднял тяжелую портьеру, и я не без волнения переступил порог, за которым не дальше, как сегодняшней ночью, прошел загадочный призрак смерти… Спальня покойного была невелика и отличалась спартанской простотой всей обстановки. На стенах тесаного дуба не было ни картин, ни драпировок; только над письменным столом, стоявшим в простенке между двумя окнами, висела коллекция восточного оружия, между которым виднелось несколько старинных пистолетов. Прямо против нас — такая же портьера, как на первой двери, маскировала вторую дверь, ведущую, как потом оказалось, в спальню госпожи Моравской; а налево от нее, у стены, примыкавшей к коридору, стояла кровать с телом усопшего. Чарган-Моравский лежал на спине, с немного запрокинутой головой, и казался бы спящим, если бы не темно-бурое пятно на левой стороне его груди и револьвер в судорожно сжатых пальцах правой руки. В комнате, кроме нас, было еще несколько человек, среди которых особенно выделялся своим молчаливым отчаянием высокий, совершенно седой старик, стоявший в ногах постели. Он даже не обернулся, когда мы вошли, и не оторвал пристального взгляда от тела своего господина.V
— Приступим? — вопросительно проговорил Трубников. Следователь, исполнявший роль хозяина, молча кивнул головой. — Теперь, доктор, ваша очередь, — обратился Феогност Иванович к невысокому полному господину, когда убедился, что в комнате, кроме нас и понятых, нет никого. — Вы можете определить причину смерти?.. — С полной уверенностью! Смертельная рана в область сердца… Безусловно смертельная! — повторил доктор еще раз, отвечая на пытливый взгляд Трубникова. — Хорошо… В таком случае, потрудитесь извлечь из раны пулю; это, полагаю, можно сделать, не безобразя трупа, так что чувства родных не будут оскорблены… Доктор вынул какие-то инструменты из черной сумки, бывшей у него в руках, и засучил рукава. Но Феогност Иванович остановил его: — Повремените-ка минутку! Сперва я должен взять револьвер — он может пригодиться. Аркадий Павлович, потрудитесь записать в протоколе положение пальцев на рукояти револьвера: большой с левой стороны; указательный — на гашетке; три остальные справа, слабо охватывая рукоять, — Трубников наклонился еще ниже и осторожно вынул оружие из окостеневших пальцев мертвеца. Несколько мгновений он молча рассматривал небольшой револьвер и вдруг воскликнул: — Вы уверены, Аркадий Павлович, что никто не прикасался к трупу?.. — Да! Понятые не выходили отсюда ни на минуту; я тоже пробыл здесь до вашего приезда… — Прекрасно!.. Доктор, теперь я попрошу вас приступить к извлечению пули. С последними словами Трубников подошел к столу и точно отыскивал на нем что-то глазами. Наконец его взгляд остановился на продолговатой коробке с конвертами; он быстро взял ее, вынул содержимое и, опустив в нее револьвер, бережно закрыл. — А вот вам дополнение к коллекции вещественных доказательств! — произнес доктор, подавая ему вынутую из раны пулю. Феогност Иванович мельком взглянул на нее, улыбнулся и сунул в жилетный карман, после чего спросил: — Вы записываете, Аркадий Павлович? — Да… — Где письмо, оставленное покойным?.. — Вот, на столе… Оно распечатано мадам Моравской, но затем снова положено на прежнее место. Трубников взял письмо и несколько минут внимательно рассматривал через увеличительное стекло его конверт. Но этот осмотр, по-видимому, оказался безрезультатным, и Феогност Иванович с недовольным лицом вынул само письмо. Он взглянул на него, затем понюхал и, усмехнувшись, опустил в карман. Меня нисколько не изумили эти странные манипуляции, но Ядринцев насмешливо переглянулся с доктором. Между тем, Трубников снова подошел к постели, потер какой- то губкой палец умершего, прижал к нему вынутую из кармана спичечницу и, положив ее в ту же коробку, где был револьвер, обратился к нам: — Я кончил, господа! Думаю, что близкие могут теперь получить тело. Вы, Аркадий Павлович, не откажете мне в своем обществе при последующих визитах?.. Ядринцев молча поклонился, и мы прежним путем вернулись в комнату камердинера. Старик принял нас почти недружелюбно, но на предложенные ему вопросы отвечал вполне обстоятельно. — Вы, Трофимыч, кажется, давно служите покойному? — начал Трубников свой допрос. — Да, сударь… Сорок третий год… — Барин занимался комнатной гимнастикой? — В молодости, сударь! — Как в молодости?.. А гири, которые я видел у него под постелью?.. — Нет, это — гири господина Орликова; в этой комнате раньше занимались гимнастикой барчук и его учитель, а под спальню она пошла только неделю назад, когда понадобился ремонт в кабинете покойного барина… — Какой ремонт?.. — Барыня приказала выложить пол паркетом, а то в двух комнатах Андрея Антоновича полы были из такого же тесаного дуба, как и стены… Барыне это не понравилось. — Госпожа Моравская молода? — Да, ей двадцать шесть лет; она на тридцать лет моложе покойного. — Неужели вы не слыхали выстрела, Трофимыч? — Не слыхал, сударь!.. Сам не понимаю, как это так случилось, но не слыхал. Барин около часу ночи лег и отпустил меня, а я в три проснулся, да так и не мог заснуть, а выстрела не слышал. — А барыня когда легла? — Должно быть, рано; я тогда же, около часа, сходил вниз, чтобы положить в приемной книгу, которую просила у барина Любовь Андреевна, а в столовой уже никого не было. — Через вашу комнату никто не мог пройти к покойному?.. — Ни войти, ни выйти: дверь заперта на ключ с часу ночи, а отпер ее я же около восьми утра. — Хорошо!.. Чья это комната против вашей, по ту сторону коридора? — Господина Орликова. — А в том конце, против спальни барыни? — Барчука. — А средняя дверь? — В кабинет покойного барина, а оттуда уже другая дверь в его спальню. — Из крайних комнат ходов в них нет?.. — Глухие стены, сударь! — А двери между опочивальнями барина и его супруги закрывались или нет?.. — Со стороны спальни барыни. — Хорошо!.. Вы, Трофимыч, можете поклясться, положив руку на Евангелие, что все сказанное вами — правда?.. — Конечно, сударь!.. — и старик поспешно снял с этажерки потертую от частого употребления книгу. Трубников раскрыл ее на заглавном листе, и Трофимыч, положив на нее руку, торжественно удостоверил правдивость только что данных показаний… Едва они кончили, как Феогност Иванович наклонился над Евангелием и благоговейно поцеловал раскрытую страницу; старик последовал его примеру, а что касается меня, так на этот раз и я был поражен странной выходкой моего друга, который, насколько мне было известно, никогда не отличался религиозностью, но вместе с тем никогда не позволил бы себе оскорбить религиозное чувство верующих. — Благодарю вас, Трофимыч! — произнес Трубников и обернулся к нам. — Теперь, Аркадий Павлович, отправимся к мадам Моравской…VI
Горничная доложила о нашем приходе и, возвратясь, сказала, что барыня просит нас сойти в приемную. Я уже повернулся к лестнице, ведущей вниз, Ядринцев — тоже, но Феогност Иванович остановил нас и попросил передать барыне, что мы крайне спешим и потому просим немедленной аудиенции. Несколько минут спустя мы уже были в будуаре молодой вдовы. Навстречу нам поднялась с кресла красивая, даже очень красивая, но бледная и, очевидно, усталая женщина. Неожиданная катастрофа произвела на нее потрясающее впечатление, что и теперь сказывалось в беспокойном блеске ее глубоких черных глаз и судорожном подергивании уголков изящно очерченного рта. — Господин Трубников? — произнесла она мелодичным, слегка вздрагивающим голосом. — Надеюсь, уже все кончено?.. Как я устала!.. Бедный, бедный мой муж!.. Кто бы это мог подумать?.. Какой ужасный конец!.. — Ради Бога, простите нас, сударыня, но мы никак не могли обойтись без нескольких вопросов, которые нам необходимо предложить вам лично… — Спрашивайте, я постараюсь быть точной, насколько это в моих силах. — Благодарю вас, сударыня!.. С вашего разрешения, будьте добры сказать, чем вы объясняете то обстоятельство, что ни вами, ни камердинером выстрел не был слышен? — Относительно Трофимыча ничего сказать вам не могу; что же касается меня, то сегодня ночью со мною случился обморок, и возможно, что пока моя горничная спускалась вниз за спиртом, а я лежала без сознания у себя — и произошло это несчастье… — Когда это случилось, вы не помните? — Вероятно, в начале второго часа ночи… Точно сказать вам не могу. — Благодарю вас!.. Больше, кажется, ничего… Ах, виноват, сударыня, у вас гусеница!.. Позволите?.. — и Трубников, осторожно прикоснувшись к плечу своей собеседницы, бросил червяка за окно. — Еще раз благодарю вас, сударыня, и не смею стеснять дольше своим присутствием. Мы снова очутились в коридоре… — Остается еще один и, надеюсь, последний визит! — воскликнул Феогност Иванович. — К гувернеру, господа! Мы снова прошли весь коридор и постучались в последнюю дверь направо. — Войдите! — ответил красивый мужественный голос, и на пороге показался высокий стройный молодой человек. Он обладал наружностью еще более привлекательной, чем его голос. На широких плечах, указывающих на недюжинную силу, уверенно держалась голова со строгим римским профилем и высоким лбом, обрамленным довольно длинными волнистыми волосами. Мы вошли в его комнату. — Садитесь! Чем могу служить вам, господа? — О, ничего особенного!.. Простое исполнение формальностей, и только!.. — Да?.. Так что же вам угодно узнать от меня?.. Вы курите? — обратился он к Феогносту Ивановичу, протягивая раскрытый портсигар. Изрядно же я изумился, когда мой приятель поблагодарил, закурил предложенную папироску и вдруг так заинтересовался портсигаром, что, по-видимому, совсем забыл о цели нашего прихода. Он попросил разрешения подробно осмотреть его и, медленно поворачивая в руках эту серебряную коробочку, громко восторгался тонкостью резьбы, которая, на мой взгляд, ровно никуда не годилась. — Прекрасные у вас волосы, сударь! — проговорил он наконец, возвращая портсигар его владельцу. — Вы, вероятно, недовольны, что они начали так сильно падать?.. — Да!.. Но почему вы это заключили?.. — Да вот один из них, бывший у вас же в портсигаре… Я не ошибаюсь?.. Люди нашей профессии, знаете ли, любят озадачивать такими заявлениями. — Как это просто!.. А я было изумился. Да, волос, конечно, мой; они у меня действительно стали сильно падать… Однако, мы уклонились от первоначальной темы нашего разговора, господа!.. Вы, кажется, имеете что-то сообщить мне?.. — деланно равнодушным тоном обратился Орликов к Феогносту Ивановичу. Тот медленно поднялся с места. — Именем закона арестовываю вас за убийство Андрея Антоновича Чарган-Моравского! — заявил он и тяжело опустил руку на плечо гувернера. Орликов глухо вскрикнул и сделал порывистое движение по направлению к дверям. Они предупредительно распахнулись перед ним, и на пороге показался становой… Из-за спины его выглядывали стражники… Феогност Иванович выполнил свою миссию до конца, и наше дальнейшее пребывание в Тальниках теряло всякий смысл.VII
Во всю обратную дорогу Трубников не проронил ни слова и только когда мы снова очутились в Зетинске, в его квартире, и он опорожнил свой дорожный саквояж, я решил, что можно предлагать вопросы. — Не откажетесь ли вы теперь, Феогност Иванович, объяснить мне свой образ действий в этой темной истории? — спросил я. Трубников молча взглянул на меня, направился к тахте, улегся и, наконец, лениво произнес: — Вы, кажется, назвали темным тальниковское дело?.. — Да, и, думаю, не ошибусь, если скажу, что ни разу еще вам не приходилось разбирать случай более запутанный, чем этот. — И вы ошибетесь самым блистательным образом. Смею вас уверить!.. Скажу больше: я не понимаю, куда девалась человеческая изобретательность!? Возьмем для примера хотя бы сегодняшнее дело… Что может быть проще и легче? Я последовательно опишу вам путь, по которому я шел к разрешению задачи, предложенной нам господином Орликовым и мадам Моравской… Прежде всего, обратите внимание на заметки в «Нашем крае» и «Бурлаке». Они дают нам два интересных пункта: револьвер системы «Смит и Вессон» и написанная карандашом записка самоубийцы. Я не знал расположения комнат в тальниковском доме, но все же знал, что это — дом, а не замок остзейского барона, а револьверы указанной системы производят вполне достаточно шума, чтобы разбудить не совсем умершую компанию. Уже этот факт навел меня на некоторые сомнения… Теперь обратите внимание на второй: когда культурный человек отказывается от чернил и обращается к помощи карандаша, чтобы написать деловую записку?.. Мне кажется, в том только случае, если чернил под рукой нет. Но письмо Черган-Моравского было оставлено на письменном столе, что совершенно исключает возможность такого положения. Допустима еще одна гипотеза: человек торопится, хватает карандаш, на листке бумаги, не садясь, набрасывает несколько строк и… пускает себе пулю в сердце. Однако же в заметке говорится, что записка была в запечатанном конверте и что конверт тоже был надписан — следовательно, это предположение привело нас к абсурду. Признаюсь, что, не будь револьвера, я не решился бы придраться к записке, но одна неправдоподобность усиливает впечатление и смысл другой… Вы следите за мной?.. — Да, продолжайте, пожалуйста!.. — По приезде в Тальники я сразу обратил внимание на третью неправдоподобность или, на этот раз, верней, ошибку: мадам Моравская говорила с Ядринцевым о моем приезде… Домашние не сомневались в факте самоубийства, следователь — тоже, так что у вдовы не было никаких оснований приглашать частным образом еще одного следователя, раз сущность дела была так очевидна. Отсюда вывод: мой приезд мог быть желателен только сомневающимся, то есть одной Любови Андреевне. А между тем, Ядринцев узнал о моем посещении именно от мадам Моравской, для которой, конечно, не была тайной поездка ее падчерицы. Зачем же она сообщила ему это?.. Именно «сообщила»; не просила повременить, а только сообщила? Как это должен был понять наш уважаемый Аркадий Павлович?.. «Произошло самоубийство; все данные налицо; сомнений быть не может, а между тем, вашей опытности и искусству все же не доверяют и приглашают для проверки постороннее лицо, такого же следователя, как и вы». Ядринцев, быть может, так это и понял, но его благоразумие оказалось посильней самолюбия: он предпочел снести маленькое унижение, но не лишиться моей помощи в других более важных случаях, и потому решил дождаться моего приезда. Барыня поняла, что ошиблась, и повела атаку с другой стороны: начала просить о выдаче тела родным, так как не было причин к тому, чтобы оно продолжало оставаться в прежнем ужасном положении. — Однако!.. Ядринцеву не позавидуешь!.. — заметил я. — Я думаю… Чем же объяснить эти старания мадам Моравской? Она боялась, чтобы я не пришел к иному выводу, чем Аркадий Павлович, а потому и хотела лишить меня всяких указаний на что бы то ни было, добившись осмотра тела до нашего приезда. К несчастью для нее, ей это не удалось. — Представьте, Феогност Иванович, я не придал никакого значения этим фактам. — Странно! Мне они сразу бросились в глаза… Однако, продолжаю. Когда мы вошли в дом, мне показалось странным то обстоятельство, что обе комнаты покойного лишены свободного выхода в коридор, а вместо того выходят в спальни двух других людей. Впоследствии я оказался прав, но вернемся к этому позже, а теперь займемся телом самоубийцы. Вы помните, что я заставил записать положение пальцев на ручке револьвера?.. Возьмите точно таким же образом, то есть обыкновенным, этот револьвер… Не бойтесь, он не заряжен… И попробуйте, легши на диван, спустить курок… Да, это трудно: в указанной системе курок подымается и опускается одним нажимом на гашетку… Вы все еще не можете?.. Я так и знал, и думаю, что старику проделать это было бы еще трудней, чем вам… Оставьте, душенька, это — очень неудобный способ самоубийства, и я не советую вам когда бы то ни было прибегать к нему… Измените положение руки: большой палец на гашетку, а четыре остальных на другую сторону. Не правда ли, теперь легко? Такой старый спортсмен, как Чарган-Моравский, не мог не знать этого правила… — Хорошо!.. Это невозможно, если покойный застрелился лежа, — произнес я. — Но он мог произвести выстрел в сидячем положении, и тогда расположение пальцев не имеет такого важного значения… — Совершенно верно, но в таком случае одеяло оказалось бы не выше талии, а на самом деле его край совпадает с раной; следовательно, рана была нанесена именно в то время, когда убитый лежал, а не сидел. Дальше… В барабане револьвера, как и следовало ожидать, оказалась одна пустая гильза, но… роковая неосторожность — канал ствола закопчен не был!.. Не угодно ли взглянуть?.. Но все это — пустяки в сравнении с самой важной уликой, которую мне дал этот револьвер… Вы, вероятно, знаете, что нет и двух человек, у которых тоненькие бороздки, покрывающие кожу внутренней стороны наших пальцев, оказались бы одинаковыми?.. И эти бороздки имеют привычку оставлять свои следы на зеркале, стекле, бумаге, полированной стали и тому подобных гладких поверхностях. Эти следы своим происхождением обязаны небольшим количествам жира, выделяемого нашей кожей… И вот на левой стороне револьвера, в тем месте, где кусочек полированной стали закрывает механизм курка, я заметил ясный отпечаток большого пальца руки, которая держала этот револьвер со стороны дула. Рука, конечно, могла принадлежать и Моравскому, но отпечаток его большого пальца, смазанного жиром, не дал на моей спичечнице копии первого, а оригинал вполне самостоятельный. С моей стороны было бы слишком смело утверждать это, так как нужно быть специалистом, чтобы разобраться в разнице мельчайших изгибов и узлов. Но у меня был еще особый признак: вдоль первого отпечатка проходил едва заметный шрам от какого-нибудь старого пореза… Возьмите револьвер и попробуйте насильно вложить его мне в руку… Как вам придется его держать?.. Вот видите, положение вашей руки совершенно аналогично с тем, которое я вам только что обрисовал!..VIII
— Я в восхищении!.. Но как же предсмертная записка?.. — Ну, это — уже вздор!.. У меня было достаточно фактов, говорящих за то, что Чарган-Моравский убит другим лицом… Теперь нужны были указания на то, кто его убийца, и для этого я перешел к записке. Вот она… Почерк покойного признан всеми знавшими его. Пожилые люди редко пишут так красиво… Главное — обратите внимание, какой тонкий и твердый карандаш был у писавшего: все буквы не толще написанных самым острым пером, а покойный любил такие перья… На письменном столе оказались только три карандаша, из которых один цветной и два — настолько мягкие, что о них и говорить не приходится. Остатков четвертого карандаша нигде не оказалось — значит, Моравский не уничтожил его, написав свою записку; вывод — записка была написана не здесь. — Прекрасно!.. Но вы не только рассматривали записку, а и нюхали ее?.. — Еще бы, это для меня было очень важно!.. Понюхайте ее теперь и вы… вот она… Не чувствуете запаха?.. Ну, значит, мое обоняние тоньше вашего, и только! В таком случае, вот вам точно такой же листок и конверт… Есть между ними разница?.. Я внимательно всмотрелся в два листка, положенные передо мной, и заметил, что тот из них, на котором была записка, не чисто белый, а какого-то едва уловимого желтоватого оттенка, совершенно незаметного, если его не сравнивать с другим. — Хорошо, но я не нуждаюсь в этом сравнении, так как ясно ощущал хорошо знакомый мне запах так называемого французского скипидара… Вы не понимаете?.. Вот вам бутылочка, в ней скипидар; смочите при помощи ватки этот листок; положите его на открытую страницу записной книжки; теперь возьмите карандаш… A-а! Наконец-то вы поняли!.. Бумага, смоченная скипидаром, становится прозрачной, как стекло… Предположите, что под нею, вместо моей книжки, собственноручное письмо Моравского к его супруге, что ли; а если их было несколько, то и того лучше, а плюс еще недельку практических упражнений — и из отдельных слов совсем не трудно составить такую короткую записочку, как эта. С конвертами та же история, но только еще проще, так как надпись на нем не нужно было составлять из отдельных слов, а можно было воспользоваться готовой на каком-нибудь старом конверте… — Но почему же именно карандаш? — А потому, что чернила на такой бумаге расплываются и писать ими нет возможности. Как видите, все очень просто и, благодаря этой простоте, я в полчаса получил больше, чем смел надеяться: положение пальцев на револьвере, отпечаток чужого пальца на нем же и, наконец, пропитанная скипидаром бумага записки. Пуля, извлеченная к этому времени из раны, конечно, не подходила к имевшемуся у нас револьверу, но я и без нее это знал. — Теперь я понимаю ваш благоговейный порыв у Трофимыча, — заметил я. — Он был вызван желанием по отпечатку его пальца проверить тот факт, что почтенный старикашка не причастен к грустному событию. Но, кроме того, из разговора с ним я узнал, что мое подозрительное отношение к особенности комнат, занимаемых убитым, совершенно справедливо: до этого времени убитый жил не в них, и единственной причиной его переселения явилось то, что к нему проникнуть раньше было слишком трудно. Перемена пола — вздор: он оставался без поправок во все время существования самого дома, да и мадам Моравская могла мириться с ним целые два года, и вдруг теперь ей понадобилось тревожить старика-мужа из-за такой неосновательной причины. Обстоятельства складывались таким подавляющим образом, что я, после выхода от Трофимыча, уже не сомневался в виновности барыньки. Но мне нужно еще было узнать, кто является главным действующим лицом: она или ее сообщник, так как отпечаток пальца на револьвере был слишком велик для женской руки. Волнение мадам Моравской и осмотр ее письменного стола, на котором не оказалось никаких следов подготовительных работ, доказали мне ее второстепенное значение, и потому вся тяжесть обвинения падала на ее любовника, волос которого я снял с ее груди, делая вид, что снимаю гусеницу. Обморок барыньки, разумеется, — притворство, необходимое, чтобы, по возможности, правдоподобней объяснить причину того, что она не слышала выстрела, которым в соседней комнате был убит ее муж. Горничная тоже была введена в заблуждение и, конечно, показала бы в ее пользу… А дальнейшее, я полагаю, понятно само собой… Господин Орликов был так любезен, что дал мне возможность полюбоваться своим портсигаром, на котором я без труда нашел еще два автографа его большого пальца, и… дело закончилось как нельзя более просто… Ничего нового и оригинального в нем не было, так как в сем мире, как говорит Теренций, — «Eadem sunt omnia semper, eadem omnia restant»[39]. Но все-таки свою задачу мы выполнили довольно добросовестно; как вы находите?.. — Скажите лучше — бесподобно!.. А теперь, Феогност Иванович, нарисуйте мне в заключение картину преступления, как вы ее понимаете. — С удовольствием. Это очень просто!.. Чарган-Моравский около часа ночи отпустил Трофимыча; его супруга выждала некоторое время, чтобы он успел уснуть, а затем упала в обморок; горничная привела ее в сознание и тоже ушла спать. Когда все в доме стихло, Орликов прокрался в комнату Моравской, оттуда прошел в опочивальню старика и выстрелом на близком расстоянии из револьвера системы «Монтекристо» убил его наповал. Кстати, вот этот револьвер; при довольно больших размерах он, действительно, стреляет почти беззвучно, зато пригоден только на очень близком расстоянии. Но последнее обстоятельство в данном случае значения не имело. Убедившись, что Моравский умер, убийца вложил в одно из гнезд другого револьвера пустую гильзу, а самим револьвером вооружил руку мертвеца, но, как мы видели, не совсем умело. Заранее приготовленная записка была положена на стол, и он тем же путем прошел к себе. — Трубников немного помолчал и затем задумчиво добавил: — Мне кажется, что это произошло около трех часов ночи и что звук выстрела, несмотря на его слабость, все же прервал чуткий сон старика камердинера, но бедняга этого не понял, так как шум длился каких-либо три четверти секунды, и он, проснувшись, ничего уже не слышал…Вячеслав Шишков ШЕРЛОК ХОЛМС — ИВАН ПУЗИКОВ Шутейные рассказы
Сенцо
День был душный, жаркий. К вечеру соберется гроза. Недаром деревья так задумчивы, так настороженны. В ограду бывшего имения господ Павлухиных — ныне совхоз «Красная звезда» — въехал на сивой лошаденке кривобородый, с подвязанной скулой, рыжий мужичок в лаптях. Соскочил с телеги, походил с кнутом от дома к дому, — пусто, на работе все. — Тебе кого? — выглянула из окна курчава я, цыганского типа голова. — Да мне бы Анисима Федотыча, управляющего, — ответил мужичок, снимая с головы войлочную шляпу-гречневик. — Я самый и есть, — сказала голова. — Приятно видеть вашу милость. Желательно нам сенца возик… Потому как понаслышались мы… — Здесь не продается. Это учреждение казенное. — Да ты чего!.. Да ведь Серьгухе нашему вчерась продал, сельповскому. Хы, казенное… Вот то и хорошо! Чудак человек! — Зайди. Шагай сюда. А в ночь, действительно, собралась гроза. Тьма окутала всю землю, освежающий дождь сразу очистил воздух, небо ежеминутно разевало огненную пасть, чтоб вмиг пожрать всю тьму, но каждый раз давилось, кашляло и рычало злобными раскатами. Все живое залезло в избы, в норы, в гнезда. А вот вору такая ночь — лафа. Наутро — хвать, батюшки мои! — забегали в совхозе: какой-то негодяй похитил в ночь все металлические части самолучшей молотилки. Управляющий Анисим Федотыч рвет и мечет: ведь на днях комиссия из городу приедет инвентарь ревизовать, да и молотьба недели через три. Что делать? Сбились с ног, искавши. В ближней деревне Рукохватовой у подозрительных людей пошарили, — конечно, не нашли. Анисим Федотыч, природный охотник и собачник, даже привлек к розыскам свою сучку Альфу. Но сучка, обнюхав молотилку, привела всю компанию из понятых и милицейских к избе красивой солдатки Олимпиады, к которой тайно похаживал управляющий. Кончилось веселым смехом всей компании и конфузом Анисима Федотыча. Он сучку тут же выдрал. Совхозный писарь Ванчуков сказал: — Я бы присоветовал вам обратиться к сыщику Ивану Пузикову. Он, по слухам, человек дошлый, знаменитый. — А ну их к черту, этих нынешних… — возразил управляющий. — Каторжник бывший какой-нибудь. — Напрасно. — Писарь стал рассказывать совхозу о подвигах сыщика. В конце концов Анисим Федотыч согласился. — Поезжай. Писарь оседлал каурку — да на железнодорожную станцию, что за двадцать верст была. — Ладно, разыщу, денька через три ждите, — только и сказал Иван Пузиков, агент «угрозы», то есть уголовного розыска. И действительно, в конце третьих суток — уж время ужинать — взял да и явился в совхоз «Красная звезда» сам-друг с товарищем Алехиным. Посмотреть — юнцы. Особенно Алехин. Правда, Пузиков важность напускает: между строгих бровей глубокая складка; правда, и глаза у него стальные, взгляд холодный, твердый, и рот прямой, с заглотом, а подбородок крепко выпячен. Вообще Пузиков — парень ого-го. То ли двадцать лег ему, то ли пятьдесят. Осмотрел, обнюхал их Анисим Федотыч со всех сторон, — да-а, народ занятный. — Ну что ж, товарищи, пойдемте-ка. Темнеет. — Успеем, куда торопиться, — сказал Пузиков. — А вот чайку хорошо бы хлебнуть. — Ежели ваше усмотренье такое, то чаю можно… — недовольно проговорил совхоз. — А на мой взгляд, надо по горячим следам. — Ерунда, папаша! — ответил Иван Пузиков. — И не таких дураков лавливали. Чайку угроза любила попить. А тут варенье да пирог с мясом, с яйцами. За чаем Пузиков завел рассказ. Управляющему и неймется, и послушать хочется — очень интересно угроза говорит. — А почему я по этой части? Через книжку, через Шерлока Холмса. Тятька меня к сапожнику определил в Питер. Я ведь из соседней волости родом-то, мужик. Пошлет, бывало, хозяин за винишком по пьяному делу — ну, двугривенный и зажмешь. Глядишь, на две книжки есть. Эх, занятно, дьявол те возьми. Все мечтал, как бы сыщиком стать: мечтал-мечтал, да до революции и домечтался. Теперь я сам русский Шерлок Холмс, Иван Пузиков. — Слышал, слышал, — заулыбался во все цыганское лицо совхоз, и щеки его заблестели. — Я, конечно, вас, товарищи, и винцом бы угостил, да боюсь — время упустим. Уж после вот. По стакашку. — Ерунда, папаша, злодей не уйдет. А выпить не грех. — Слышал, слышал, — пуще заулыбался совхоз, налил всем вина, выпили. — Слышал, как самогонщиков ловите. — Всяких, папаша, всяких, — вдруг нахмурился Иван Пузиков и почему-то дернул себя за льняной чуб. — Да толку мало, вот беда. — Почему? — Город выпускает. Мы ловим, а город выпускает, сто чертей. Ведь этак и самого могут ухлопать. У меня и теперь несколько ордеров на арест. Вот они, — Иван Пузиков вытащил из кармана пачку желтеньких бумажек и крутнул ими под самым носом управляющего. — Ха! Вот какие дела! — воскликнул тот. — А по-моему, мазуриков щадить нечего. Иначе пропадем. — Кто их щадит! У меня все на учете, папаша. Я все знаю. Например, в одном совхозе, и не так чтоб далеко от вас, управляющий самогон приготовляет на продажу. Два завода у него. — Кто такой? — Секрет, папаша. А в другом совхозе хлеб продает, овец, телят. А в третьем — сено. — Се-е-но! — Управляющий уставился в ледяные глаза угрозы, и по его спине пошел мороз. — Да, папаша, сено. — В тюрьму их, подлецов! — Все там будут, папаша, все. Только не сразу, помаленьку, чтоб дичь не распугать. — Пейте, товарищи, винцо… Позвольте вам налить. — Например, ваш рабочий, Рябинин Степан, револьвер имеет. Сам отдаст, вот увидите. А знаете, откуда он взял? Вот и не скажу. А знаете, кто нынче на пасхе мельника ограбил, латыша? А я знаю: два брата Чесноковых из вашей деревни. — Не может быть! Чесноковы исправно живут. Откуда это вы знаете, товарищ? — вытаращил глаза управляющий и подумал: «Ну и ловко врет». — А как же Ивану Пузикову не знать, папаша? — Надо в тюрьму. Ведь ордер-то есть? — Ах, папаша! — Пузиков таинственно сдвинул брови и переложил трубку в левый угол кривозубого рта. — Ну вот, скажем, к примеру, арестую я завтра по ордеру вас (совхоз заерзал на стуле и пытался улыбнуться), увезу в город, а через неделю вы дадите взятку, и вас выпустят. Что ж, вы похвалите меня? (Совхоз выдавил на лице улыбку.) А вдруг вам вползет в башку подослать, скажем, того же Рябинина Степана, он и ахнет пулей из-за куста. — Да-да-да, — растерянно заподдакивал совхоз, и обвисшие усы его задергались. «Однако с этим чертом Пузиковым ухо востро держать надо». — Ну, товарищи, еще по стакашку, коли так… Для храбрости. Дай пойдем. Полночь. Самая пора. — Зачем мы, папаша, будем ночью тревожить порядочных людей? А вот нет ли балалаечки у вас? Сыграть хочется, а ты, Алехин, попляши. Управляющий сердито буркнул: — Нету, — и опять подумал: «Ни черта им, молокососам, не сыскать». Утром Анисим Федотыч встал рано, отдал приказания и вошел в комнату, где ночевала угроза. Пузиков и Алехин сладко храпели. — Дрыхнут. Управляющий сходил на мельницу, распушил плотников, что чинили плотину, и когда вернулся, — угроза умывалась. — Чай пить некогда, — сказал Пузиков, — а вот на скорую руку молочка. Выпили с Алехиным целую кринку, и оба заторопились. — Кого из рабочих подозреваете, папаша? — Никого. — Правильно. А из Рукохватовой? — Андрея Курочкина. А еще, пожалуй что, Емельян Сергеев. Тоже вроде вора, говорят. — Ерунда, — нахмурился Пузиков. — Не они. Я всю деревню вашу насквозь знаю. Деревня — тьфу! Все три волости… Как на ладошке. — Скажите, какие способности неограниченные, — восторженно оказал совхоз, а под нос пробурчал: — Хвастун изрядный. Алехин туго набил махоркой кисет и подал Пузикову портфель. — Ну, теперь, папаша, за мной в деревню, — сказал Пузиков. — Учись, как жуликов ловит Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. Он быстро пересекал двор. Широкоплечий, кривоногий, низенький, куртка нараспашку, из-под козырька сдвинутый на затылок кепки лезет огромный лоб. — Не сюда, товарищ, не сюда, — кричит едва поспевавший совхоз, — в обратную сторону! — За мной, папаша! Он, словно сто лет здесь жил, перелез через изгородь, обогнул беседку и боковой тропинкой подошел к скотному двору, где четверо рабочих накладывали на телеги навоз… — Здорово, Степан Рябинин! — крикнул он весело и твердо. — Бросай вилы, айда за мной! Понятым будешь. Я — Иван Пузиков, агент угрозы. Понял? Степан Рябинин — черный и сухой скуластый парень, в ухе серьга — удивленно посмотрел на незнакомца, ткнул в навоз вилы и сказал: — Ладно. Повернули назад. Угроза передом. Свернули влево. — Не сюда, товарищ Пузиков, вправо надо, — опять сказал Анисим Федотыч. — Не сбивай, папаша. Слушай-ка, Степан! Ты ведь в этой казарме живешь, в номере седьмом, кажется? — Так точно, — ответил Степан. Голос у него скрипучий — не говорит, а царапает словами уши. — Зайди и возьми, пожалуйста, наган. А то, сто чертей, опасно… Может быть, дело будет. Ну, живо! — Это какой такой наган? — тряхнул серьгой Рябинин. — Чего-то не понимаю я ваших слов. — Фу, ты! — возмутился Пузиков. — Да револьвер. Револьвер системы «наган». Понял? — Нет у меня никакого револьвера. — Нету? А куда ж ты его дел? — Не было никогда. С чего вы взяли? — Не было? Это верно говоришь? Не врешь? А из чего ж ты грозил застрелить председателя волисполкома, помнишь? Пьяный, на гулянке, в спасов день. Помнишь? Почему ты его вовремя не сдал? Степан Рябинин чувствовал, как весь дрожит, и напрягал силы, чтобы овладеть собой. — Нет у меня револьвера! Сказано — нету! — Да ты не волнуйся. — От тенористого резкого голоса Пузиков вдруг перешел на спокойный ласковый басок. — Чего зубами-то щелкаешь? Ну, нету и нету. Верю вполне, и пойдемте все вперед. Анисим Федотыч ядовито ухмыльнулся. Степан Рябинин то шагал как мертвый, то весь вспыхивал и в мыслях радостно молился: «Слава богу, пронесло». До деревни с версту. Анисим Федотыч был с брюшком, фукал, отдувался: очень емко шли; прорезиненный дождевик его со свистом шоркал о голенища. В деревню вошли с дальнего конца. Пузиков бегом к избе, вскочил на завалинку — и головой в открытое окно: — Эй, тетя! А Фома Чесноков дома? — Нету, батюшка. В поле навоз возит. — А брат его Петр? «Вот леший! Неужто всех поименно знает?» — подумал совхоз. — Петруха в кузне. А ты кто сам-то, кормилец, будешь? — Сахарином торгую. Ну, до свиданья. Увидимся. Кузнец Петр Чесноков ковал какую-то железину. — Бросай-ка, Петр Константиныч. Идем скорей с нами. Понятым будешь. — Каким это понятым? — И Петр грохнул молотом в красное железо. — А кто ты такой, позволь спросить? Лысая голова его была потна, и все лицо в саже, только белки блестят, как в темных оврагах — весенний снег. Вдоль деревни шли гурьбой: еще пристали председатель сельсовета и двое милицейских. Иван Пузиков подвигался медленно: остановится, посмотрит на избу, дальше. — А в этой, кажись, Миша Кутькин живет? — спросил Пузиков. — Мой знакомый… Надо навестить. Кутькин, мужичок не старый, возле сарайчика косу на бабке бил. Бороденка у него белая, под усами хитрая улыбка ходит. Взглянешь на усы, на губы — жулик; взглянешь в глаза — нет, хороший человек: взор ясный и открытый. — Здравствуй, Миша, — ласково сказал Пузиков. — Нешто не признал? А помнишь, вместе на свадьбе-то у Митрохиных гуляли? Я — Ванька Пузиков, из Дедовки. — А-а-а, так-так-так… Чего-то не припомню, —сказал Кутькин, подымаясь, и стал растерянно грызть свою бороденку. — Ну, как живешь, Миша? А это у тебя что? — И угроза заглянул в сарайчик. — Мельницу, никак, ладишь! Очень хорошо! А железо-то не купил еще? Ну, ладно. Вот что, Миша! А можно мне в избу к тебе, бумажонку написать? Сухопарая тетка Афимья низко поклонилась навстречу вошедшим и суетливо стала прибирать посуду: чашки, ложки разговаривали в трясущихся ее руках. Пузиков вильнул на ее руки глазом. Все сели, кроме хозяина избы, кузнеца и Степана. — Ну-ка, милицейский, пиши акт, а я буду говорить тебе. — Пузиков задымил-запыхал трубкой и достал из портфеля письменные принадлежности. — Пиши. Милицейский, курносый парень, сбросил пиджак и приготовился писать. Лицо Пузикова было спокойно, простодушно: двадцать лет. Он диктовал вяло, уставшим голосом, словно желая отделаться от этой ненужной проволочки и поскорей уйти. Потом голос его внезапно зазвенел: — Написал? Пиши. «Постановили: Михаила Кутькина, укравшего в совхозе „Красная звезда“ принадлежности молотилки, немедленно арестовать». — Глаза его зорко бегали от лица к лицу, — ему сразу стало пятьдесят. Мишку Кутькина, хозяина избы, точно кто бревном по голове. — Да ты, товарищ, обалдел!.. Какой я вор?! Что ты?! — Миша, да ты не ерепенься, — мягко сказал Иван Пузиков и пыхнул густым дымом. — Раз я делаю, значит — делаю правильно. Ведь я знаю, где у тебя вещи… В подполье, под домом. Верно? Кузнец Чесноков крякнул, моргнул тетке Афимье, та схватила ведро и быстро вон. Мишка Кутькин сгреб себя за опояску, но руки его тряслись, — видно было, как плещутся рукава розовой рубахи. — Шутишь, товарищ, — слезливо сказал он. — Обижаешь ты меня. — Ничего, Миша, не обижаю. Писарь, пиши! «Во время составления акта кузнец Петр Чесноков подмигнул Афимье Кутькиной, а та поспешно вышла, чтоб перепрятать краденое». — Вот те на! — уронил кузнец, как в воду клещи. Мишка Кутькин ерзал взглядом от бельмастых Кузнецовых глаз да к двери, и слышно было, как зубы его стучат. Анисим Федотыч удивленно вздыхал. — Алехин! Где Алехин? — И голова Пузикова завертелась во все стороны. — Тьфу, сто чертей! Опять с девками канителится… Степа, будь друг, покличь моего помощника. Степан Рябинин повернулся и на цыпочках вышел вон. — Да! Вот что, товарищ Петр Чесноков. Скажи ты мне откровенно, как священнику, — кому ты делал собачку к револьверу? Кузнец поднял брови, отчего лоб собрался в густые складки, и глупо замигал. — Никому не делал… Совсем даже не упомню. — Ах, Чесноков, Чесноков, ах, Петр Константиныч, — застыдил, замотал головой с боку на бок Пузиков, заприщелкивая укорно языком. — А я-то на тебя надеялся, что все покажешь: борода у тебя большая, человек ты лысый, прямо основательный человек, а вдруг — запор. Ая-яй… А я еще за тебя перед городскими властями заступался. Те, ослы, на тебя воротили, что ты с братом ограбил мельника. Ая-яй! Кузнец попятился, взмахнул локтями. — Спаси бог, что ты, что ты!.. — Да ты не запирайся. — Никакого я мельника не воровал. — Да я не про мельника. Разве в мельнике вопрос факта? Я про револьвер. Степан Рябинин откровенно сознался мне, что револьвер ему ты чинил ты! Кузнец засопел, потом прыгающим голосом ответил: — Извините, запамятовал. Действительно, Степка правильно показал — его был револьвер… Точь-в-точь… Ну, как он просил не говорить… — Пиши! — резко крикнул Пузиков. — «По показанию Петра Чеснокова, он чинил револьвер, принадлежащий Степану Рябинину, который системы „наган“…». Тут скрипнула дверь, и с воем ввалилась баба, за ней Степан и Алехин с мешком. Баба упала в ноги Пузикову и захлюпала: — Ой, отец родной… Ой, не загуби… — Стой, тетка Афимья, не мешай, — ласково сказал Пузиков и еще ласковей, к Степану: — Степан, голубчик, не в службу, а в дружбу, будь добр, притащи нам револьвер скорей. Вот ты отпирался давеча, а кузнец, спасибо ему, показал, что твой… И, ради бога, не бойся, Степа. Ничего не будет, до самой смерти… Ну, пожалуйста. Степан заметался весь, блеснула в ухе серьга, ожег кузнеца взглядом и, пошатываясь, вышел вон. — Вставай, Афимьюшка, вставай, родная… — Ой, батюшка ты мой… Сударик милыйцейский… — Эка беда какая, что хотела перепрятать, — участливо говорил Пузиков. — До кого хошь довелись. Всякий дурак бы так сделал… Даже я. Под овин, что ли? — Под овин, сударик ты мой, под овин… Он, не переставая, пыхал трубкой, тугой кисет пустел, и комната тонула в дыму, как в синем тумане. Не торопясь, вытряхнул все на стол из принесенного Алехиным мешка. — Э-эх, добра-то что. Все ли, нет ли? Папаша, а? — Чего-с? — у Анисима Федотыча рябило в глазах, и кончики ушей горели, в голове чехарда, он ничего не мог понять, только шептал: «Вот так дьявол!» — Да, — раздумчиво говорил между тем Пузиков. — Тут не хватает двух веществ: перекидной ручки — это той самой, ты над ней пыхтел, Чесноков, в кузнице, когда мы пришли… А кроме того, двух медных болтов и шайб с гайками. Они тоже у тебя, товарищ Чесноков… Ну, пойдемте. — Ей-богу, нет! Рази меня гром! Отсохни борода! Да чтобы утробу мою червь сосал!.. Знать не знаю! Пузиков очень внимательно перебирал вещи в двух сундуках кузнеца. Кузнец трясся так, что дрожала вся изба. — Эка у тебя добра-то сколько, — покойно говорил Пузиков. — А? Вот буржуй… Ну, это, между прочим, ничего. Похвально. Нищий завсегда нищим будет. Грош ему и цена. А ты, видать, человек хозяйственный. Жирная баба стояла у скамейки, как огромное изваяние; она обхватила ручищами жирную грудь и охала басом. — Чего ты охаешь? Грыжа, что ли, у тебя? — сказал Пузиков. — Да как же мне не охать-то… Ох!.. — «Ох, ох…» Экая ты трупёрда, деревенщина… А еще такая полная мадам. Стыдись! «Ох, ох…» Вот тебе и «ох»… Вот видишь, какая рукавица-то? Знатная рукавичка. При царе три целковых стоила. Кожа-то — прямо бархат… а ты — «ох…». — Никаких болтов у меня, товарищ, господин сыщик, нету. Сами изволили усмотреть… — словно по камням, впереверт, вперекувыр сказал своим голосом кузнец. — Что? — фукнул Пузиков из трубки в самый нос ему. — И болтов нету, и рукавички другой нету. Болты — черт с ними, не в болтах факт, болтов у тебя и быть не может никаких. А вот рукавичку мне подай. — Потерявши рукавичка. Выпивши, из города вез… По… потерявши. — Ты потерял, а я нашел… Сколько даешь? — Шу… шутить изволите. — А это что? Она? — И Пузиков вынул из портфеля другую рукавицу. — А нашел я ее у мельника в избе. Баба охнула и шлепнулась задом на скамейку. — И знаешь, товарищ Чесноков, когда? На другой день, как вы его ограбили. А ежели не веришь, дак в обеих рукавицах в середке Мельникова мета есть. Тебе и невдомек. Ну-ка, понятые, рассмотрите. Кузнец упал на колени. — Наш грех, наш грех… Не губи, ради Христа. Бодро вошел Степан, взглянул — и руки у него сразу опустились. — Что, револьверчик притащил? Молодчина, Степа. Давай сюда. Вот и все, кажись. — Иван Пузиков обвел компанию торжествующим, улыбчивым, но все же крепким взглядом. — Ну, вот, ребята, мы тихо, смирно, не торопясь, разыграли, как в кинематографе, не хуже, чем в «Собаке Баскервилей». Товарищи милицейские, этих трех гусей арестовать! А придет Фомка Чесноков, и его, злодея, в ту же дыру. Все стояли бледные и тряслись. Больше всех — и неизвестно почему — волновался Анисим Федотыч. Пузиков, заложив руки в карманы, произносил поучительную речь: — Есть такой заграничный сыщик, Шерлок Холмс. Он хотя и спец считается, но, будучи по службе у буржуазной власти, хватает без разбору всех мазуриков. Я же, Иван Пузиков, сыщик российский и, кроме того, — сын своего народа. Поэтому передайте мужикам, что ваша деревня наполовину воры. Этого ни в каком специальном случае я не потерплю! Далее, по порядку, участь Чесноковых — тюрьма! Хотя они, допустим, и обокрали мельника, который богатей, однако за них, товарищи, безвинно арестован мужик из бедноты. Второй пункт предложенья: Степан Рябинин, как возвративший револьвер по своему инициативу, освобождается из-под ареста. Можешь идти, Степан! Что же коснувшись Михаила Кутькина, то я ничего, товарищи, сделать не могу. Ты, Миша, сам посуди: украл ты государственный механизм от молотилки, то есть достояние республики. Это называется — позор! Укради ты не только механизм, а, скажем, всю молотилку у какого-нибудь кулака-контрреволюционера — совсем десятая статья. И я, может статься, во время обыска все рыло бы себе своротил об эту самую молотилку, а сделал бы вид, что не нашел. Потому что уравнение имущества социализм не возбраняет. Азбука коммунизма гласит прямо. Ты же, как сказано, украл достояние республики, да еще перед самой страдной порой, а ведь эта самая молотилка предназначалась обслужить целых три деревни. И нет тебе даже оправдания, что ты несознательный элемент, что-что, а это ты, как хозяин и мужик самосильный, должен был сообразить. До свиданья, Миша!Угроза надувалась у Анисима Федотыча заслуженным чаем и ела пироги. Анисим Федотыч волновался. От пылающих ушей загорелись щеки, и воловья шея налилась кровью, а глаза — как у попавшей в капкан лисы. «Все, дьявол, знает. Пожалуй, знает и про сено». — Товарищ Пузиков, — начал он, ероша курчавые черные, с синью, волосы — За такое ваше самоотверженное старание я своею властью обязан вас вознаградить, не щадя средств. Что бы вы с товарищем пожелали? — Что бы пожелали? — Пузиков откромсал долю пирога. — Я бы пожелал вас, папаша, арестовать. — Ха-ха-ха, — обомлев, захохотал, словно залаял, Анисим Федотыч. — За что? — За сенцо, папаша, за сенцо. Совхоз вдруг перестал смеяться, глаза его округлились, и густые брови сразу насели на нос. Он резко стукнул в стол. — Мальчишки! (Алехин вздрогнул). Сопляки! Я вам не Мишка Кутькин! Я вам… И, закусив удила, понесся, не в силах удержаться. Пузиков набивал трубку, сторожко посматривая, как бы управляющий не смазал его в ухо. — Постойте, папаша… Да вы не петушитесь… Ведь свидетели есть, — спокойно сказал он. — Свидетели?.. Я те покажу свидетели! — Алехин, покличь-ка мужичонку-то… Как его… Тимоху… — Какого Тимоху? — с сердцем спросил юнец, искренне сердясь и на товарища и на совхоза. — Фу ты, боже мой!.. Какого, какого! Ну, я сам схожу. — Пузиков схватил портфель и вышел. Совхоз все время взад-вперед ходил по комнате, поправлял ворот — шее было тесно. Шагнул к шкафу, выпил большой стакан вина. — Сыщики… Тоже считаются сыщики. Оскорблять порядочных людей… Ответственных работников… Слетите, голубчики!.. Оба слетите, сопляки паршивые… Я вас! Но вот в дверях показался дядя, — ну конечно, тот самый, лапти, синяя рубаха, скула подвязана, и рыжая бороденка кривулем. У совхоза лицо стало длинным и открылся рот. Мужик снял с головы гречневик, перекрестился и прямо в пояс: — Здорово, Анисим Федотыч… Здорово, милячок. А я опять за сенцом к тебе… До-обрецкое сенцо. — Что ты мелешь! Кто ты такой? — злобно прохрипел совхоз, а в голове как молния: «Вот скандал! Турну, пока Пузикова нет». Пошел вон! Здесь казна… Ступай, ступай. — И кулаки совхоза крепко сжались. — Это само хорошо, что казна… Ты не гайкай, — чуть попятился мужик. — Бесстыжие твои глаза. Жулик ты казенный!.. Вор! — Убирайся вон, рыжий черт! — И совхоз остервенело сгреб его за шиворот: — Вон! Мужик захрипел, треснула рубаха. — Караул, караул!.. Эй, Пузиков!.. — Вон! В тюрьму, подлец!! Вдруг словно бомба ахнула: — Ах, ты так, папаша? А ну! — Мужик рванул, и совхоз, взлягнув ногами, грохнулся спиною в пол. Мужик, тяжко сопя, стал снимать с себя бороденку и парик. — Пузиков? — простонал управляющий. — Это ты? — Я самый, — сказал тот и протянул управляющему руку. — Ну, папаша, подымайся. Алехин во все горло хохотал. На этот раз все обошлось благополучно… Пузиков так и сказал, прощаясь: — На этот раз, папаша, ничего… Больно пироги хороши. Только помни! Вечером, собрав всех рабочих, Анисим Федотыч угостил их самогоном и держал речь: — Вот, товарищи, жулик сразу и влопался. Мишка Кутькин… А вы как были честные труженики, так и оставайтесь. Да здравствует Советская власть! Анисим Федотыч сена больше ни-ни-ни. А вот когда обмолотили рожь, — урожай в «Красной звезде» нынче отменный, — хлебцем стал помаленьку поторговывать. И то с великой опаской, по мешочку, самым знакомым мужикам. Первым приехал поздним вечером Антон Седов. — Ради Христа, ржицы продай… Весь хлеб градом порешило. Антону Седову как не уступить — закадычный, можно сказать, друг. Но совхоз был так напуган тем проклятым из угрозы, что долго и подозрительно всматривался в мужика, как индюк в чужого гуся. Потом подвел его вплотную к лампе. — А что это у тебя, дядя Антон, в бороде как будто что-то ползет, — и сильно рванул его за густые клочья бороды. Борода оказалась природной, собственной.
Пуговка
— Ваня, — сказал Алехин своему другу, белокурому молодому человеку с прямым широким ртом, — к тебе пришли. Тот сделал стариковское лицо и, прихрамывая, вышел в кухню. — Извиняюсь, товарищ. Вы Иван Пузиков, наверно? Я со станции Павелец, весовщик Мерзляков, из комитета служащих. У нас, изволите ли видеть, систематические хищения из вагонов вот уже полгода. Только протоколы составляем, а поймать не можем… — Знаю, — сказал белокурый и задымил трубкой. — Там у вас целая шайка работает. Они у меня все наперечет, как пальцы. И скажите, что Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс, уже давненько на вашей станции сидит… Да он же с вами знаком. — То есть как? Позвольте… — опешил Мерзляков. — Значит, вы не Пузиков? — Так я вам и сказал. Ха! Может, Пузиков, а может, не Пузиков. Возможно, что Пузиков-то вот который, — показал он на Алехина, — может, и я… Это скрыто мраком тайны. Скажите вашим, что шайка на днях будет обнаружена самым удивительным способом… Прощайте. Мне больше некогда с вами толковать. Он завалился на койку и пролежал колодой до самого вечера, от нечего делать поплевывая в потолок. После обедни, в праздник, пришел к своему будущему тестю, торговцу Решетникову, станционный конторщик Бабкин, большой говорун и гитарист. Пили кофе, ели пирог, ну для праздничка, конечно, клюкнули. Невеста Варя хотя и рябовата и чуть косила на правый глаз, однако ничего себе. Бабкину годится: приданого порядочно папаша обещал. — Да, — сказал Бабкин, покручивая большие черные усы. — Эти доморощенные сыщики, вроде Пузикова, ни черта не стоят. А вот настоящего Шерлока Холмса бы сюда: в два счета — раз, раз — и пожалуйте бриться. — Очень надо, — сказал торговец недружелюбно. — А я бы не желал. Черт с ними, крадут — и молодцы. Хоть народу в руки перепадает. А то ка-а-азна. Какая, к свиньям, казна! Это не прежние времена! — Ах, папаша! — воскликнул Бабкин. — Странно даже слушать мне… — А потому, что молод ты. Например, прикатили мне на прошлой неделе бочонок олеонафту по тайности и за грош отдали. Так что же, неужто отказываться? — Ах, папаша! Опасно это. Лучше бы вы не говорили мне. Вечером того же дня, не дожидаясь прихода сыщика Ивана Пузикова, весовщик Мерзляков, чтоб выдвинуться по службе, организовал свою собственную охрану. Пять человек доброхотов, тайно от казенной охраны, темной ночью залегли под вагон груженого поезда. Мерзляков чиркнул спичку, чтоб закурить, и при вспыхнувшем свете вдруг обнаружил, что в их пятерке лежит пластом шестой, посторонний. — Кто это? — оторопело спросил Мерзляков. — Чшшш… — прошипел шестой и зашептал: — Нельзя курить… вспугнете. Чшш… Идут! «Ага, это Иван Пузиков, сыщик», — мелькнуло у догадливого Мерзлякова. Все шестеро впились вытаращенными глазами в лениво прошагавшие вдоль вагона четыре пары ног. Неизвестный шестой выполз на брюхе и повернул голову вслед уходящим. — Четверо, — прошептал он. — Кажись, с ними ваш конторщик Бабкин. Лезут в третий от нас вагон. Он вдруг вскочил, крикнул: — За мной! — И, выстрелив в воздух, помчался вдоль поезда. Среди мрака раздались путаные крики: — Руки вверх! Караул! Караул!.. Стой, ни с места!.. Куча тел, тузя друг друга, каталась по земле. Конторщик Бабкин, Варечкин жених, отбежав в сторону, кричал: — Стойте, дьяволы!.. Ведь это мы, свои!.. Мы пломбы проверяем на вагонах. А вы нас… Тьфу! Запыхавшись, примчалась с винтовками и казенная охрана. Шли к вокзалу сконфуженные. Глупее всех чувствовал себя Мерзляков. — Что ж ты, Мерзляков, неужто ослеп, своих бьешь, — весь дрожа, стал пенять ему жирный дорожный мастер Ватрушкин и сморкнулся кровью. — Извиняюсь, Нил Данилыч, — сочувственно проговорил Мерзляков. — Как это ни прискорбно, но мы приняли вас за жуликов… Очень извиняюсь… — От твоего извиненья у меня во всей башке звон идет. Этак садануть… Мерзляков внезапно остановился: — А где же этот, незнакомый-то?.. Меж тем незнакомый поспешно шагал в ближайшую деревеньку, в которой вчера снял пустую избу старого бобыля. Вскоре пришел к нему Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. За последнее время Пузиков появлялся у своего помощника Алехина на какой-нибудь час, всегда торопился и, сказав нужное, уходил с мешком под мышкой. — Ну, как? — спросил он Алехина. — Плохо, — виноватым голосом ответил тот и рассказал все подробно про недавний бой возле вагонов. — Дурак, — мрачно и насмешливо произнес Пузиков. Нахмурился, покрутил льняного цвета волосы свои, потом расхохотался. — Здорово наклали? — Не надо лучше, — улыбнулся Алехин. — Я какого-то раскоряку за машинку сгреб, так он на манер как заяц заверезжал. Пузиков сдвинул брови. — А какой из себя Бабкин? — спросил он. — Черноусый такой, в кожаной куртке. Он сватается за дочь лавочника. — А, знаю, — сказал Пузиков. — Надо будет за ним последить. Алехин изумленно уставился в лицо товарища. — Как, за конторщиком Бабкиным? — Эх, щенячья лапа! — воскликнул Пузиков. — Неужто не понимаешь ничего? — Нет, — откровенно сказал Алехин. — А в чем вопрос? — Ну, ладно. По окончании поймешь. Утром Мерзлякова подняли в конторе на смех. Особенно ядовито издевался начальник станции Алексей Кузьмич Бревнов, рыжий вислоухий франт. — Хотел выслужиться, любезнейший. Каждое дело ума требует. Ха-ха! Так накласть своим… Мерзляков даже рассердился. Но под конец занятий Алексей Кузьмич потрепал начальственно весовщика Мерзлякова по плечу: — Не огорчайтесь, дружище… Уж такой язычок у меня дьявольский. Вот что: приходите-ка послезавтра ко мне на вечерок. Выпьем, понимаете… День рождения у меня… Бабкин вечером пошел к невесте. «Надо ж, черт возьми, купить девчонке хоть карамелек», — подумал он и зашел в еврейскую лавку. Когда входил, заметил прошагавшего человека в белом фартуке и еще тетку. Тетка остановилась и посмотрела ему вслед. — А, товарищ Бабкин! — приветливо встретил его длинношеий, с остренькой бородкой и красными губами еврей. — Ну, когда же ваша свадьба? Купили бы для Варвары Тихоновны часики… Хорошие у меня есть серебряные, фирмы «Мозер»… — Ей отец подарил золотые часы, — сказал Бабкин. — Что вы говорите!.. Те часы темные. Я отлично знаю происхождение тех часов. Те часы, прямо скажу, краденые… Ой! — Каким образом? — И очень просто. По секрету вам скажу: тут, у вас на станции, работает целая шайка. И представьте, носильщик Носков украдывает ящик с электрическими лампочками, то есть достался в порцию после дележа. И очень хорошо… И он идет и обменивает этот ящик на золотые часы у агента постройки. Так говорят. Я, конечно, не могу поручаться за то, что говорят. Не всякой вере давай слух, как говорится по-русски… Этот самый Носков золотые часы продал вашему будущему папаше, даже забрал у него вином и самогонкой. Бабкин растерянно хлопал глазами и весь покраснел от раздражения. Черт знает, хоть от невесты отказывайся! Он ничего у еврея не купил и в самом мрачном настроении направился к тестю. Был летний мглисто-серый вечер. В лужах квакали лягушки, поздние стрижи острокрыло чертили последний быстрый путь. Посреди улицы, рассуждая сам с собой, деловито шагал человек в белом фартуке. Тетка с замотанной шалью головой шла мужиковской походкой по пятам Бабкина. — Тебе что надо, тетушка? — спросил он, остановившись у ворот тестя. — Ох, кормилец, — загнусила тетка. — Зубами маюсь, хотела какого-нибудь снадобья у торгового купить… — Нет у него, — всматриваясь в теткино лицо, сказал Бабкин. — Иди в приемный покой на станцию. Там фельдшер даст. Варя встретила его радостно, но вскоре же сказала: — Какие вы, право, неласковые, Володечка. Что это с вами приключилося? — Так, — ответил Бабкин. — Очень уж много подлости на свете, Варя. Ну да бросим об этом говорить. К Алексею Кузьмичу-то на танцульку собираетесь? Пузиков не застал своего помощника Алехина в избе. Разжег на шестке теплину и вскипятил чай. После третьего стакана вошла в избу тетка, та самая… — Садись чай пить, — сказал Пузиков. — Где был? — Бабкина следил, — проговорил Алехин, снимая сарафан. — Тьфу! — плюнул Пузиков. — Экая башка у тебя свинячья. Что ж мы — двое за одним человеком ходим? — Как так? — А вот и так… Мужика-то в белом фартуке заприметил? Ну, дак это я… Алехин недовольно почесал за ухом, сказал: — Бабкин у тестя, должно, и ночевать остался… Я ждал-ждал, жрать ужасти как захотелось… — Ничего подобного. Он задним ходом вышел. Ложась спать, Пузиков сказал: — Слушай, Алехин. Я вынюхал, что послезавтра будет вечеринка у помощника начальника станции… Как его фамилия-то? — Я знаю: Бревнов, звать Алексей Кузьмич, — с гордостью отрапортовал Алехин. — На этот раз молодчага. Дак вот. Нам с тобой надо на эту вечеринку попасть. Может, там самую главную птицу схватим. Понял? Ты прямо войдешь и скажешь на ухо хозяину, что ты агент угрозы, что хочешь, мол, остаться на вечере под видом, ну, хоть… черт его знает… ну, хоть десятника по земляным работам. Понял? А я потом приду. А завтра подговори носильщика Носкова, передай ему вот эту бутылку коньяку, — он здорово вино жрет… — пусть выпьет и по сигналу явится на вечер и скажет вот какие слова… запиши. И адрес его запиши. Записал? Чтоб в точности. Он тоже замешан. Чуть свет Пузиков исчез. Алексей Кузьмич Бревнов жил широко, и вечер устроен на славу. Стол ломился закусками, пирогами, выпивкой. Среди гостей лица почетные: инженер-механик Свистунский, начальник станции Петров с супругой, священник. Конечно, был Бабкин с невестой Варечкой и будущим тестем. Бабкин сегодня весел, прикладывался к рюмочке, играл на гитаре и рассыпался Варе в любезностях. Хозяин, Алексей Кузьмич, сиял пуговицами на новенькой тужурке и тоже приухлестывал за Варей. Бабкин возбуждал в нем изрядное чувство ревности. Хозяин старался ему дерзить, но Бабкин огрызался. — Это из рук вон, — говорил раскатистым басом инженер Свистунский, — сегодня опять обнаружена кража из вагона с грузом мяса. — Слышали, слышали, — подхватил кто-то. — И что стража смотрит, ведь под самым носом вагон стоял. Отсюда из окна видать… Позор! — Увы! Испортился народ наособицу, — воскликнул священник и откромсал добрый кусок пирога. — Черт знает, Иван Пузиков не едет. А пообещал, — уныло промямлил Мерзляков, потянувшись к выпивке. — Плюньте вы на этого Пузикова! — крикнул охмелевший Бабкин. — Черта ли понимает ваш Пузиков! Сами разберем… Мы ужо опять ночью под вагон залезем. Товарищ Мерзляков, возьмите меня в свою компанию! Все захохотали. А дорожный мастер Ватрушкин потер подбитый Мерзляковым нос. В это время вошел молодой парень. Он что-то пошептал хозяину, тот деланно улыбнулся и сказал гостям: — Это вновь командированный десятник земляных работ. Присаживайтесь с нами, товарищ. Алехин смирно сел в угол, за курил папиросу и стал наблюдать, нахмурив лоб. Ему подали стакан чаю и кусок пирога. Бабкин задирчиво кричал: — Видали мы Пузиковых!!! К черту их! — Потише, — осадил его хозяин, взглянув на Алехина. — В противном случае попрошу вас удалиться. — И что ты ко мне вяжешься, — охмелевшим языком сказал Бабкин. — Может, к Варечке ревнуешь? А? — Прошу меня не тыкать. Невежа! Без году неделя служит, а тоже позволяет себе… — Ах, вот как… Что?! Но в это время Алехин, взглянув на часы, распахнул окно. Из окна темнела ночь. По лестнице загрохотали грузные шаги, и в комнату ввалился пьяный носильщик Носков. Покачиваясь, он взглянул на подмигнувшего ему Алехина, помахал картузом и, глупо ухмыляясь, сказал: — Честь имею поздравить с днем рождения!.. Честь имею объявить, что Иван Пузиков сейчас будут здесь. Хи-хи-хи… До свиданьица, — он было повернул к выходу, но Алехин загородил ему дорогу: — Товарищ Носков, сядьте и — ни с места. Гости разинули рты. Хозяин ерошил волосы, пьяный Бабкин лез к нему: — Плевать я хотел на этих дураков, на сыщиков!.. Нет, ты мне ответь… Ревнуешь? Может, Варечку поддедюлить хочешь? Бери! Бери! — Убирайся к черту! — Бери! Я отказываюсь. Сам отказываюсь… Чьи на ней часы? Краденые… Вот этот самый Носков-носильщик, восемнадцатого марта ящик с лампочками упер из вагона да агенту постройки на часы выменял, а часы будущему папаше всучил… Пожалуйста, сиди, Носков, не корчи рожи!.. И вы, папаша, не огорчайтесь. — Безобразие! — кто-то кричал. — Ишь нализался… Выведите его вон! — Кого? За что? — взывал Бабкин. — Меня-то? Бабкина-то? Что он правду-то говорит? А чьи сапоги-то на мне? Краденые, вот и клеймо казенное… Из вагона… Мне подарил их мой будущий папаша. Уж извини, папаша. Раз начистоту, так начистоту… Вот Пузиков придет, все ему открою… Я много кой-чего знаю. Где Пузиков? Алехин заглядывал в окно, в ночь. Пузиков не появлялся. Гости были как в параличе. Варечка истерически повизгивала. Ее отец весь побагровел и, сжимая кулаки, надвигался на Бабкина. С Носкова сразу соскочил хмель Бабкин колотил себя в грудь и, кривя рот, кричал сквозь слезы: — Я за правду умру, сукины дети!.. Да! Умру!! И вдруг трезвым, спокойным голосом: — Ваше благородие, а где же пуговка-то у вас? Алексей Кузьмич Бревнов, хозяин, быстро провел рукой по пуговицам, быстро скосил вниз глаза; блестящей пуговицы на тужурке недоставало. — Вот она, — сказал Бабкин, протягивая пуговицу. — Я ее вчера в вагоне нашел, в том самом, откуда вы вот эту телятину украли. Хозяин залился краской, побледнел, выхватил из рук Бабкина пуговицу и швырнул на пол. — Стервец! — крикнул он и весь затрясся от злобы. Бабкин поднял пуговицу, посмотрел на нее. — Да, ошибся… Извиняюсь… — промямлил он. — Действительно, не та: топор и якорь на ней есть, а сукно серое, видите, кусочек болтается. У вас же сукно черное… Извиняюсь. — Милицию сюда! Протокол! — колотил хозяин в стол кулаком. — Стой! — крикнул Бабкин. — Милицию я и сам приглашу. Стой! Забыл совсем. Идемте в вагон… Эй, где Пузиков? Идемте в вагон. Иначе все под суд за укрывательство. Отвечаю головой. Мы и без Пузикова обнаружим. Обрадованные скандальчиком гости повалили за Бабкиным. При свете фонаря в вагоне на туше мяса лежала блестящая пуговица с клочком сукна, а вместо черноусого пьяного Бабкина, но в его одежде, пред ошалевшей и перепуганной компанией стоял бритый, совершенно трезвый, широколобый человек со строгими глазами и ртом. — Конторщик Бабкин, которого вы три недели тому назад взяли на испытание, это я самый и есть, Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. Алехин, подай-ка пуговку сюда! Он твердо подошел к Бревнову, примерил пуговку и твердо сказал: — Ты, Бревнов, арестован. За компанию с тобой — Носков и торговец Решетников. А там распутаем весь клубок. Ну, Алехин, понял ли хоть теперь-то всю мою музыку? Эх ты, ежова голова. Покличь милицию! Алехин, казалось, был ошарашен больше всех. Он высунулся из вагона и засвистал в свисток с горошинкой, как Соловей-разбойник.Приложение
Алексей Толстой НОЖНИЦЫ Письмо Конан Дойля графу А. Н. Толстому
Илл. В. СварогаДорогой друг, Алексей Николаевич! Понимаю ваше затруднительное положение — писать святочный рассказ на двести строк да еще с ужасами очень трудно. У вас, в России, родовые замки построены из дерева и поэтому горят время от времени вместе с привидениями. Мошенники в Петербурге и Москве малокультурны, и в их проделках и преступлениях нет ничего таинственного.

Ваша тайная полиция ловит не тех, кого нужно, и единственное лицо, которому я с удовольствием пожал бы руку — это Азеф. Но увы, он теперь рантье. Одним словом, на долю вас, русских, остаются одни черти, которые, вылезая под сочельник из корзины под столом, рассказывают автору прескучные истории… Поэтому, дорогой друг, спешу вам на помощь… …Уже с полчаса, как я тру переносицу — все истории выскочили из головы. Я столько их написал, черт возьми… …(Здесь письмо прерывается и следующие строки до конца написаны карандашом, как будто в вагоне, потому что буквы кривые и малоразборчивы)… …Ваше счастье, дорогой друг… вот вам свежее, таинственное, необыкновенное приключение; я пишу левой рукой, а правая забинтована… …Вы представляли когда-нибудь, что можно бояться ножниц, ужасно бояться, до потери сознания… А я теперь представляю… Позавчера я только что начал это письмо и сидел, держа перо и с глазами, устремленными на стену, как вдруг раздался звонок. — Ага, — воскликнул я, — вот звонит тема. (У меня бывают предчувствия…). Тотчас же в кабинет вбежал странный человек… Он был невелик ростом, очень худ и черный сюртук его висел мешком. Правая рука была забинтована, левой он вертел перед лицом растопыренными пальцами. А лицо! О, Боже… бритые щеки прыгали, длинный, красный на конце нос двигался вслед за щеками, а кожа на голове ходила вместе с ушами. Ноги же его подгибались, то задевали за кресла и бегали, не останавливаясь, и дергались по серому сукну кабинета… — Что вам угодно? — спросил я наконец, указывая на кресло у стола… Человек тотчас сел, уставился на меня круглыми, словно стеклянными глазами и сказал: — Меня зовут сэр Пипер и К0, мы продаем консервы из рыбы, мяса и овощей… Сэр Пипер строго поглядел на стол, будто спрашивая: «Как, у вас на столе нет ни одной банки с моими консервами?», и увидел поверх рукописи отличные ножницы для бумаги; стеклянные глаза сэра Пипера остановились, потемнев от ужаса; он вскочил и сел опять, но уже мимо кресла. Я принес воды, уложил гостя на диван, и сэр Пипер, придя в чувство, проговорил слабым голосом: — Человек, придумавший Шерлок Холмса, может раскрыть всякое преступление; помогите мне, иначе я погиб… — Что случилось, рассказывайте, не таясь, — спросил я, за спиной потирая руки…

— Я давно собираюсь прекратить торговлю жестянками, — начал сэр Пипер, — и время от времени покупаю ренту, которую и запираю у себя дома в железном шкафу. У меня нет прислуги, и комнату убирает соседка за пять шиллингов в неделю. Я не хожу вечером по театрам, а, сидя дома, вынимаю ренту из шкафа и рассматриваю — нет ли не резанных купонов… Эти два месяца было много работы, я уставал и, приходя домой, тотчас же ложился спать… Три дня тому назад я вспомнил, что давненько не резал ренты. Я разложил ее на столе и с удовольствием протянул руку за ножницами. Ножниц не оказалось нигде. Я вас уверяю. Моих добрых ножниц не было нигде. Оставив лампу в прихожей, я побежал к соседке; она сказала, что утром видела ножницы на окошке… Я поворчал, и, отпирая входную дверь, услышал ясный звук ножниц, которые режут бумагу… Черт возьми, я не трус; вынув револьвер, я проскользнул в прихожую и подкрался к двери в кабинет, часть которого была освещена лампой из прихожей, стол же оставался в тени. Я ожидал худшего, что можно представить… Нарочно кашлянул и взвел курок… Ножницы продолжали резать… Я сказал: «Добрый вечер, сэр» и, держа револьвер вот так, подошел к столу… Ножницы стояли бочком на столе и кромсали на мелкие клочки лист за листом мою ренту… Сэр Пипер вытер лицо платком, я же спросил его, глубоко взволнованный: — Послушайте, сэр Пипер, у вас есть враги? — Черт возьми, конечно, — ответил он, — мой компаньон, пьяница и мот, ему на виселице место, сэр, клянусь, иначе бы я не покупал ренты. Он жил одно время в Индии и до сих пор водит компанию с висельниками. — Что же было далее, сэр Пипер? — Дальше… уронив револьвер, я бросился на ножницы, желая схватить их за кончики; они увернулись и, щелкнув перед носом, поплыли по темной комнате… Я гонялся за ними, опрокидывая мебель, когда же прижал в угол и протянул руку, ножницы раскрылись и ловко отхватили мне два пальца… Сэр Пипер застонал, трогая забинтованную руку. Я же сел против сэра Пипера в кресло и стал думать, куря крепкий табак из трубки (у нас, англичан, Алексей Николаевич, голова в нужных случаях работает так сильно, что нужно слегка оглушить мысли крепким табаком, иначе они разорвут серую оболочку мозга, и англичанин сходит с ума. Такие случаи бывали). Подумав, я спросил отрывисто: — Комната заперта? — На ключ и он в кармане, я не был у себя со вчерашнего вечера… — Идем, — воскликнул я, и мы вышли, сели в подземную дорогу, где у меня возник план, потом наняли кеб и подъехали к двухэтажному кирпичному домику. В нижнем этаже горел свет; наверху темно… Улица была пуста. — Тысяча фунтов изрезаны, — простонал сэр Пипер, — и тысяча в шкафу, но шкаф можно отпереть… — Окно вашего кабинета? — спросил я… — Угловое направо, второй этаж. — Поднимайтесь наверх и ничего не бойтесь, я всегда прихожу вовремя… Сэр Пипер, стуча зубами, скрылся в подъезде. Я же ловко вскочил на забор, ухватился за водосточную трубу и поднялся в уровень второго этажа…

Фонарь с той стороны улицы освещал длинную комнату, видную мне через окно, и дверь в конце, откуда была видна прихожая. На полу комнаты валялись жестянки консервов, стулья, книги и сдернутая скатерть. У стены стоял железный запертый шкаф, а напротив него за письменным столом сидел, подперев голову в положении спящего, человек, спиной ко мне… — Ага, — подумал я, — предположение верно. Перед сидящим стояла пустая бутылка и сыр на тарелке… И повсюду были разбросаны лоскутки бумаг… На полу валялся железный лом и сверло… — Он ждет и хочет отнять ключ, — подумал я. В это время в прихожей открылась входная дверь и, крадучись, проскользнул в нее сэр Пипер, держа оружие в левой руке… Незнакомец сейчас же пробудился, соскользнул со стула, прижался к стене, протянул обе руки, словно взял вожжи, нахмурился (я увидел его лицо — свирепое, курносое и с черной бородой), затем толстые губы его раскрылись и закрылись, словно вымолвив что-то. Вошел сэр Пипер смело, не глядя на незнакомца; нагнулся над столом, взялся за голову и упал лицом в изрезанные бумаги… Незнакомец подошел к сэру Пиперу и стал обыскивать его карманы. Сэр Пипер сидел, ничего не замечая… Незнакомец, найдя ключ, вложил его в дверцу денежного шкафа, один раз только посмотрев на мое окно. Сэр Пипер вскинул голову и стал глядеть, как дверца отворилась сама собой, изнутри вылетела рента, пронеслась по воздуху до окна, с подоконника соскочили ножницы и стали кромсать и резать листы… Я протер глаза… Незнакомца не было в комнате. Ножницы резали сами. Сэр Пипер сидел, раскрыв рот… Я — англичанин, Алексей Николаевич, англичанина нельзя провести. Ударом кулака я вышибаю окошко и впрыгиваю в комнату. — Берегитесь, — закричал сэр Пипер, хватая меня за руку… И в это время ножницы подплывают к сэру Пиперу и отрезают кончик носа… — Невыносимое издевательство, — кричу я и стараюсь схватить ножницы, но они увертываются, пляшут по воздуху и, быстрым движением схватив меня за руку, летят на пол… Видите, Алексей Николаевич, и англичане попадают впросак. Я побежал за полисменом; конечно, негодяя мы не нашли, сэра же Пипера отвезли в больницу, где заклеили пластырем его нос… На другой день я разыскал магазин сэра Пипера и К0. Компаньона не застал (он уехал из Лондона в ту же ночь), а мне сказали, что сэру Пиперу поделом, и все жалеют, что не отрезали ему также и уши. Сэр Пипер ограбил своего компаньона. — Если это так, — подумал я, — значит, все к лучшему. Так посредством гипнотизма был наказан порок. Преданный вам Конан Дойль.
Комментарии
А. Аверченко. Пропавшая калоша Доббльса
Впервые: Сатирикон. 1908. № 3. А. Т. Аверченко (1880–1925) — сатирик, драматург, театральный критик, редактор журналов Сатирикон (1908-13) и Новый Сатирикон (1913-18), известнейший писатель-юморист дореволюционной России и эмиграции.Доктор Саперлипопет. Шерлок Хольмс
Впервые в авторском сб.: Доктор Саперлипопет. Юмористические рассказы. Баку, 1911.О. Чюмина. Взаимное обучение или Шерлок Хольмс в Малом театре
Стих, вошло в авторский сб.: Бой-кот (Чюмина О. Н.). На темы дней свободы: Победители и усмирители. Заря свобод. Думская весна. Военное обновление. 1905-6. СПб., 1906.О. Н. Чюмина (1858–1909) — поэтесса, прозаик, переводчица. Автор ряда романов, сб. стихотворений, театральных фельетонов в стихах, двух получивших широкую известность сб. революционной сатиры, переводов из Данте, Мильтона, Теннисона и пр.
Шерлок-Холмс в Петербурге
Впервые: Серый волк. 1907. № 20, 18 ноября.В. Крымов. Из экзотических разговоров
Впервые: Столица и усадьба. 1916. № 71,1 декабря.В. П. Крымов (1878–1968) — прозаик, предприниматель, издатель журнала Столица и усадьба (1913–1917). Незадолго до революции отправился в кругосветное путешествие, после кот. поселился в Берлине, с 1933 г. жил во Франции… Автор романов (в том числе авантюрных и фантастических), путевых очерков.
А. Бухов. Дело канадских грабителей
Впервые: Новый сатирикон. 1915. № 43, 22 октября.Long ongle. Шерлок Холмс в Петрограде
Впервые: Лукоморье. 1915. № 45.Псевдоним автора (букв. «длинный ноготь» или «длинный коготь», фр.) не раскрыт. По одной из версий, он принадлежит известному журналисту и редактору В. Регинину (В. А. Раппопорту, 1880/83-1952).
А. Дикгоф-Деренталь. Дипломат Митька
Впервые в авторском сб.: Дикгоф-Деренталь А. В наши дни. Прага, 1922.А. А. Дикгоф-Деренталь (1885–1939) — эсер-боевик, журналист, писатель. Участник убийства Г. Гапона. С 1910 г. европейский корреспондент Русских ведомостей, во время Первой мировой войны доброволец во франц. армии. После революции ближайший соратник Б. В. Савинкова (1879–1925); жена его Э. Е. Сторэ состояла в любовной связи с Савинковым. Жил в эмиграции в Польше и Франции. В 1924 г. перешел вместе с Савинковым советскую границу, выступал на процессе Савинкова как свидетель. Позднее работал в ВОКСе, писал либретто оперетт. Был арестован в 1937 г., приговорен к пяти годам заключения, в 1939 г. был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. Реабилитирован в 1997 г.
В. Волженин. Пропавшая кухарка
Впервые: Бегемот. 1927. № и, под псевд. Р. Волженин.В. М. Волженин (1886–1942) — прозаик, сатирик, драматург, поэт-песенник. Печататься начал в 1906 г. в юмористических журналах. Автор сб. сатирических рассказов, научно-фант. романа Сквозь череп (1927, совм. с И. С. Ломакиным) и др. произведений. Умер вскоре после эвакуации из осажденного Ленинграда.
К. Радек. Величайшее преступление в истории
Впервые: Правда. 1934. № 210 (6096), 7 августа.Л. Лагин. Конец карьеры Шерлока Холмса
Впервые: Крокодил. 1934. № 27.Л. И. Лагин (наст. фам. Гинзбург, 1903–1979) — советский прозаик, писатель-фантаст, сатирик, журналист. В 1930-х гг. сотрудник Правды и Крокодила. Участвовал во Второй мировой войне как военный корреспондент. Автор многочисленных фантастических произведений, в том числе знаменитой сказочной повести Старик Хоттабыч (1938, 1955).
В. Тихонов. Сыщик
Впервые: Нива. Ежемесячные литературные приложения. 1902. № 10, октябрь.B. А. Тихонов (1857–1914) — актер, драматург, беллетрист, журналист. Родился в Казани. Участник русско-турецкой войны 1877-78 гг. Был актером, приказчиком, коммивояжером. С 1882 г. стал профессиональным литератором, печатался в многочисленных периодических изданиях, примыкая при этом к консервативным кругам. Автор рассказов, романов, фельетонов и пр.
М. Маевский. Конан-Дойль
Впервые как отдельное изд.: Маевский М. Конан-Дойль. «Приключения сыщика Шерлока Холмса». Вильно, 1904.М. М. Маевский (1871–1954) — врач-психиатр. Выпускник медицинского факультета Казанского университета. Работал в Казани, Вильно, Вятке. Был награжден орденом Ленина за заслуги в области развития здравоохранения. В 1941 г. создал Кировский областной дом санитарного просвещения, главным врачом которого оставался до самой смерти.
В. Розанов. Из книги «Опавшие листья»
Впервые в кн.: Розанов В. Опавшие листья: Короб второй и последний. СПб., 1915.Д. Березкин. Современные кумиры
Впервые опубликовано отдельным изд. в 1910 г. Публикуется по: Березкин Д. М. Современные кумиры: Очерк современной сыщицкой литературы. Речь к учащемуся юношеству. Изд. второе. СПб., 1914.Д. М. Березкин (1868 —?) — педагог, беллетрист, публицист. В 1900-х гг. был инспектором Тобольской духовной семинарии, учащимся которой изначально и читал свои «речи к учащему юношеству». Выступал как эксперт по сектантству. Позднее был инспектором народных училищ, с 1914 директор Юхновского реального училища. Автор пособий для изучения Библии, кн. Во тьме вековой: повесть и рассказы из быта хлыстов, скопцов и бегунов (СПб., 1905) и пр.
К. Чуковский. Из книги «Нат Пинкертон и современная литература»
Публикуется по изд.: Чуковский К. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 7. М., 2012. Оригинальный текст, основанный на лекции К. Чуковского (15 октября 1908 г.), в том же году вышел отдельным изданием; второе исправленное и дополненное издание вышло в1910 г.В. Шкловский. Новелла тайн
Публикуется по изд.: Шкловский В. О теории прозы. М., 1929.А. Амфитеатров. Шерлок Хольмс
Публикуется по авторскому сб.: Амфитеатров А. Сибирские этюды. СПб., 1904. Рассказ является одним из первых литературных откликов либерального лагеря на феномен Шерлока Холмса.К. Долин. Фантазер
Впервые как отдельное изд.: Долин Конан. Фантазер. Казань: изд. В. Н. Фроммерта, 1908 (Антипинкертоновщина: Коллекция рассказов для интеллигенции. I). В чрезвычайно небрежном и полном ошибок очерке о русских эпигонах Конан Дойля А. А. Колганова в свое время утверждала, что Фантазер был якобы выпущен в «полемических целях» и во имя «борьбы с засильем бульварных приключений» (см. Колганова А. А. Новые дороги литературных героев. Минск, 1990. С. 181–189). Однако девиз «Антипинкертоновщины» и выпады по адресу сыщицкой «сивухи» не должны вводить в заблуждение: «Конон Долин» лишь решил противопоставить бульварным «выпускам» текст, рассчитанный на более образованную и взыскательную аудиторию. Видимо, начинание оказалось неудачным, так как данными о продолжении книжечки мы не располагаем.М. Ордынцев-Кострицкий. Губернский Шерлок Холмс
Рассказ (1910) вошел в авторский сб. За счастьем, золотом и славой: Об искателях новых впечатлений и авантюристах всех стран земного шара (Пг., 1915).М. Д. Кострицкий (1887 — после 1941) — беллетрист, журналист. Публиковался под псевд. М. Ордынцев, М. Ордынцев-Кострицкий и мн. др. В юности уехал в Южную Америку, жил в Аргентине. В нач. 1910-х гг. был секретарем редакции журн. Русский паломник и Светлый мир. Как репортер освещал открытие Панамского канала; участвовал в Первой мировой войне. Автор многочисленных исторических романов и повестей, трех сборников новелл, включая фантастические и детективные. В 1941 г. был осужден военным трибуналом войск НКВД в Средней Азии и сгинул в ГУЛАГе.
В. Шишков. Шерлок Холмс — Иван Пузиков
Рассказы об Иване Пузикове вошли в авторский сб.: Шишков В. Шерлок Холмс — Иван Пузиков: Шутейные рассказы. М., 1925.В. Я. Шишков (1873–1945) — писатель, инженер. Окончил Вышневолоцкое техническое строительное училище. Работал в Новгороде, Вологде, с 1894 г. в Томском округе путей сообщения. С 1900 г. в течение 15 лет проводил ежегодные экспедиции на сибирских реках. Публиковаться начал с 1908 г. С 1915 г. жил в Петрограде, затем в Детском Селе. Наиболее известен как автор «сибирской» прозы — рассказов, путевых очерков, повести Ватага (1923), романа Угрюм-река (1933).
А. Толстой. Ножницы
Впервые: Синий журнал. 1911. № 53. Рассказ написан за пять лет до встречи А. Толстого с Конан Дойлем во время поездки с делегацией русских писателей и журналистов в Англию; эту встречу Толстой описал в очерке В гостях у англичан: Прогулка с Конан-Дойлом (Русские ведомости. 1916. 22 марта).А. Конан Дойль как действующее лицо появляется также в эмигрантской сатире С. Черного (А. М. Гликберга, 1880–1932) Пушкин в Париже (Иллюстрированная Россия. 1926. № 24 (57). Мы не включили этот рассказ в антологию, поскольку он лишь опосредованно связан с Шерлоком Холмсом и детективным жанром в целом — но позволим себе привести завязку, где, собственно, и фигурирует Конан Дойль.
Конан Дойл, обладая независимым состоянием и досугом, исчерпав все свои возможности в области «новейших похождений знаменитого сыщика», в последние годы, как известно, занялся материализацией духов. К сожалению, далеко не все опыты ему удавались. Так, однажды, в конце мая 1926 года, он чередующимися в таинственной последовательности пассами и острым напряжением воли попытался было вызвать к жизни шотландского пирата Джонатана Пирсона. Пирсон, как полагал Конан Дойл, несомненно знал несметное количество легенд, приключений и старых поверий, авторское право в потустороннем мире никем не закреплено, — стало быть, пират мог бы, ничем не рискуя, обогатить творчество маститого сыщиковеда на несколько томов сразу. Спутался ли порядок пассов или материализующие волны, исходившие из позвоночного хребта англичанина, приняли не то направление и вместо утесов Шотландии достигли, никем не перехваченные, далекой Псковской губернии, — но вместо знакомого по старинным английским лубкам, похожего на дикобраза Пирсона, в восточном окне перед удивленными глазами Конан Дойла закачалась незнакомая фигура. Ясные, зоркие глаза, тугие завитки волос вокруг крутого широкого лба, круглые капитанские бакенбарды, вздернутый ворот старинного сюртука, закрывающий самое горло сложно повязанный фуляр. Профессия?.. Быть может, музыкант: мягкое мерцание глаз и узкие кисти рук позволяли это предполагать, — во всяком случае джентльмен, и отборного калибра. Пираты такие не бывают. — Кто вы такой, сэр? — спросил озадаченный англичанин. Незнакомец вежливо назвал себя, но странный шипящий звук ничего не сказал Конан Дойлу. — Скажите, это Лондон? — в свою очередь спросил незнакомец, твердо и отчетливо выговаривая английские слова. — Да, сэр. Лучший город в мире. Человек в фуляровом галстуке отмахнул платком клубящийся вокруг головы туман и сдержанно улыбнулся. — Быть может. Простите, я еще не успел осмотреться… Скажите, какой теперь год? — 1926-й, — ответил Конан Дойл и гостеприимно распахнул окно. Он знал, что материализованные духи неохотно проходят сквозь стекла. Незнакомец явно располагал к себе, но нельзя же по душам разговориться с человеком по ту сторону окна под аккомпанемент сиплого ветра и под плеск лондонского дождя. За окнами никого не было… На противоположной стене лопотал отклеившийся угол афиши: «Настоящие леди и джентльмены носят резиновые каблуки фирмы Крум». Стоило ради этой давно намозолившей глаза хвастливой фразы высовывать наружу нос, подвергая себя простуде?.. Англичанин досадливо крякнул, сел на кресло и стал припоминать: где, в какой книге видел он изображение, напоминающее его сегодняшнего гостя? И вообще нелепо так исчезать, обрывая беседу на полуслове… Странные у этих духов понятия о вежливости!
Исправления и дополнения к тому I
Во вступительной статье (с. 21) мы указали, что среди первых появившихся в России в 1907 г. были две «холмсианские» серии Шерлок Хольмс: Его похождения в Германии или Тайна Красной Маски: Сенсационный роман по запискам известного германского агента сыскной полиции Гастона Ренэ и Из тайных документов знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Однако определение серии Тайна Красной маски как «холмсианской» или «шерлокианской» применимо лишь относительно, так как в ней лишь эксплуатировалось знаменитое имя и герой никак не был связан с Шерлоком Холмсом. Помимо перечисленных на с. 18–20 спектаклей петербургского сезона 1906–1907 гг., стоит упомянуть буффонаду Петербургская кармен в Екатерининском театре, где действовали с неведомыми целями сразу три «Шерлока», а также постановку Мисс Шерлок (Женщина-сыщик) в Новом театре. Пользуясь случаем, хотелось бы исправить огрех верстки на с. 18, в третьей снизу строке говорится о театре Литературно-художественного общества. В числе дореволюционных цирковых номеров (с. 21), как вспоминает акробат С. И. Маслюков, имелось также антре Шерлок Холмс: — С Ольшанским я репетировал акробатическое антрэ, которое он называл «Гельд шранк» (т. е. в дословном переводе «Денежный шкаф» или, лучше сказать, «Несгораемый шкаф»). Впоследствии это антрэ стали делать многие под названием «Шерлок Холмс»[40]. Упомянутая на с. 29 и приведенная в томе II анонимная новелла Шерлок Холмс в Петербурге: (Из записок всемирного полицейского сыщика)[41], как установил А. А. Лапудев, представляла собой слегка переделанный «на русский лад» немецкий шерлокианский «выпуск» К. Маттула и Т. фон Бланкензее (М. Бланка) Im Café-National; перевод его вышел под заглавием Индийский принц (В «Café National») в серии Таинственные приключения Шерлока Холмса, английского знаменитого сыщика (Варшава, 1908).Примечания
1
…Циммермана — Ю. Г. Циммерман (1851–1923) — музыкальный издатель, фабрикант и поставщик музыкальных инструментов. Долгое время работал в России. (обратно)2
…убийство Катогана… Мариани — Расследование убийства лорда Катогана служило завязкой действия пьесы Ф. Бонна Шерлок Холмс, поставленной в сентябре 1906 г. в петербургском Малом театре Суворина. О злодее Мариани (инкарнации профессора Мориарти), антагонисте Холмса в этой пьесе, см. коммент. к т. 2., подробнее о постановке и реакции на нее — во вступ. статье. (обратно)3
…Малом театре — Стих. посвящено указанной выше постановке пьесы Шерлок Холмс в Малом театре, воспринятой либеральными кругами как «апология сыска» (О. Дымов). (обратно)4
…ben trovato — хорошо придумано (ит.), часть поговорки «Se non и vero и ben trovato» («Если это и не правда, то хорошо придумано»). (обратно)5
…Мещерский — Кн. В. П. Мещерский (1839–1914), крайне правый публицист, романист, консультант правительства при Александре III и Николае II, издатель-редактор газ. — журн. Гражданин. Пользовался скандальной репутацией как благодаря своим взглядам, так и пристрастию к мужеложству. (обратно)6
…Меньшиков — М. О. Меншиков (1859–1918), консервативный публицист шовинистически-охранительского толка, националист и юдофоб, ведущий сотрудник суворинского Нового времени. Был расстрелян большевиками на Валдае. (обратно)7
…Михайловский — Н. К. Михайловский (1842–1904), публицист, социолог, литературовед, критик, теоретик народничества. (обратно)8
…«Много бумаги» — рассказ А. П. Чехова (1886). (обратно)9
…Чичерина — Г. В. Чичерин (1872–1936) — революционер, советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР (1918–1930). (обратно)10
Mon Dieu! — Бог мой! (фр.). (обратно)11
…из признательности к политике Ллойд-Джорджа по нашим русским делам — В начале 1920-х гг. Англия во главе с премьером Д. Ллойд Джорджем (1863–1945) взяла курс на сближение с Советской Россией и в 1921 г. заключила с ней торговый договор, ставший первым соглашением такого рода между советскими властями и капиталистическим государством. (обратно)12
…восстание в Ярославле — жестоко подавленное антибольшевистское восстание в Ярославле, организованное в июле 1918 г. савинковским «Союзом защиты Родины и Свободы». (обратно)13
…Черчилля, Асквита, Грея, Пуанкаре, Бетман-Гольвега — перечислены виднейшие политики Англии, Франции и Германии эпохи Первой мировой войны. (обратно)14
…страшной находке в Брест-Литовске — Далее Холмс излагает обстоятельства реального и весьма громкого уголовного дела 1894 г. (обратно)15
…Ринальдо Ринальдини — герой популярнейшего в свое время романа немецкого писателя К. А. Вульпиуса (1762–1827) Ринальдо Риналъдини, атаман разбойников (1798). (обратно)16
…Шиндерганнес — букв. «Ганс-живодер», прозвище разбойника из Рейнской области И. Бюкнера (ок. 1780–1803), чей образ нередко романтизировался немецкими писателями. (обратно)17
…Uncle Bill… how are you? — Дядюшка Билли, как поживаете? — Прекрасно, а вы как? (англ.). (обратно)18
…клеппере — Клеппер — подпорода лошадей, выведенная в древности на территории Эстонии; с XVII в. эти лошади широко вывозились в северные и центральные губернии России, где повлияли на развитие местных пород. (обратно)19
…post hoc, ergo, propter hoc — «После этого, следовательно, по причине этого» (лат.). Краткая формулировка распространенной логической ошибки. (обратно)20
Позволю себе указать на один из хороших примеров — далее цитируется повесть А. Конан Дойля Знак четырех (1890). (обратно)21
«Дом № 3 по Брикстонской улице» — Автор ошибочно называет «рассказом» одну из главок повести Этюд в багровых тонах (1897). (обратно)22
К земным утехам нет участья… — Цит. из стих. А. К. Толстого (1817–1875) Грешница. (обратно)23
И в этом, и в других ответах курсив наш. Авт. (обратно)24
Некоторые исследователи и критики начинают за последнее время высоко ценить рассказы Конан-Дойля. Так, напр., пр. — доц. Н. О. Лосский, автор «Обоснования интуитивизма», прямо-таки рекомендует изучающим логику познакомиться с Шерлоком Холмсом. В большинстве рассказов о нем он ценит строго-логическую будто бы структуру их и вообще — смотрит на них, как на ряд интересных логических загадок, которые решаются с таким же будто бы интересом, как и математические задачи, задачи-шутки и т. п. (обратно)25
«Тайна долины Боскомб» (Здесь и далее прим. авт.). (обратно)26
«Норвудский подрядчик». (обратно)27
Все неведомое кажется прекрасным (лат.). (обратно)28
«Союз рыжих». (обратно)29
«Он в Риме был бы Брут…» — Цит. из стих. А. С. Пушкина К портрету Чаадаева (ок. 1820). (обратно)30
…«Строителя Сольнеса» — Строитель Сольнес (1892) — драма Г. Ибсена. (обратно)31
Ты царь. Живи один… — цит. из стих. А. С. Пушкина Поэту (1830). (обратно)32
У Пинкертона на Бродвее специальная шпионская контора. (обратно)33
У Ната Пинкертона есть полицейский жетон. См. «Похитители динамита» и «Компания лжесвидетелей». (обратно)34
…убийственной пародии на модные ныне рассказы Конан Дойля о сыщике Шерлоке Хольмсе — Речь идет о новелле М. Твена A Double Barreled Detective Story («Детектив с двойным прицелом», 1902). (обратно)35
Габорио, Законнэ… Лекоков и К° — французские писатели Э. Габорио (1832–1873) и П. Законне (Законна, 1817–1895), известные своими уголовно-детективными романами. Первый из них, создатель знаменитого детектива Лекока, повлиял на Конан Дойля и считается одним из основателей детективного жанра. (обратно)36
…вон я нашел уже один рассказ в «Ниве», будто в Шерлока Хольмса с сочувствием играют русские дети — Имеется в виду рассказ В А Тихонова Сыщик (см. выше). (обратно)37
«Из уст младенцев… хвалу» — В синодальном пер. «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Пс. 8:3). (обратно)38
…nil admirari — здесь: ничему не удивлюсь (лат.). (обратно)39
«Eadem… restant» — «Все вечно одно и то же, и тем же остается» (лат.). В действительности это изречение принадлежит Титу Лукрецию Кару («О природе вещей»). (обратно)40
Советский цирк 1918–1935: Сборник. Л.-М., 1936. С. 25. (обратно)41
Всем. 1907. № 9, 29 ноября. (обратно)
(обратно)

Последние комментарии
1 день 13 часов назад
1 день 17 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 23 часов назад