Арабская поэзия средних веков [Имруулькайс] (fb2) читать онлайн
- Арабская поэзия средних веков (пер. Арсений Александрович Тарковский, ...) (а.с. Антология поэзии -1975) (и.с. Библиотека всемирной литературы-20) 3.64 Мб, 496с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Имруулькайс - Маджнун - Башшар ибн Бурд - Абу-ль-Атахия - Омар ибн Аби Рабия
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Арабская поэзия средних веков

Камиль Яшен. Золотое звено
Перевод с узбекского Г. Марьяновского.Арабская поэзия средних веков еще мало известна широкому русскому читателю. В его представлении она неизменно ассоциируется с чем-то застывшим, окаменелым — каноничность композиции и образных средств, тематический и жанровый традиционализм, стереотипность… Представление это, однако, справедливо только наполовину. Да, действительно, на протяжении более чем тысячи лет, с первых веков нашей эры и вплоть до XVIII столетия, арабоязычные поэты не выходили за пределы весьма ограниченного и строго регламентированного круга жанровых форм — касыда, кыта, позднее газель. Действительно, знакомясь со стихами различных арабских поэтов, порой отстоящих один от другого на сотни и сотни пустынных километров и такое же количество лет, обнаруживаешь одни и те же поэтические приемы, в их творчестве разрабатывается тот же мотив, однообразны сюжетные линии, универсален пейзаж, заранее задано философское или нравственное резюме. Что ж, от очевидного не уйти — все это так. И тем не менее… Тем не менее увидеть в средневековой арабской поэзии только это, только каноничность, условность и заданность было бы несправедливо, внеисторично. Не нужно доказывать, что даже самая каноническая, самая окостеневшая форма, прежде чем стать таковой, когда-то должна была обладать всеми признаками новизны и творческой свежести. Парадокс диалектики: в первооснове всякой рутины лежит если и не революционность, то уж реформаторство непременно. Впрочем, относительно средневековой арабской поэзии это не нужно аргументировать ходом логических построений: знакомясь с творчеством древних кочевников-бедуинов, представленным в книге, читатель ощутит это сам. Он, безусловно, отметит непосредственность и живость этой поэзии, её наивный реализм, восхитится первозданной сочностью красок, неподдельной искренностью наполняющих ее чувств. Эта поэзия удивительно самобытна, самой своей сущностью связана с образом жизни и мироощущением скотовода-кочевника. В ней навсегда запечатлелись картины знойной Аравийской пустыни и яркого южного неба, песчаной бури и покинутого становища. Поэзия бедуинов, выросшая на почве устного народного творчества доклассового периода, еще далека от каких-либо стеснительных ограничений, жесткой эстетической нормативности — песня, как правило, импровизированная, льется свободно и раскованно. Но именно ей суждено было со временем стать каноном и нормой, иссушающими древо всякой поэзии. Начиная с VII–VIII веков вместе с арабами-завоевателями она проникла в Египет и Сирию, Ирак и Среднюю Азию, распространилась на страны Магриба и, преодолев Гибралтарский пролив, завладела Испанией. Её несли с собой и насаждали ревностные адепты новой религии — ислама. Следы этих событий, разворачивавшихся на протяжении нескольких последующих столетий, читатель без труда обнаружит в содержании многих стихов, включенных в предлагаемую антологию. Правда, зачастую современные поэту события выражаются здесь не буквально и прямо, не в их реальном течении, но как бы сквозь призму былого, в костюмах и красках далекого прошлого. И в этом переплетении времен и эпох, в этом ретроспективном взгляде на то, что происходит сегодня, — своеобразие и еще один парадокс средневековой арабской поэзии. Как же иначе, если не парадоксом, назвать тот странный, с трудом поддающийся объяснению факт, что фанатичные сторонники новой религии, огнем и мечом уничтожавшие на завоеванных землях всякую мысль о каких-то других божествах, в своем поэтическом творчестве опирались на прошлое и продолжали традиции, идущие от доисламской языческой поэзии? Творчество арабоязычных поэтов постепенно начинает отдаляться от первоисточников реальной жизни. Критерием эстетической ценности становится подобие или соответствие «классическим» образцам бедуинской поэзии. Всякое конструктивное отступление от нее рассматривается как нарушение норм прекрасного. Это уже было предвестием канонизации, но пока еще только предвестием. Распространившись на обширных территориях халифата, арабская поэзия невольно стала вбирать в себя и осваивать культурные традиции покоренных народов — арамейцев, греков, контов, персов, таджиков, тюрков, берберов, негров, вестготов. Эти свежие соки обогатили арабскую поэзию, привнесли в нее новые темы и образы, умножили и сделали более разнообразными средства художественной выразительности. С этого времени, с аббасидской эпохи, речь уже может идти не собственно об арабской поэзии, но о поэзии арабоязычной, в создании которой наряду с арабами принимают живое участие представители многих народов. За несколько последующих столетий центры развития и высшего расцвета этой поэзии перемещаются с Востока на Запад и с Запада на Восток, от одного поэта к другому переходит по-восточному пышный титул царя поэтов, создаются новые шедевры изящной словесности, но в основе ее на протяжении всех средних веков лежат традиции все той же бедуинской поэзии. С момента своего возникновения и вплоть до VIII–X веков хранителями и, пользуясь современной терминологией, пропагандистами этой поэзии были профессиональные декламаторы — рави. Разумеется, каждый из них привносил в произведения народного творчества что-то свое — свою окраску и свой комментарий. Только в семисотые годы появляются первые записи, частично дошедшие и до наших дней. Дальнейшая судьба арабской поэзии во многом была предопределена возникновением новой религии и появлением «священной» книги ислама — Корана. Поэзия переживает острый — хотя и непродолжительный — кризис и возрождается уже при омейядской династии в покоренных арабами Сирии и Ираке. Именно к этому времени относится творчество таких придворных поэтов, как аль-Ахталь, аль-Фараздак, Джарир. В условиях жестокой борьбы между южными и северными арабскими племенами они восславляли доблесть и мужество своих покровителей, воспевали их мудрость и щедрость, всячески чернили и поносили противников омейядской династии. Здесь очень явно и ощутимо довлела традиция древней бедуинской поэзии. За узаконенной схемой и каноничностью образов терялись очертания конкретной действительности. Однако наряду с придворной панегирической поэзией в крупных городах халифата получает развитие явление относительно новое — любовная лирика. «Относительно», потому что и здесь дает себя знать традиционная связь с бедуинской поэзией. Правда, в творчестве поэтов новой эпохи традиция не повторяется, а развивается, о чем убедительно говорят произведения Омара ибн Аби Рабиа из Мекки — самого видного и самого яркого представителя этого жанра. Его стихи проникнуты искренним чувством, в них целая гамма то радостных ожиданий, то горестных дум. Они написаны простым, всегда взволнованным языком. Жизнь крупных городских центров, выходцами из которых были создатели новой любовной лирики, наложила свой отпечаток на их творчество. Эта любовь вполне земная, реальная. И снова, как это не раз бывало в истории литературы, волна вернулась к тому берегу, откуда когда-то начинала свой бег, — любовная лирика завладела сердцами бедуинских поэтов. Но это не было повтором того, что создавали поэты Мекки, Медины, Дамаска; любовная лирика аравийских певцов — иного характера: целомудренная, элегичная, трагедийная. Любовная лирика узритских поэтов — одна из высочайших вершин средневековой арабской поэзии. Рожденные ею образы навечно вошли в историю литературы, стали предметом многочисленных поэтических обработок, среди которых прежде всего должны быть названы гениальные поэмы азербайджанца Низами и узбека Навои. Высокого расцвета достигает арабоязычная поэзия в VIII–XII веках, когда наполняется и оплодотворяется культурными традициями исламизированных народов. Первым и, пожалуй, самым выдающимся представителем нового направления был выходец из знатного иранского рода Башшар ибн Бурд. Вслед за ним на путь обновления старой бедуинской поэзии встают Абу Нувас — создатель жанра застольной поэзии, Абу-ль-Атахия — творец философско-аскетической лирики и другие поэты покоренных арабами земель. Арабская поэзия средних веков дала миру многих замечательных мастеров, превосходных художников, глубоких и оригинальных мыслителей. Без творчества живших в разные века и в далеких-друг от друга краях Абу Нуваса и аль-Мутанабби, Абу-ль-Ала аль-Маарри и Ибн Кузмана история мировой литературы была бы бедней, потеряла бы много ни с чем не сравнимых красок. Она была бы бедней еще и потому, что лишила бы все последующие поколения поэтов своего глубокого и плодотворного влияния. А влияние это прослеживается не только в творчестве арабоязычных или — шире — восточных поэтов; оно ярко сказалось в поэзии европейских народов. В средневековой арабской поэзии история изображалась нередко как цепь жестко связанных звеньев. Воспользовавшись этим традиционным поэтическим образом, можно сказать, что сама арабская поэзия средних веков — необходимое звено в исторической цепи всей человеческой культуры. Золотое звено.
КАМИЛЬ ЯШЕН
ДРЕВНЯЯ ПОЭЗИЯ V век — середина VII века
Аль-Мухальхиль Перевод А. Ревича
{1}«Слепят воспоминанья, как песок…»
Слепят воспоминанья, как песок,
Болят глаза, струится слез поток,
Мне кажется, что ночь века продлится
И что лучи не озарят восток.
Всю эту ночь глядел я на Стожары,
Потом их блеск на западе поблек.
Вслед каравану я глядел с тоскою,
Покуда мрак его не заволок.
Я плачу, а созвездья всё восходят,
Как будто небосвод не так высок.
Уж лучше б я погиб, а ты бы в битву
Повел дружину, обнажив клинок.
Я звал тебя, Кулейб, — ты не ответил,
Пустынный мир ответить мне не мог.
Откликнись, брат! Все племена Низара{2}
Осиротели и клянут свой рок.
Даю обет: все блага я отрину,
Покину ближних, стану одинок,
Ни женщины я не коснусь, ни кубка,
Надев тряпье, уйду я в мир тревог,
С кольчугой не расстанусь я, покуда
Над миром ночь и мрак еще глубок.
Оружья не сложу, пока не сгниет
Всё племя бакр, тому свидетель бог!
«Кулейб! С тех пор как ты оставил мир земной…»
Кулейб! С тех пор как ты оставил мир земной,
В нем смысла больше нет, в покинутом тобой!
Кулейб! Какой храбрец и щедрый благодетель
Теперь навеки спит под каменной плитой?
Истошный слыша плач, сказал я: «Поглядите,
Рассыпалась гора, трясина под пятой!
Кто доблести его сочтет, скажите, люди?
Он мудрость сочетал с суровой прямотой,
Он для гостей своих верблюдиц резал жирных,
Он стадо целое дарил друзьям порой,
Он вел отряд в набег, и сотрясали землю
Копыта скакунов, летящих вдаль стрелой,
За ним шли всадники, бросающие копья
Лишь для того, чтоб враг обрел навек покой».
«Здесь отвага и мудрость почили в могиле…»
Здесь отвага и мудрость почили в могиле.
Гордость рода араким, тебя погубили
Люди племени зухль. Как печаль утолить?
Зухль и кайс{3}, чтоб вы сгинули, вымерли, сгнили
В нас пылает огонь. Ветер, ветер, неси
Эти искры, чтоб недругов испепелили!
Перемирью конец. Не воскреснет Кулейб —
Значит, меч нам судья, меч, рожденный в горниле.
Перемирью конец. Не воскреснет Кулейб —
Ваших вдов и сирот защитить вы не в силе.
Перемирью конец. Горе вам и позор!
Вас несчетные беды уже обступили.
В Беку вызвал Джузейма вождей на совет…»
В Беку вызвал Джузейма вождей на совет,
Ибо Хинд вероломно его известила,
Что согласна покорной супругою стать,
И сама во владенья свои пригласила.
Из вождей лишь Касыр заподозрил обман,
Но собранье старейшин иначе решило,
И сгубила Джузейму коварная Хинд,—
Часто злобой удары наносятся с тыла.
На кобыле Джузеймы гонец прискакал,
Так впервые без шейха вернулась кобыла!
Убедился Джузейма в предательстве Хинд,
Когда лезвие жилы ему обнажило.
А Касыр убоялся возможной хулы,
И, решив, что бесчестье страшней, чем могила,
Нос себе он отрезал, пожертвовал тем,
Чем природа с рожденья его наделила.
Изувеченный прибыл к владычице Хинд,
О возмездье моля, причитая уныло,
И добился доверия мнимый беглец,
Хинд Касыра приветила и приютила,
Он с дарами в обратный отправился путь,
Только ненависть в сердце его не остыла.
И вернулся он к Хинд, и привел караван,
Тайно в крепость проникла несметная сила.
Храбрый Амр у подземного выхода встал,
Хинд бежала, засада ей путь преградила,
Амр злосчастную встретил мечом родовым,
Вмиг от шеи ей голову сталь отделила.
Так исполнилось предначертанье судьбы,
Все в руках у нее — люди, земли, светила,
Только избранным срок продлевает судьба,
Но бессмертья еще никому не дарила.
Как бы ни был силен и богат человек,
Все исчезнет: богатство, и слава, и сила.
Аш-Шанфара Перевод А. Ревича
{4}В дорогу, сородичи!..»
В дорогу, сородичи! Вьючьте верблюдов своих.
Я вам не попутчик, мы чужды душой и делами.
Спускается ночь. Я своею дорогой уйду.
Восходит луна, и звенят скакуны удилами.
Клянусь головой, благородное сердце найдет
прибежище в мире вдали от жестоких обид,
Клянусь головою, искатель ты или беглец —
надежный приют за горами найдешь, за долами.
Я с вами родство расторгаю, теперь я сродни
пятнистым пантерам, гривастым гиенам, волкам,
Их верность и стойкость проверил в открытом бою
гонимый законом людей и отвергнутый вами.
Я сдержан в застолье, я к пище тянусь не спеша,
в то время как алчные мясо хватают, грызут,
Но звери пустынь мне уступят в отваге, когда
я меч обнажаю, свой путь устилаю телами.
Нет, я не бахвалюсь, испытана доблесть моя,
кто хочет быть лучшим, тот подлости должен бежать,
Теперь мне заменят коварных собратьев моих
три друга, которые ближних родней и желанней:
Горящее сердце, свистящий сверкающий меч
и длинный мой лук, желтоватый и гладкий от рук,
Украшенный кистью и перевязью ременной,
упругий, звенящий, покорный уверенной длани.
Когда тетива запускает в пространство стрелу,
он стонет, как лань, чей детеныш в пустыне пропал.
He стану гонять я верблюдиц на пастбище в зной,
когда их детеныши тянутся к вымени ртами.
Не стану держаться за бабий подол, как дурак,
который во всем доверяет советам жены.
Не стану, как страус, пугливо к земле припадать,
всем телом дрожа и пытаясь укрыться крылами.
Я знаю, что лень не добро нам приносит, а зло,
беспечность страшна — неприятель врасплох застает,
Не стану, как щеголь, весь день себе брови сурьмить,
весь день умащать свою плоть дорогими маслами
И мрака не стану пугаться, когда мой верблюд
собьется с дороги в песках и, чего-то страшась,
Припустит бегом по холмам, по кремнистой тропе,
зажмурив глаза, высекая копытами пламя.
Неделю могу я прожить без еды и питья,
мне голод не страшен и думать не стану о нем,
Никто не посмеет мне дать подаянье в пути,
глодать буду камни и в землю вгрызаться зубами.
Склонись я к бесчестью, теперь бы я вволю имел
еды и питья, я сидел бы на званом пиру,
Но гордое сердце бежит от соблазна и лжи,
бежит от позора, в пустыню бежит от желаний.
Я пояс потуже на брюхе своем затянул,
как ткач искушенный — на кроснах упругую нить,
Чуть свет я скачу, словно серый поджарый бирюк,
по зыбким пескам, по следам ускользающей лани,—
Чуть свет он, голодный, проносится ветру вдогон
вдоль узких ущелий и необозримых равнин,
Он воет, почуя добычу, и тут же в ответ
собратья его в тишине отзываются ранней.
Сутулые спины и морды седые снуют,
как быстрые стрелы в азартных руках игрока{5},
Волнуется стая, как рой растревоженных пчел,
когда разоряют их дом на зеленом кургане.
Оскалены зубы, отверстые пасти зверей
зловеще зияют, подобно расщепу в бревне,
Вожак завывает, и прочие вторят ему,
и вой тот печален, как загнанной серны рыданье.
Вожак умолкает, и стая свой плач прервала,
и сгрудились волки, подобно толпе горемык.
Что толку скулить? Лишь терпенье поможет в беде.
И стая умчалась, оставив следы на бархане.
Томимые жаждой, летят куропатки к воде,
всю ночь кочевали они, выбиваясь из сил,
Мы вместе отправились в путь, я совсем не спешил,
а птицы садились и переводили дыханье,
Я вижу, кружатся они над запрудой речной,
садятся, а я свою жажду давно утолил,
Они гомонят, словно несколько разных племен,
сойдясь к водопою, в едином сливаются стане,
Как будто по разным дорогам из жарких песков
пригнали сюда из различных становищ стада.
И вот уже птицы как дальний большой караван,
покинули берег и в утреннем тонут тумане.
Я наземь ложусь, я спиною прижался к земле,
костлявой спиной, где под кожей торчат позвонки,
Рука под затылком, как связка игральных костей,
легла голова на суставы, на острые грани.
За мною охотятся злоба, предательство, месть,
ведут они спор, чьей добычею должен я стать,
Во сне окружают, пытаясь врасплох захватить,
в пути стерегут, предвкушая победу заране.
Сильней лихорадки терзают заботы меня,
ни дня не дают мне покоя, идут по пятам,
Я их отгоняю, но вновь нападают они,
от них ни в песках не укрыться и ни за горами.
Ты видишь, я гол и разут, я сегодня похож
на ящерку жалкую под беспощадным лучом,
Терпенье, как плащ, на бестрепетном сердце моем,
ступаю по зною обутыми в стойкость ногами.
Живу то в нужде, то в достатке. Бывает богат
лишь тот, кто пронырлив и благоразумен в делах.
Нужды не страшусь я, случайной наживе не рад,
спущу все дотла, — что грустить о потерянном хламе?
Страстями не сломлена невозмутимость моя,
никто в суесловье не может меня упрекнуть.
Ненастною ночью, когда зверолов для костра
ломает и стрелы и лук, чтобы выкормить пламя,
Я шел по безлюдным равнинам под всхлипы дождя,
сквозь ветер и холод, сквозь плотную черную тьму,
Я крался к становищам, множил я вдов и сирот
и снова бесшумными в ночь возвращался шагами.
Чуть свет в Гумейса{6} толковали одни обо мне,
другие твердили, что выли собаки во тьме,
Что это, быть может, шакал приходил или волк,
быть может, гиена гуляла в песках за шатрами,
Что псы успокоились и что, видать по всему,
какая-то птица во сне потревожила их.
А может быть, это был джинн? Ну какой человек
следов не оставит своих, пробираясь песками?
Нередко в полуденный зной, когда воздух дрожит,
плывет паутина и змеи ныряют в песок,
Под яростным солнцем шагал я с открытым лицом,
тряпье, лоскуты полосатой заношенной ткани
Накинув на плечи. А ветер горячий трепал
отросшие космы волос непокрытых моих,
Немытых, нечесаных, неумащенных волос,
которые слиплись и жесткими сбились комками.
Немало пустынь, беспредельных и гладких, как щит,
своими ногами прилежными я пересек,
Взобравшись на кручу, с вершины скалистой горы
я даль озирал, неподвижный, немой, словно камень.
И рыжие козы, как девушки в длинных плащах,
бродили вокруг, беззаботно щипали траву,
Под вечер они подходили без страха ко мне,
как будто я их предводитель с кривыми рогами.
Тааббата Шарран Перевод Н. Стефановича
{7}"Не выстоишь, падешь, преград не поборов…»
Не выстоишь, падешь, преград не поборов,
Когда не станешь сам хитрей своих врагов.
Но если ты готов к опасностям заране,—
Ты сможешь победить любое испытанье.
Пусть злобные враги бесчисленны, и все ж
Ты выход и тогда спасительный найдешь.
Я загнан был, как зверь, попавшийся в капкан,
Но я сказал врагам из племени лихьян:
«Вы черной гибели желаете взамен,
Как милость, предложить позорный, вечный плен?»
Мех с медом разорвав, чтоб от врагов спастись,
Я соскользнул легко с горы отвесной вниз.
Был смелый мой побег стремителен, внезапен,
Я даже избежал ушибов и царапин.
Ушел от смерти я, от самых страшных бед,—
И в изумленье смерть глядела мне вослед.
Так часто от врагов спасаюсь, невредим,
Их в ярость приводя бесстрашием своим.
«Кто расскажет людям в назиданье…»
Кто расскажет людям в назиданье,
С кем я встретился в Раха Битане?
С той, что злобным демоном была,
Что, как меч, пронзала, как стрела.
Я сказал: «Скитанья и тревоги —
Наш удел. Уйди с моей дороги».
И пришлось ей в сумраке ночном
Повстречаться с йеменским мечом.
Этот меч отточен был недаром,—
Он ее одним сразил ударом.
Вскрикнула она в последний раз.
Я сказал: «Лежи, не шевелясь!»
До зари прождал я, до рассвета,
Чтобы разглядеть созданье это.
Дикий образ предо мной возник:
Высунут раздвоенный язык,
Ноги верблюжонка, взор незрячий,
Тело пса и голова кошачья…
«Друга и брата любимого я воспою…»
Друга и брата любимого я воспою —
Шамсу ибн Малику{8} песнь посвящаю мою.
Гордость моя: с ним всегда совещаются люди,
Гордость его, что я лихо держусь на верблюде…
К трудностям он и к лишеньям привык постоянным,
Вечно скитаясь по дальним, неведомым странам.
В мертвых пустынях, где только песок и гранит,
Грозным опасностям сам же навстречу спешит.
Он обгоняет гонцов урагана в дороге —
Вихря быстрее летит его конь быстроногий.
Если порой ему веки смежает дремота —
Сердце не спит, словно ждет постоянно чего-то.
Цели отчетливы, глаз безошибочно точен.
Крепкий, старинный клинок не напрасно отточен:
Меч обнажит — и враги уцелеют едва ли.
Смерть усмехается, зубы от радости скаля…
Вечно один, оставаться не любит на месте —
Бродит по миру, ведомый сверканьем созвездий.
«Сулейма всем твердит насмешливо о том…»
Сулейма всем твердит насмешливо о том,
Что Сабит одряхлел, стал ветхим стариком.
Иль видела она, что обессилен Сабит,
Что прячется, как трус, когда враги кругом?
Быть может, видела, что он дрожит от страха,
Когда с воинственным сражается врагом?
Но нет — без всадников обратно скачут кони,
В пыли валяются сидевшие верхом!..
Люблю, как женщина в накидку меховую,
Во тьму закутаться в безлюдии ночном,
Пока не изорвет заря одежды ночи,
Пока повсюду мрак и все объято сном.
И забываюсь я в моем уединенье,
Обласкан и согрет пылающим костром.
И только пробудясь, вдруг вижу, потрясенный,
Что с черным демоном я ночь провел вдвоем…
«Не пара он тебе, — ей вся родня внушала…»
«Не пара он тебе, — ей вся родня внушала,—
Ведь завтра же его сразит удар кинжала».
И нам не довелось соединить сердца —
Ей страшно было стать вдовою храбреца,
Решила, что любви и счастья недостоин
К врагам безжалостный, лихой и смелый воин,
Кто племенем любим, кто обнажает меч —
И головы врагов летят на землю с плеч,
Кто жадности лишен ненужной и недоброй,
Чья кожа смуглая обтягивает ребра.
Ночует иногда он в логове зверей,
Чтоб утром сделать их добычею своей.
От меткости его не убежать газели.
Его и хитростью враги не одолели.
Кто будет доверять врагам коварным, тот
В бою решающем, поверженный, падет.
И звери, чувствуя, как он неустрашим,
Всегда гордились бы товарищем таким.
Становится еще смелее и упрямей,
Когда один в степи он окружен врагами.
Но смерть не обмануть, — когда-нибудь и я
Сверканье вечного увижу острия…
«Пусть он пал в долине горной Сала…»
Пусть он пал в долине горной Сала,—
Кровь героя даром не пропала.
Пусть ушел, расстался вдруг со всеми,
Но на мне его осталось бремя.
И сестры его любимый сын
Это бремя понесет один.
Я поник, застыл, оцепенев,
Но не страх во мне, а грозный гнев.
Злая весть затмила, прервала
Все иные мысли и дела.
Лишь его воинственная сила
Нас от бед спасала и хранила.
В стужу согревал, как солнце, нас,
В летний зной прохладой становясь.
Всем владея, тонок был и строен —
Щедрый человек и храбрый воин.
Лишь его спокойное бесстрашье
Защищало все кочевья наши.
Был как дождь для нивы, но, как лев
На врагов бросался, озверев.
Он любил наряд из пышной ткани.
Барсом грозным был на поле брани.
Горек одному, он для другого
Становился сладостью медовой.
Воевал и странствовал вдвоем
Только с крепким йеменским мечом.
Многие из нас ушли в ту ночь —
Тем, кто не вернулся, не помочь…
Прошлым стали, тенью незабвенной,
Словно отблеск молнии мгновенной.
Каждый был из павших отомщен:
Не щадили вражьих мы племен.
Недруги лежали в забытьи,—
Никому не удалось уйти.
Их сломило крепкое оружье.
На колени стали по-верблюжьи,—
Долго им не встать теперь с колен,
Ждет их казнь или позорный плен.
Дышат злом, разбоем не пресытясь,
Но сломит врагов отважный витязь.
Сколько раз копья стальное жало
Жажду мщенья кровью утоляло.
Прежде запрещалось пить вино,
Но теперь мы выпьем — все равно…
Напои же нас вином, Савад,
Чаши полные нас подбодрят.
Пусть хохочут жадные гиены,
Пусть терзают волки прах презренный,
Коршун старый, всякий хищный зверь —
Пусть они насытятся теперь.
«Погиб мой бедный сын…»
Погиб мой бедный сын, но как, в какой стране?
О, если б рассказать могли об этом мне!
Сумел ли враг сплести коварных козней сеть
Или недуга сын не смог преодолеть?
Смерть всюду стережет того, кто тверд и смел,
А он, чего желал, всем овладеть сумел.
Он в жизни так легко преграды превозмог…
Но все кончается, когда наступит срок.
Чем горе утолю? Могильный страшен гнет —
Ответа никогда оттуда не придет.
Покинуть не дано ему загробный плен…
О смерть, верни его — меня возьми взамен.
Имруулькайс
{9}«Спешимся здесь…» Перевод А. Ревича
Спешимся здесь, постоим над золою в печали,
В этих просторах недавно еще кочевали
Братья любимой, и след их былого жилья
Ветры вдоль дола песчаного не разбросали.
Мелкий, как перец, осыпал помет антилоп
Травы прибрежного луга, пустынные дали.
В час расставания слезы катились из глаз,
Словно мне дыни зеленой попробовать дали.
Спутники мне говорили: «Зачем так страдать?
Ты ведь мужчина, и слезы тебе не пристали».
Но у развалин мы разве надежду найдем?
Но облегченье от боли дает не слеза ли?
Помнится: Умм аль-Хувейрис ушла — я рыдал,
Также и Умм ар-Рабаб я оплакал в Масале.
Дикой гвоздикою дышит чуть свет ветерок,
Мускусом, помню, красавицы благоухали.
Слезы текут мне на грудь, не могу их сдержать,
Перевязь всю пропитали, блестят на кинжале.
Я вспоминаю сегодня счастливейший день,
Помнится, мы к Дарат Джульджуль{10} тогда подъезжали,
Там для красавиц верблюдицу я заколол,
После чего их самих оседлал на привале.
Двинулись в путь — потеснил я Унейзу, залез
К ней в паланкин, мы с верблюда едва не упали,
И закричала: «Что делаешь, Имруулькайс!
Ношу двойную верблюд мой осилит едва ли!»
Я отвечал ей: «Покрепче поводья держи!
Дай поцелую тебя, и забудем печали!»
Часто к возлюбленной я приходил в темноте,
Даже к беременной я пробирался ночами,
Юную мать целовал я в то время, когда
Плакал младенец грудной у нее за плечами.
Только однажды красотка отвергла меня —
Там, на песчаном холме, обожженном лучами.
Фатима, сжалься! Неужто покинешь меня?
Ласковей будь! Мне твое нестерпимо молчанье.
Лучше уж сердце мое от себя оторви,
Если не любишь и неотвратимо прощанье!
Мукой моею тщеславие тешишь свое,
Сердце твое на замке, ты владеешь ключами.
Ранишь слезами разбитое сердце мое,
Слезы острее, чем длинные стрелы в колчане.
Часто к возлюбленной я пробирался в шатер,
Полз мимо воинов, вооруженных мечами.
Стража и родичи, подстерегая меня,
В страхе молчали, а может быть, не замечали.
Помнится, — четками из разноцветных камней
Звезды Стожар над моей головою мерцали.
Вполз я к любимой за полог, она перед сном
Платье сняла и стояла в одном покрывале.
И зашептала: «Что надо тебе, отвечай?
Богом молю, уходи, чтобы нас не застали!»
Вышел я вон, и она поспешила за мной,
Шла, волочились одежды и след заметали.
Стойбище мы миновали, ушли за холмы
И очутились в ложбине, как в темном провале.
Нежные щеки ласкал я, прижалась она
Грудью ко мне, и браслеты ее забряцали.
Тело возлюбленной легкое, кожа, как шелк,
Грудь ее светлая, как серебро на зерцале.
Как описать несравненную девичью стать?
Стати такой вы нигде на земле не встречали!
Словно газель, за которой бежит сосунок,
Юное диво пугливо поводит очами
И озирается, словно газель, изогнув
Длинную шею, увешанную жемчугами.
А завитки смоляные на гладком виске
Ветви подобны густой, отягченной плодами.
Пышные косы закручены на голове,
Переплетаются косы тугими жгутами.
Стан у прелестницы гибкий, упругий, как хлыст,
Стройные стебли с ее не сравнятся ногами.
Нежится дева на ложе своем поутру,
Мускусом благоухает оно и цветами.
Руку протянет красотка — увенчана длань
Тонкими, как молодые побеги, перстами.
Лик ее светится, так озаряет во тьме
Келью монаха лампады дрожащее пламя.
Это на ложе простертое полудитя
Даже в суровом аскете разбудит желанье.
Смуглая кожа, как страусово яйцо,
Нежная, словно омыта в целительной бане.
Люди с годами трезвеют, а я не могу
Страсть превозмочь и поныне живу, как в тумане.
Скольких ретивых соперников я одолел,
Сколько оставил советов благих без вниманья!
Тьма с головой накрывала меня по ночам
Черной волной и готовила мне испытанья.
И припадала к земле, растянувшись, как зверь,
Длилась как будто с начала времен до скончанья.
Я говорил ей: «Рассейся! Рассвет недалек.
Хватит с тебя и того, что царишь ты ночами!»
Тьма не уходит. Мне кажется: звезды небес
К Язбуль-горе приторочены крепко лучами.
Даже Стожары взошли и недвижно стоят,
К скалам привязаны, словно ладьи на причале.
Утро встречаю, когда еще птиц не слыхать,
Лих мой скакун, даже ветры бы нас не догнали,
Смел он в атаке, уйдет от погони любой,
Скор, как валун, устремившийся с гор при обвале.
Длинная грива струится по шее гнедой,
Словно потоки дождя на скалистом увале.
О, как раскатисто ржет мой ретивый скакун,
Так закипает вода в котелке на мангале.
Прочие кони берут, спотыкаясь, подъем,
Мой же, как птица, летит на любом перевале.
Легкий наездник не сможет на нем усидеть,
Грузный и сесть на него согласится едва ли.
Кружится детский волчок, как стремительный смерч,—
Самые быстрые смерчи меня не догнали.
Волчья побежка и поступь лисы у него,
Стать антилопы и мышцы, подобные стали.
С крепкого крупа вдоль бедер до самой земли
Хвост шелковистый струится, как пряжа густая.
Снимешь седло — отшлифован, как жернов, хребет,
Как умащенная, шерстка лоснится гнедая.
Кровью пронзенной газели, как жидкою хной,
Вижу, окрашена грудь аргамака крутая.
Девушкам в черных накидках подобны стада
Черно-чепрачных газелей пустынного края.
Эти газели, как шарики порванных бус,
Вмиг рассыпаются, в страхе от нас убегая.
Задних мой конь обскакал, рвется он к вожаку,
Мечется стадо, как птиц всполошенная стая,
Мы без труда обгоняем степных антилоп,
В бешеной скачке одну за другой настигая.
Взора нельзя от коня моего оторвать,
Смотришь с любой стороны — красота колдовская!
Я на привале седла не снимаю с коня,
Ночью лежу, с быстроногого глаз не спуская.
Друг мой, ты вспышку заметил? Мгновенно, как взмах,
Туча ощерилась, молния блещет в оскале.
Может быть, это отшельники лампу зажгли,
Вспыхнул фитиль, только масло, видать, расплескали?
Между Узейбом и Дариджем сделав привал,
Вдаль мы глядели, где молнии в тучах сверкали,
Видели мы над Сатаром и Язбулем дождь,
Так же над Катаном дождь затуманивал дали.
А над Кутайфою дождь зарядил поутру,
Все затопило — терновник и ветки азалий,
Краешком туча задела вершину Капан,
Серны с лугов под укрытие скал поскакали.
Все до единой повалены пальмы в Тейма,
Только на кручах строения не пострадали.
Сабир-гора, словно шейх в полосатом плаще,
Гордо стояла в густом дождевом покрывале.
Утром казалось: холмы — как ряды веретен;
Их обмотав буреломом, потоки стекали.
Волны свой груз уносили в низины, в пески,
Мерно качались они, как верблюды с тюками.
Птицы так весело пели, как будто с утра
Пили вино, а не влагу, застывшую в яме.
Трупы животных вечерний усеяли дол,
Словно растенья, что вырваны вместе с корнями.
«Узнал я сегодня…» Перевод Н. Стефановича
Узнал я сегодня так много печали и зла —
Я вспомнил о милой, о той, что навеки ушла.
Сулейма сказала: «В разлуке суровой и длинной
Ты стал стариком — голова совершенно бела.
Теперь с бахромой я сравнила бы эти седины,
Что серыми клочьями мрачно свисают с чела…»
А прежде когда-то мне гор покорялись вершины,
Доступные только могучей отваге орла.
«Предчувствуя, что наш конец…» Перевод Н. Стефановича
Предчувствуя, что наш конец неотвратим,
Предаться похоти и пьянству мы спешим.
Волкам подобны мы — но злее и упрямей,—
И насекомыми бываем, и червями…
Довольно, может быть, хулы, укоров, брани?
Я тоже не лишен ни опыта, ни знаний.
С корнями всей земли мои сплетались жилы,
Но смерть меня везде недаром сторожила:
Похитить молодость она уже сумела,
И скоро в вечной тьме мое исчезнет тело…
Я много воевал и странствовал, и я же
Верблюдов вел в степи, где двигались миражи.
А разве за врагом я не стремился вслед
По верному пути успехов и побед?
Не я ль завоевал и славу и величье?
Могла бы вся земля моею стать добычей.
И вот стремлюсь теперь к добыче лишь одной
И жажду одного: вернуться в край родной.
«Я, словно девушку…» Перевод Н. Стефановича
Я, словно девушку и светлую весну,
Когда-то прославлял кровавую войну.
Но ужас я познал теперь ее господства —
О, ведьма старая, что держит всех в плену,
Что хочет нравиться и скрыть свое уродство,
И отвратительную прячет седину…
«И снова дождь!..» Перевод Н. Стефановича
И снова дождь! Опять, стекая с крыш,
Ты монотонно каплями стучишь.
И ящерица ловкая сквозь грязь
Легко скользит, куда-то торопясь.
Чехлом дождя деревья все накрыты,
Как головы отрубленные чьи-то.
Струится дождь, уныл и непрерывен,
И, наконец, свирепый хлынул ливень.
С востока налетел внезапный шквал,
И ветер южный вдруг забушевал.
Но, гнев излив и душу отведя,
Стал затихать — и нет уже дождя.
«Мой ум созвучьем рифм…» Перевод Н. Стефановича
Мой ум созвучьем рифм излишне перегружен,
Их рой, как саранча, назойлив и ненужен.
Ты гонишь саранчу, которой окружен,
Однако кое-что возьмешь себе на ужин…
Так камни тусклых рифм выбрасывая вон,
Бесценных несколько я отберу жемчужин.
«Поплачем над прежней любовью…» Перевод Н. Стефановича
{11}Поплачем над прежней любовью, над старым жилищем,
Хотя и обломков его мы уже не отыщем.
Далекие дни, погребенные в этих руинах,—
Как стертые буквы молитвы на свитках старинных.
Мне вспомнилось племя, и в сердце опять зазвучали
Тяжелые стоны моей бесконечной печали.
Молчанье хранил я, и только потоками слез
Безгласное горе внезапно на плащ пролилось.
Лишь тот удержать не умеет болтливый язык,
Кто сердцем своим и страстями владеть не привык.
Смотри, я качаюсь в седле, и больной, и бессильный,
По ветру уже развевается саван могильный…
К попавшим в беду я на помощь спешил неизменно,
И сколько несчастных я спас от оков и от плена.
А сколько с друзьями, пьянея от терпкого хмеля,
Узнали мы в жизни восторгов, любви и веселья.
Легко сквозь пустыни, где пыль ураганы метут,
Меня проносил быстроногий и сильный верблюд.
А сколько изъездил долин я цветущих и нив,
И тучи летели, их зелень дождем окропив.
Мой конь, неизменный в скитаньях, в походах, в бою,—
Умел он заране угадывать волю мою.
Стремительным бегом он даже газель превзошел,
Которую грозно преследует жадный орел.
Бывал я в пустынях, подобных долине Химара{12},
Которую в гневе спалила небесная кара.
Мой конь был — как ветка, всегда устремленная ввысь,—
Без удержу мы, обгоняя верблюдов, неслись.
Я вел мое войско, я верил, что с нашим оружьем
Коварных врагов мы и в их крепостях обнаружим.
Я вел мое войско все тверже и все непреклонней,
Пока не устали верблюды и крепкие кони.
Пока не увидел, что конь вороной недвижим
И коршунов стая уже закружилась над ним…
«В этих землях не внемлют…» Перевод Н. Стефановича
В этих землях не внемлют призывам моим —
Или я разговаривал с глухонемым?
Разве здесь не друзья мои? Разве не тут
Я всегда находил и ночлег и приют?
Так любовно и радостно так не меня ли
Здесь когда-то в шатрах дорогих принимали?
Я беспомощен — или не видите вы,
Что уже я не в силах поднять головы?
И боюсь, погружаясь в кромешную бездну,
Что в беспамятстве черном навеки исчезну…
А когда-то несчастных, врага поборов,
Я от смерти спасал, от беды и оков.
А когда-то, успехом и славой увенчан,
Я любил полногрудых и ласковых женщин.
И блаженство я с ними познал в изобильи.
Как стремились ко мне, как на зов мой спешили!
Но я знаю, что друга не жалко им бросить,
Если друг обнищал и в кудрях его проседь…
Как бурлила отважная молодость в жилах,
А теперь я ни встать, ни одеться не в силах.
Если б сразу из плоти мне вырваться тленной,
Но душа покидает меня постепенно.
И здоровье мое, и успех постоянный
Заменили внезапно кровавые раны.
Ждет чего-то, кто беден, кто стар и кто сед,—
Лишь из мрака загробного выхода нет.
«Предателем судьбу я называл не зря…» Перевод Н. Стефановича
Предателем судьбу я называл не зря,—
Повсюду рыскает, лишь подлости творя.
Она разрушила и царство Зу-Рияша{13},
Владенья йеменского славного царя.
Она безжалостно людей к востоку гонит,
Все хочет истребить — и земли и моря,
Воздвигла груды гор пред Гогой и Магогой{14},
Чтоб к свету путь закрыть, когда взойдет заря.
«О, если б вы родным…» Перевод Н. Стефановича
О, если б вы родным пересказать могли б,
Как на чужбине я, покинутый, погиб,
Как тяжко я страдал и мучился вдали
От дома своего и от родной земли!
На родине легко я умирал бы, зная,
Что неизбежно жизнь кончается земная,
Что даже из царей не вечен ни один,
И только смерть одна — всевластный властелин.
Но страшно погибать от грозного недуга,
Когда ни близких нет, ни преданного друга.
О, если бы, друзья, мне раньше встретить вас!
Тогда покинутым я не был бы сейчас…
«Нам быть соседями…» Перевод Н. Стефановича
Нам быть соседями — друзьями стать могли б:
Мне тоже здесь лежать, пока стоит Асиб{15}.
Я в мире одинок, как ты — во мраке гроба…
Соседка милая, мы здесь чужие оба.
Друг друга мы поймем, сердца соединим,—
Но вдруг и для тебя останусь я чужим?
Соседка, не вернуть промчавшееся мимо,
И надвигается конец неотвратимо.
Всю землю родиной считает человек —
Изгнанник только тот, кто в ней зарыт навек.
«Нет, больше не могу…» Перевод Н. Стефановича
Нет, больше не могу, терпенье истощилось.
В душе моей тоска и горькая унылость.
Бессмысленные дни, безрадостные ночи,
А счастье — что еще случайней и короче?
О край, где был укрыт я от беды и бури,—
Те ночи у пруда прекрасней, чем в Укури.
У нежных девушек вино я утром пью,—
Но разве не они сгубили жизнь мою?
И все ж от влажных губ никак не оторвусь —
В них терпкого вина неповторимый вкус.
О, этот аромат медовый, горьковатый!
О, стройность антилоп, величье древних статуй!
Как будто ветерка дыханье молодое
Внезапно принесло душистый дым алоэ.
Как будто пряное я пью вино из чаши,
Что из далеких стран привозят в земли наши.
Но в чаше я с водой вино свое смешал,
С потоком, что течет с крутых, высоких скал,
Со струями дождя, с ничем не замутненной
Прозрачной влагою, душистой и студеной.
«Прохладу уст ее…» Перевод Н. Стефановича
Прохладу уст ее, жемчужин светлый ряд,
Овеял диких трав и меда аромат —
Так ночь весенняя порой благоухает,
Когда на небесах узоры звезд горят…
«Друзья, мимо дома прекрасной Умм Джундаб…» Перевод А. Ревича
{16}Друзья, мимо дома прекрасной Умм Джундаб пройдем,
Молю — утолите страдание в сердце моем.
Ну, сделайте милость, немного меня обождите,
И час проведу я с прекрасной Умм Джундаб вдвоем.
Вы знаете сами, не надобно ей благовоний,
К жилью приближаясь, ее аромат узнаем.
Она всех красавиц затмила и ласкова нравом…
Вы знаете сами, к чему толковать вам о нем?
Когда же увижу ее? Если б знать мне в разлуке
О том, что верна, что о суягном помнит своем!
Быть может, Умм Джундаб наслушалась вздорных наветов
И нашу любовь мы уже никогда не вернем?
Испытано мною, что значит с ней год не встречаться:
Расстанься на месяц — и то пожалеешь потом.
Она мне сказала: «Ну чем ты еще недоволен?
Ведь я, не переча, тебе потакаю во всем».
Себе говорю я: ты видишь цепочку верблюдов,
Идущих меж скалами йеменским горным путем?
Сидят в паланкинах красавицы в алых одеждах,
Их плечи прикрыты зеленым, как пальма, плащом.
Ты видишь те два каравана в долине близ Мекки?
Другому отсюда их не различить нипочем.
К оазису первый свернул, а второй устремился
К нагорию Кабкаб, а дальше уже окоем.
Из глаз моих слезы текут, так вода из колодца
По желобу льется, по камню струится ручьем.
А ведь предо мной никогда не бахвалился слабый,
Не мог побежденный ко мне прикоснуться мечом.
Влюбленному весть принесет о далекой любимой
Лишь странник бывалый, кочующий ночью и днем
На белой верблюдице, схожей и цветом, и нравом,
И резвостью ног с молодым белошерстым ослом,
Пустынником диким, который вопит на рассвете,
Совсем как певец, голосящий вовсю под хмельком.
Она, словно вольный осел, в глухомани пасется,
Потом к водопою бежит без тропы напролом
Туда, где долина цветет, где высоки деревья,
Где скот не пасут, где легко повстречаться с врагом.
Испытанный странник пускается в путь до рассвета,
Когда еще росы блестят на ковре луговом.
«Мир вам, останки жилища!..» Перевод А. Ревича
Мир вам, останки жилища! Но разве знавали
Мир нежилые развалины с пеплом в мангале?
Мир только там, где, не ведая горя, живут,
Там, где не знают бессонницы, страха, печали.
Где оно, счастье, когда после радостных дней
Месяцы, долгие, словно века, миновали?
Сальма жила здесь когда-то. С тех пор пролилось
Много дождей на пустое жилище в Зу Хале.
Помню, как Сальма глядела на эти поля,
За антилопой следя, убегающей в дали.
Мнится, что в Вади аль-Хузаме встретимся вновь
Или в Рас Авале, где мы порой кочевали.
Помню, блестели ночами зубов жемчуга,
Шею газели моей жемчуга обвивали.
Ты говоришь мне, Басбаса, что я постарел,
Что для любовной утехи пригоден едва ли?
Лжешь! Чью угодно жену я могу обольстить,
Но на мою никогда еще не посягали.
Ночью и днем обнимал я подругу свою
С телом прекрасным, как будто его изваяли,
С ликом, сияющим ночью на ложе любви,
Словно дрожащий огонь в золоченом шандале.
Твердые груди ее, словно две головни,
Жаром дыша, под моею рукою пылали.
Нежными были ланиты ее, как твои.
Встав, мы одежду на ложе порой забывали.
Мне уступала она без отказа, когда
С плоти ее мои руки одежду срывали.
Я подобрался к шатру, когда звезды зажглись,
Словно огни путевые в полуночной дали.
Как подымаются в чистой воде пузырьки,
Люди в жилище один за другим засыпали.
Сальма сказала: «Проклятый! Погубишь меня!
Рядом родные и стража. Мы оба пропали!»
Я отвечал ей: «Всевышним клянусь! Не уйду!
Пусть меня рубят мечами из кованой стали!»
Стал лицемерно ее успокаивать я:
«Тихо вокруг, даже стражники все задремали».
И снизошла и обнять разрешила свой стан —
Тонкую ветвь, на которой плоды созревали.
С ней мы поладили, шепот наш ласковым стал,
И покорилась, хотя упиралась вначале.
Так мы сошлись. Но ее ненавистный супруг
Что-то заметил, хоть прочно не замечали,
Стал он хрипеть, как верблюд, угодивший в петлю,
Стал мне грозить, но таких храбрецов мы встречали.
Что мне бояться? И спать я ложусь при мече,
Синие стрелы всегда под рукою в колчане,
Их острия, словно зубы ифрита{19}, остры,
Недруг мой слаб. Не смутить нас пустыми речами.
Жалкий бахвал ни мечом не владел, ни копьем.
Сальма постигла бесплодность его причитаний
И поняла, что супруг ее трус и болтун,
Сердце ей страсть затопила, я стал ей желанней,
Раны верблюдицы так затопляет смола.
Где вы, прекрасные девы из воспоминаний?
Вы — как ручные газели в покоях дворца.
К белым шатрам я не раз приближался в тумане,
Девушек, негой охваченных, там заставал,
Были они пышногрудые, тонкие в стане.
Их красота и достойных сбивала с пути,
Многих сгубили они, эти нежные лани.
В страхе иных я отверг, а ведь были всегда
По сердцу мне и любви моей часто желали!
Разве, любовью влеком, не седлал я коня,
Трепетных дев не ласкал, чьи браслеты бряцали?
Разве в сражении не ободрял я друзей,
Целый бурдюк не высасывал в винном подвале?
Разве не мчался я на сухопаром коне,
Разве за мною в набег удальцы не скакали?
Ранней порою, когда еще птиц не слыхать,
Только дождинки и росы на травах сверкали,
Мы появлялись на пастбищах наших врагов,
Копья нам путь к этим влажным лугам преграждали,
Конь подо мной мускулистый, поджарый, гнедой,
Крепкий, как ткацкий станок, словно отлит в металле.
Мы антилоп всполошили, чьи гладки бока,
А через бедра полоски, как на покрывале.
Издали стадо — совсем как табун лошадей,
Спины в подпалинах, как чепраки, замелькали.
Коротконосый, рогатый вожак впереди,
Длинный хребет — как струна. То летит не стрела ли?
Вскачь я пустил своего скакуна. Догоняй!
И антилопы одна за другою отстали.
Кажется мне: но коня оседлал я — орла,
Кажется: крылья широкие тень распластали.
Кролика в Неджде орел на заре закогтит,
Если с лисицей не встретится в авральской дали.
Птичьи сердца высыхают в орлином гнезде,
С виду они как сушеные финики стали.
Если б желал я покоя, молил бы богов,
Чтобы они мне немножечко денег послали.
Но ведь стремлюсь я к иному: мне славу подай!
Я ведь из тех, кто с рожденья мечтает о славе.
Душу живую несчастия не сокрушат,
В лучшее верит она и надеяться вправе.
«Слезы льются по равнинам щек…» Перевод А. Ревича
Слезы льются по равнинам щек,
Словно не глаза — речной исток,
Ключ подземный, осененный пальмой,
Руслом прорезающий песок.
Лейла, Лейла! Где она сегодня?
Ну какой в мечтах бесплодных прок?
По земле безжизненной скитаюсь,
По пескам кочую без дорог.
Мой верблюд, мой спутник неизменный,
Жилист, крутогорб и быстроног.
Как джейран, пасущийся под древом,
Волен мой верблюд и одинок.
Он, подобно горестной газели,
У которой сгинул сосунок,
Мчится вдаль, тропы не разбирая,
Так бежит, что не увидишь ног.
Не одну пустынную долину
Я с тревогой в сердце пересек!
Орошал их ливень плодоносный,
Заливал узорчатый поток.
В поводу веду я кобылицу,
Ветер бы догнать ее не мог,
С нею не сравнится даже ворон,
Чей полет стремительный высок,
Ворон, что несет в железном клюве
Для птенца голодного кусок.
«Чьи огнища остались…» Перевод А. Ревича
Чьи огнища остались на этой поляне,
Вроде йеменских букв на листке или ткани?
Тут стояли шатры Хинд, Рабаб и Фартаны…
Сколько сладких ночей я провел в Бадалане.
Я любви отвечал в эти ночи любовью,
Взгляд влюбленный встречал и хмелел от желаний
Я горюю теперь, а когда-то рабыни
Слух мой пеньем ласкали, их нежные длани
Струн певучих касались, и струны звучали,
Как булаты, звенящие на поле брани.
Я судьбою сражен, а ведь прежде был стойким,
Не страшился ни смерти, ни бед, ни страданий.
Я горюю, а сколько земель я проехал
На коне крепкогрудом дорогой скитаний!
Смертный! Радуйся жизни, хмелей от напитка
И от женщин, прекрасных, как белые лани,
С тонким станом и с длинною шеей газельей,
В украшеньях, блестящих из-под одеяний.
Ну к чему из-за девушки иноплеменной
Плачешь ты, содрогаешься весь от рыданий?
Эти слезы — весенние краткие грозы,
Ливни летние, проливни осенью ранней.
«Расстался я с юностью…» Перевод А. Ревича
Расстался я с юностью, но соблюдаю по-прежнему
Четыре завета, вся жизнь без которых бедна.
И вот за столом умоляю своих сотрапезников:
«Тащите скорей бурдюки золотого вина!»
И вот я скачу на коне среди храбрых наездников
За стадом газелей. Из них не уйдет ни одна.
И вот мой верблюд устремился в пустыню полночную,
Во мрак непроглядный, где даже луна не видна,
Песет седока на свиданье к далекому стойбищу,
Чтоб тот утолил неуемную жажду сполна.
И вот, наконец, я дышу ароматом красавицы,
Я вижу, она над младенцем своим склонена.
Я жду в нетерпенье, малыш голосит, надрывается,
В смятенье ребенка к себе прижимает она.
Я весть ей послал с осторожностью, чтобы не вскрикнула.
Бледнели созвездья, царила кругом тишина.
Во мраке пугливо прокралась подруга прекрасная,
Пришла, молодыми рабынями окружена,
Четыре служанки вели ее медленно под руки,
Покуда хозяйка совсем не очнулась от сна.
Одежды с нее я совлек, и она мне промолвила:
«Приходом твоим черноокая устрашена.
Позвать меня ночью никто бы другой не осмелился,
Но ведь от тебя я укрытья искать не вольна».
Руками меня оттолкнуть недотрога пытается
И скрыть наготу под узорным куском полотна,
И вдруг прижимается к сердцу пришельца отважного,
От страха и страсти всем телом дрожит, как струна.
«Меткий лучник из Бану Суаль…» Перевод А. Ревича
Меткий лучник из бану суаль{20}
Край бурнуса откинет, бывало,
Лук упругий натянет, и вмиг
Тетива, как струна, застонала.
Сколько раз он в засаде следил
За газелью, ступавшей устало
К водопою по узкой тропе,
И стрела антилопу пронзала,
И мелькала в полете стрела —
Так летят угольки из мангала.
У стрелы были перья орла
И о камень отточено жало.
Старый ловчий без промаха бил,
Лань, сраженная им, не вставала.
Лишь охота кормила его,
Был он крепок, хоть прожил немало.
Верный спутник мой! Слез я не лил
В час, когда тебя, друг мой, не стало.
В зной жестокий лишь после тебя
Пил я воду прозрачней кристалла.
Брат мой! Светом ты был для меня.
Ярко так и луна не блистала!
«Молю тебя, Мавия…» Перевод А. Ревича
Молю тебя, Мавия, дай мне скорее ответ:
Могу ли на встречу надеяться я или нет?
Утрата надежды нам отдых сулит от сомнений,
Устала душа, ведь немало ей выпало бед.
Скачу на коне, он пуглив, как осел одичавший,
Который вдоль пастбищ проносится ветрам вослед,
Который, насытившись, роет ложбину копытом,
Чтоб лечь с наступлением тьмы и проснуться чуть свет.
Он логово роет копытом, как роют колодец
В зыбучем песке, что полуденным солнцем нагрет.
На черный свой бок он ложится, как воин плененный,
Который от холода жмется, разут и раздет.
Курится бархан, как шатер, где справляют веселье,
Под склоном ночует осел и встречает рассвет.
Голодных свирепых собак из соседних становищ
К ночлегу осла на восходе привлек его след.
Глаза у овчарок горят, наливаются кровью,
Голодные псы предвкушают обильный обед.
И мчится осел, осыпает он хищников пылью,
И сам он, как уголь, золою подернутый, сед.
Он понял: сегодня ему не уйти от погони,
Что стая настигла его и спасения нет.
И рвут его кожу собаки. Так дети срывают
Тряпье с пилигрима, чтоб сделать себе амулет.
Овчарки осла утащили в колючий кустарник,
Оставили клочья от шкуры да голый скелет.
Тарафа Перевод А. Ревича
{21}«В песчаной долине следы пепелищ уцелели…»
В песчаной долине следы пепелищ уцелели
И кажутся издали татуировкой на теле.
С верблюдов сойдя, мне сказали собратья мои:
«Что зря горевать? Докажи свою стойкость на деле!»
Я вспомнил о племени малик, ушедшем в простор,
В степи паланкины, как в море ветрила, белели.
Казалось: Ибн Ямин{22} плывет на своем корабле,
То движется прямо, то скалы обходит и мели.
Корабль рассекает волну. Так, играя в «фияль»{23},
Рукой рассекают песок, чтоб добраться до цели.
Краса черноокая в стойбище дальнем живет,
На шее высокой горят жемчуга ожерелий,
Косится испуганно дева, как в поле газель,
И шея изогнута трепетно, как у газели.
Когда улыбается девушка, зубы блестят,
Как будто мы лилию среди барханов узрели.
Горят позолотою зубы в полдневных лучах,
А десны красавицы, как от сурьмы, потемнели.
Лицо ее светится. Кажется: солнце само
Покров ей соткало из яркой своей канители.
Терзаемый думой, седлаю верблюдицу я,
Она быстронога, без отдыха мчится недели,
Крепка, как помост, по дорогам бежит, где следы
Сплетают узор, — словно ткань на дорогу надели.
Верблюдица скачет, и задние ноги ее
Передних касаются, следом бегут, словно тени.
Со стадом верблюжьим пасется она на плато,
Жует молодые побеги зеленых растений.
Округлые бедра верблюдицы — словно врата
Дворца, а высокий хребет — как стена укреплений.
Под грудью ее, как под пальмой, прохладная тень,
Излучина брюха — как свод, и массивны колени.
Она расставляет передние ноги свои,
Как держит бадьи водонос — для свободы движений.
С румийскою каменной аркою{24} схожа она,
Подобные арки не рушатся от сотрясений.
Поводья бегут по груди, не оставив следа,
Так воды с утесов текут вдоль гигантских ступеней:
Подобно разрезу на вороте с белым шитьем,
Расходятся, сходятся снова, сливаются в пене.
Верблюдица голову держит, как нос корабля,
Сама словно судно, плывущее против теченья.
Большая ее голова наковальне под стать,
В зазубринах вся, как пила, и в узлах, как коренья.
А морда ее, как сирийский папирус, гладка,
А губы сафьяна нежнее, но крепче шагрени.
Глаза, как зерцала, сияют из темных глазниц,
Так блещет вода среди скал в черноте углублений.
Прозрачны они и чисты, обведенные тьмой,
Как очи пугливых газелей и чутких оленей.
Подвижные уши способны во тьме уловить
Тревожные шорохи, зовы и шепот молений.
Могучее сердце верблюдицы гулко стучит,
Как будто в гранитный утес ударяют каменья.
Верблюдица мчит, запрокинув затылок к седлу,
Стремительный бег быстроногой похож на паренье.
Захочешь — пускается вскачь, а захочешь — бредет,
Страшится бича, не выходит из повиновенья,
Склоненною мордой почти прикасаясь к земле,
Бежит все быстрей и быстрое, исполнена рвенья.
Спокойно ее понукаю, когда говорят:
«Из этой пустыни не вызволит нас провиденье»,—
И даже тогда, когда спутники, духом упав,
Не ждут ничего, лишь до смерти считают мгновенья.
Вам скажут: «Один удалец этот ад одолел»,—
Смельчак этот — я, обо мне говорят, без сомненья.
Хлестнул я верблюдицу, и поскакала она
В тревожный простор, где восход полыхал, как поленья.
Ступает она, как служанка на шумном пиру,
Качается плавно в объятиях неги и лени.
По первому зову на помощь я вмиг прихожу,
Не прячусь в канаву, завидев гостей в отдаленье.
Кто ищет меня — на совете старейшин найдет,
Кто хочет найти — и в питейном найдет заведенье.
Придешь поутру — поднесу тебе чашу вина,
Не хочешь — не пей, но войди, окажи уваженье.
На шумных собраньях средь самых почтенных сижу,
Мне старцы внимают, когда принимают решенья.
Пирую с друзьями, выходит прислуживать нам
Рабыня, чей лик светозарный — услада для зренья.
На девушке яркое платье. Так вырез глубок,
Что белое тело доступно для прикосновенья.
Ей скажете: «Спой!» — и потупит красавица взор,
И тотчас услышите нежное, тихое пенье.
Люблю пировать, веселиться, проматывать все,
Что взял я в наследство, что сам я добыл во владенье.
Родня сторонится меня, как верблюда в парше,
Которого дегтем намазали для исцеленья.
А я ведь друзей нахожу и в убогих шатрах,
И там, где в богатстве живет не одно поколенье.
Меня вы хулите за то, что рискую в бою,
За то, что могу на пирушках гулять что ни день я.
Но разве вы в силах мне вечную жизнь даровать?
Позвольте же с гибелью встретиться в час наслажденья
Позвольте же мне три деянья всегда совершать,
Которые в жизни имеют большое значенье.
Клянусь! Я и думать не стал бы, когда б не они,
О том, что наступит черед моего погребенья!
Деяние первое: не дожидаясь хулы,
Сосуд осушать, пить вино, не боясь опьяненья!
Второе деянье: на помощь тому, кто зовет,
Бросаться, как зверь потревоженный, без промедленья!
А третье: с веселой красавицей дни коротать,
Укрывшись от долгих дождей под надежною сенью!
О, девичьи руки, подобные стройным ветвям!
Браслеты на них и цепочек звенящие звенья.
При жизни ты должен все радости плоти вкусить,
Превратности я испытал и страшусь повторенья.
При жизни будь щедр! Пропивай все, что есть у тебя!
За гробом узнаешь, как пьется в державе забвенья.
Попробуй могилы скупцов отличить от могил
Безумцев, транжиривших золото без сожаленья!
Два холмика рядом, две гладких гранитных плиты,
Под ними тела, но уже их разрушило тленье.
Да, смерть неразборчива, щедрых берет и скупых,—
Но хуже скупцам: как оставишь добро да именье!
Сокровище жизни бесценно, но тает оно,
Уходят и годы, и дни, и часы, и мгновенья.
Чтоб конь мог пастись, удлиняют веревку ему,
Но жизнь не продлить. Все мы станем для смерти мишенью.
В опасности племя мое — я готов умереть,
Враги угрожают — иду без боязни в сраженье.
К источнику смерти дорогу могу указать
Тому, кто подвергнет собратьев моих поношенью.
Я славен отвагой, стремителен, как голова
Проворной змеи, увенчавшая гибкую шею.
Со мною всегда мой индийский отточенный меч,
Я клятву давал — и теперь с ним расстаться не смею.
Крепка его сталь — ни царапин на ней, ни щербин,
Единым ударом я голову недругу сбрею,
Мечу говоришь: «Погоди!» — но уже он сверкнул,
Сразит он мгновенно — и сам я мигнуть не успею.
Покуда сжимаю в деснице его рукоять,
Любому врагу дам отпор и любому злодею.
Когда прохожу я с мечом обнаженным в руке,
Верблюды в тревоге, дрожат — как бы их не задели.
Дочь Мабада{25}, друг мой, поплачь, если сгину в бою,
Как должно оплакивать павших в далеком пределе.
Одежды свои разорви! Я достоин того.
Другим далеко до меня в ратном яростном деле.
Иные медлительны в добрых делах, но не в злых,
Робеют пред сильными, а на пиру — пустомели.
Но я не таков, никому не спускаю обид,
Будь я послабей, на меня бы с презреньем глядели,
Меня б затравили всей стаей и по одному,
Но щит мой — отвага, воспитанная с колыбели.
Клянусь! О невзгодах своих я не думаю днем,
А ночью тем более — сплю как убитый в постели.
Не раз я, встречая опасность, свой страх отгонял
В то время, как сабли сверкали и стрелы свистели,
Когда даже самые смелые из удальцов
Теряли от ужаса речь, леденели, бледнели.
«Я в степь ухожу на верблюде породистом…»
Я в степь ухожу на верблюде породистом,
На быстром, поджаром, широком в груди.
За мной мое племя отважное движется,
Идет мой верблюд, как вожак, впереди.
Народ мой деяньями добрыми славится,
Коварства и зла от него и не жди.
Он прям, но учтив и чуждается грубости,
И если ты честен, будь гостем, приди.
Стада бережем мы в годину голодную:
Все сыты, и вскоре — беда позади.
Последним поделится племя суровое,
Где юноши — воины, старцы — вожди.
Amp ибн Кульсум
{26}«Налей‑ка нам в чаши вина из кувшина!..» Перевод А. Ревича
Налей-ка нам в чаши вина из кувшина!
Очистим подвалы всего Андарина{27}!
Ну что за напиток! В нем привкус шафрановый.
Немного воды — и смягчаются вина.
Вино отвлекает от грусти влюбленного,
Хлебнет он — и вмиг позабыта кручина.
Скупца и того не обидят на пиршестве,
Щедрей во хмелю самый алчный купчина.
Так что ж ты, Умм Амр, обнесла меня чашею?
Ты не соблюдаешь застольного чина.
Что хмуришься? Все мы от рока зависимы,
Разлука нас ждет, неизбежна кончина.
Постой же, тебе я поведаю многое,
Пока ты не скрылась в тени паланкина.
О битвах жестоких, о воинах доблестных,
О братьях твоих расскажу для почина.
Ну что ты дичишься? Разлука расстроила?
Нет! Больше не любишь ты, вот в чем причина!
Когда бы не эти глаза посторонние,
Когда бы мы слиться могли воедино,
Ты руки свои бы открыла мне, белые,
Живые, как вешняя эта равнина,
И грудь, что из кости слоновой изваяна,
Два холмика — их не касался мужчина.
Подобны атласу бока твои нежные,
А спину упругую делит ложбина.
Ушел караван, с ним ушла ты, как молодость.
Что делать? И жизни ушла половина.
Равнина Ямамы{28} полоской далекою
Мерцает, как сабля в руке бедуина.
Готов застонать я. Так стонет верблюдица,
Зовя верблюжонка в долине пустынной,
Так мать, семерых сыновей потерявшая,
Горюет у гроба последнего сына.
Сегодня и Завтра от рока зависимы,
В грядущих печалях судьба лишь повинна.
Царь Амр{29}, наберись-ка терпенья и выслушай:
Мы ринулись в бой, как речная стремнина,
Мы шли к водопою под стягами белыми,
В бою они стали краснее рубина.
Стал день для врагов наших ночью безрадостной,
В тот день мы к тебе не явились с повинной.
Послушай, властитель, дающий убежище
Лишь тем, кто приходит с покорною миной,
О том, как у царской палатки мы спешились,
На лагерь твой пышный обрушась лавиной.
Собаки скулят, когда скачем к становищу,
Мы рубим противника с яростью львиной,
Молотим его, как пшеницу поспевшую,
И воины надают мертвой мякиной.
Под склонами Сальмы зерном обмолоченным,
Коль надо, засеяна будет низина.
Царь Хиры, еще ты наш гнев не испытывал.
Восстав, он любого сметет властелина.
Все знают: от предков нам слава завещана,
В бою не уроним той славы старинной.
Друзей, чьи шатры для кочевки разобраны,
Всегда со своей охранял я дружиной.
Мы их защищаем в минуты опасности,
Поскольку мы связаны нитью единой.
С врагами сойдясь, мы мечом поражаем их,
А на расстоянии — пикою длинной.
Мечом рассекаем противника надвое,
А пикой любого пронзим исполина,
Хоть кажется наше оружье тяжелое
В умелых руках лишь игрушкой невинной.
Плащи наши, вражеской кровью омытые,
Как пурпур, горят над песчаной равниной.
Когда нападенье грозит нашим родичам
На узкой дороге, зажатой тесниной,
Встаем впереди мы падежным прикрытием,
Как Рахва-гора с каменистой вершиной.
И юноши наши, и старые воины
Готовы полечь, но стоят нерушимо.
Мы мстим за убийство своих соплеменников,
И наше возмездие неотвратимо.
Тревога — и вмиг мы хватаем оружие,
Но стоит промчаться опасности мимо,
В тенистых шатрах мы пируем, беспечные,
Спокойны, хоть наше спокойствие мнимо.
Стоим как никто за свое достояние.
Мы в клятвах верны и тверды, как огниво.
Когда разгорелось в Хазазе побоище,
Мы, действуя с разумом, неторопливо,
В резню не ввязались, и наши верблюдицы
На взгорье жевали колючки лениво.
Врагу не даем мы пощады в сражении,
Но пленников судим всегда справедливо.
В добычу берем только самое ценное,
Ничтожная нам не по вкусу нажива.
Одежда из кожи у нас под доспехами,
В десницах мечи голубого отлива,
Сгибается лезвие, но не ломается,
И наши кольчуги упруги на диво.
От них на груди застарелая ржавчина,
Ни смыть, ни стереть, как ни три терпеливо.
Морщины кольчуг, словно волны озерные,
Возникшие от ветрового порыва.
Несут нас в сражение кони надежные,
Их шерсть коротка и не стрижена грива.
По праву они перешли к нам от прадедов,
Потомкам на них гарцевать горделиво.
Соседи, завидев шатры паши белые
В скалистой лощине под кручей обрыва,
Толкуют о щедрости нашего племени,
Которое стойко и неприхотливо.
И если сверкают клинки обнаженные,
Мы ближним на помощь спешим без призыва,
Мы пленным даруем свободу без выкупа,
Но горе тому, чье смирение лживо.
Никто не осмелится пить из источника,
Пока нас вода его не освежила.
В неволе не быть никогда нашим женщинам,
Покуда голов наша рать не сложила.
Они на верблюжьих горбах возвышаются,
Краса их нежна и достоинство мило.
Мы им поклялись, что, завидев противника,
На вражьи кочевья обрушимся с тыла,
Мечи отберем, и блестящие панцири,
И шлемы, горящие, словно светила.
Идут горделивые наши красавицы,
Покачиваясь, как подпивший кутила.
Они говорят: «Не желаем быть именами
Бессильных и робких, уж лучше могила!»
И мы защитим их от рабства и гибели,
Иначе нам жизнь и самим бы постыла.
Одна есть защита — удар, рассекающий
Тела, словно это гнилые стропила.
Мы сами окрестных земель повелители,
Порукой тому наша дерзость и сила.
Не станем терпеть от царя унижения,
Вовек наше племя обид не сносило.
Клевещут, твердят, что мы сами обидчики —
И станем, хотя нам такое претило.
Юнцам желторотым из нашего племени
В сраженье любой уступает верзила.
Земля нам тесна, мы всю сушу заполнили,
Все море заполним, раскинув ветрила.
Отплатим сторицею злу безрассудному,
Накажем его, как того заслужило.
Аль-Харис ибн Хиллиза
{30}«Порешила Асма, что расстаться нам надо…» Перевод А. Сендыка
Порешила Асма, что расстаться нам надо,
Что повинностью стала былая отрада.
Я успел ей наскучить в бескрайней пустыне,
О бродячих шатрах не забывшей поныне.
Где глаза верблюжонка, где шея газели?
И свиданья и клятвы забыться успели…
Вот луга, что давали приют куропаткам,
Вот поля, где блуждал я в томлении сладком.
Не хватает лишь той, что любил я когда-то,
От восхода я плачу о ней до заката.
Очи Хинд разожгли во мне новое пламя,
Языки его ярче, чем звезды над нами.
Издалече приметят и пеший и конный
Среди мрака ночного костер благовонный.
Меж Акик и Шахсейном поднявшись горою,
Пахнет сладостно мускусом он и алоэ.
Я не мог бы здесь жить, без кочевий страдая,
Но верблюдица есть у меня молодая,
С ней вдвоем нипочем нам любая дорога,
Словно страуса самка, она быстронога.
Кто не видел в пустыне, на фоне заката,
Как за матерью следом бегут страусята,
И песок из-под ног поднимается тучей,
И охотники слепнут в той туче летучей.
Хоть следы беглецов разыскать и не сложно,
Их самих укрывает пустыня надежно.
А верблюдица — та же бескрылая птица…
Закаленный страданьем — судьбы не боится,
В знойный полдень в песках мне легко с нею вместе,
Но меня догоняют недобрые вести:
«Наши братья аракимы{31}, пестрые змеи,
Говорить о нас дурно и гневаться смеют».
За разбойника принят ими путник несчастный,
Им неважно, что мы ни к чему не причастны,
Полагают они, что за все мы в ответе,
А все дети пустынь — нашей матери дети.
Возле мирных костров пастухи их сидели,
Но вскочили иные со стрелами в теле,
Ржали кони, и бой закипел рукопашный,
И верблюды кричали протяжно и страшно.
Амр вине нашей верит, пред ним, несомненно,
Очернила нас подлая чья-то измена.
Берегись, клеветник, ты увяз безнадежно!
Что для нас обвиненье, которое ложно?
Как угодно меняй и слова и обличье,—
Мы и были и будем твердыней величья.
Это видят сквозь ложь, как сквозь облако пыли,
Даже те, кого гордость и гнев ослепили.
Дан судьбою нам вождь величайший на свете,
Он — как конь вороной, рассекающий ветер.
С морем бед и невзгод он вступает в сраженье,
И спасает копыта от пут пораженья.
Наши всадники в битвы летят за ним следом,
И враги забывают дорогу к победам.
Может бросить вселенную он на колени,
Нет на свете достойных его восхвалений.
Вот и все. Если ваше решенье созрело,
Соберите бойцов и немедля — за дело,
Пограничные земли просейте хоть в сите
И живых и убитых о нас расспросите,
Унизителен, правда, ваш розыск лукавый —
Разве трудно понять, кто виновный, кто правый?
Что вам пользы возиться с остывшей золою?..
Мы бы тоже закрыли глаза на былое…
Но коль скоро вас мир не прельщает достойный,
Попытайтесь припомнить минувшие войны.
Орды всадников наших, что легче оленей,
Пировали в развалинах ваших селений,
А верблюды Бахрейна{32}, седые от пыли,
Воду северных рек серебристую пили,
А тамима{33} сыны недвижимы лежали,
А его дочерей мы в объятьях держали.
Гордость там не живет, где живется спокойно,
А презренное жалости вряд ли достойно.
Убегавшие в страхе изрублены ныне,
Не спасли их ни горы от нас, ни пустыни.
Мир в руках у владыки, как винная чаша,
И сладчайшая капля в ней — преданность наша.
Когда Мунзир{34} в набег мчался тучею пыли,
Амру встретить врага помогали не мы ли?
И не нам ли удачей обязаны бранной
Дети таглиба, пылью лечившие раны?
Амр шатер свой построил, как небо второе,
За него зацепляются звезды порою,
Там находят приют и достойное дело
Сабли разных племен, что собрал он умело.
Оделяет их вождь и водою и пищей,
Волей божьей богатым становится нищий.
Но когда, подстрекаемый злою судьбою,
Амр на нас это войско повел за собою,
За наездником каждым смотрели мы в оба,
А врагов ослепляли миражи и злоба.
Амр вине нашей верит, но нас оболгали
Те, что пламя войны раздувать помогали.
На поклепы у нас только три возраженья,
Но, услышав их, честный изменит решенье:
Все понятно и просто, как синь небосклона,
Когда племя маад развернуло знамена,
И собрались близ Кайса, исполнясь отваги,
Под утесоподобные тяжкие стяги
Удальцы, что, как горные барсы, рычали
И умели откусывать руки с мечами,—
Их приветствовать копьями вышли не мы ли?
Кровь лилась, как вода из разбитой бутыли.
Ведь меж тех, кто укрылся в предгорьях Сахлана,
Каждый воин — сплошная кровавая рана.
С копий струи текли — в годы мира едва ли
Из колодцев мы столько воды доставали.
По закону небес, мы своими руками
Общим недругам сделали кровопусканье.
После Худжр появился, сей сын Умм Катама{35}
Облачался в зеленые ткани упрямо,
Но на рыжего льва походил среди боя,
Кровью землю поя, как водой дождевою.
Но, его одолев и отбросив, не мы ли
С Имруулькайса{36} оковы тяжелые сбили?..
Дети Ауса{37} конями горды вороными,
И знамена шумят, как деревья, над ними,
Но мечами их встретить решились не мы ли
И не нами ль они опрокинуты были?..
Мы за Мунзира пролили кровь Гассанида{38},
Кровь обоих равна, не равна лишь обида.
Мы соседям своим подарили по праву
Девять мудрых владык, пожинающих славу.
Амр — герой, не имеющий равных по силе,
Но за мать его некогда нам заплатили!
И хороший совет дать мне хочется ныне
Племенам, что кочуют в степи и пустыне:
Не глядите на нас сквозь бельмо наговора.
Горе тем, чьей виною затеется ссора.
Лучше вспомните, братья, союз Зу-ль-Маджаза,—
Клятв страшней, чем тогда, я не слышал ни разу.
В каждом свитке была предусмотрена кара
Тем безумным, что меч занесут для удара.
И коль словом добра мы вражды не затушим,
То на головы вам эту кару обрушим.
Зло за зло. Словно из лесу робких оленей,
Мы сумеем вас выгнать из ваших селений,
А коль всадники Кинда{39} придут на подмогу,
Им обратную быстро укажем дорогу.
Вы взвалили на нас все грехи человечьи,
Словно тяжкую ношу на рабские плечи,
Но ведь правды нельзя забывать и во гневе,
Джандаль, Кайс и Хазза не из наших кочевий.
Мы невинны, а племя атик виновато,
За чужие набеги грозит нам расплата.
Мне смешон наговор вероломный и злобный,
Не из нас копьеносцы, что року подобны,
Те, что ночью напали и скрылись незримо.
Вас ограбили люди из рода тамима.
Род ханифа готовит бойцов для сраженья,
Но должны ль мы за это терпеть поношенье?
Да и племя кудаа вы с нами смешали,
Хоть свершенного ими мы век не свершали.
Эти наглые люди вернуть им просили
То, чего защитить они были не в силе.
Земли рода ризах отобрали бакриты,
Те восстали и были в бою перебиты.
Жажда мести пылает, раздута бедою,
Этой жажды огонь не затушишь водою,
И на недругов конные мчатся отряды,
И мечи не дают побежденным пощады.
Хаярейн затопило кровавое море,
Правда небу известна. Но горе есть горе.

Зухайр
{40}«Я снова в долине Дарраджа…» Перевод А. Сендыка
Я снова в долине Дарраджа и Мутасаллима —
Над местом жилища Умм Ауфы ни звука, ни дыма,
Остатки шатра ее в Ар-Рукматейне похожи
На татуировку, что временем слизана с кожи.
В укромных развалинах робкие прячут газели
Своих сосунков, что на ножках стоят еле-еле.
Лет двадцать назад я сменил этот край на дорогу,
Но все, о чем помнил, теперь узнаю понемногу.
Вот камни очажные, копоть хранящие свято,
Вот ров кольцевой, еще полный водой, как когда-то..
Шепчу я в смятенье земле, сохранившей все это:
«Счастливой и мирной пребудь до скончания света!»
Но, братья, взгляните на сизые горы Субана,
Не вьется ли там меж утесов змея каравана,
Не видно ль верблюдов, бредущих, навьючив на спины
Цветной бахромою украшенные паланкины?
Взросли они в холе, отважны они и могучи,
Тащить их за повод не надо, взбираясь на кручи.
Идут они ночью, а утром склоняют колени,
Пусть даже им ближе, чем пальцам до рта, до селенья.
Везет караван этот радость, любовь и усладу,
Ту розу, что дарит блаженство влюбленному взгляду.
Овечий помет, полускрытый травою зеленой,
При ней превращается в спелые грозди паслёна.
На каждой стоянке шатры разбивая, как дома,
Погонщики любят понежиться у водоема;
А все ж Аль-Канан обошли они справа лукаво,
Хотя и прельщала на пастбища добрая слава.
И вот на верблюдах, в пути не уставших нимало,
Спускаются путники прямо сюда с перевала.
По воле племен, спокон века кочующих рядом,
У древнего храма, согласно старинным обрядам,
С достойным вождем я связал себя клятвою туго,
Из слов моих цепи сплелись, как из колец кольчуга…
Был гнев рода мурры грозней и опасней обвала,
Пролитая кровь даже узы родства разорвала;
Но вы ведь смирили и Абса сынов и Зубьяна,
Дышать им не дали зловоньем убийств постоянно.
Вы молвили им: «Для чего враждовать, понимая,
Что мир, а не распря — к спасенью дорога прямая».
За мудрость с тех пор почитают вас племени оба,
Коснуться не смеют вас неблагодарность и злоба.
И равных величьем вам нет меж сынами Маада,
Богатому славой иного богатства не надо.
Достойное слово больным возвращает здоровье
И может взять выкуп за кровь с не пролившего крови,—
Ведь вору платящий отнюдь не лишается чести,
А всякая месть — одновременно повод для мести.
В тот раз ублажили вы вестников гибели черных
Стадами верблюдов, копей табунами отборных.
Я целому миру о вас говорю с похвалою,
Но дети Зубьяна клянутся ли клятвой былою?
Не лгите, Всевидящий видит, что души вам гложет,
Откройтесь, Всеведущий мыслей не ведать не может,
Карает за грех он любого, но делает это
Порою немедля, порой через многие лета.
Война — это то, что привычно для вас и знакомо,
Ну что же, и наши на поле сраженья — как дома.
Войну возрождая, припомните ужасы брани.
Костер раздувая, пожара припомните пламя.
Извечные войны отцами приходятся бедам
И юношам тем, кому жалости голос неведом:
Растут они будто гривастые львы, а не люди,—
Убийство их пестует и отнимает от груди.
Им дарит оно серебра, и пшеницы, и мака
Побольше, чем труд земледельцам на пашнях Ирака.
Воителям слава! И я вам открою, в чем тайна
Великой победы крылатых отрядов Хусайна.
Врагов ненавидя, держал он клинки наготове,
И все же не он был повинен в пролитии крови.
Сказал он: «Стада угоню я от вражьего стана,
И тысяча всадников будет при мне как охрана».
За кровь платят кровью, кому неизвестен обычай?
И вождь из набега вернулся с бескровной добычей.
Войны не начав, он прилег у нее на пороге,
Как лев густогривый на камне у темной берлоги.
Он смел, он привычен обидой платить за обиду,
И когти он точит, когда пригрозят, не для виду.
Но месть, словно жажда, врагам иссушила гортани,
А был водопой лишь у алого берега брани.
Мы там их поили, мы там их кормили досыта,
И пастбище тучное стало для них ядовито.
Но в гибели Науфаля мы виноваты едва ли,
И кровь Ибн Нухейля не наши мечи проливали,
Не нами зарезан прославленный Ибн аль-Мухаззам.
Всех павших до срока нельзя нам приписывать разом.
Есть вождь у нас славный, мы горным воспитаны краем,
Храним мы добычу, мы тропы над безднами знаем,
В ночной темноте, что для недругов тайных желанна,
Вкруг наших становищ надежная бродит охрана —
То воины наши, бесстрашны их души и взгляды;
Замысливший злое от них не дождется пощады.
А сам я дряхлею, давно мой отец позабытый
Зовет меня лечь рядом с ним под могильные плиты.
Мне восемь десятков. Душа отделиться готова,
Сегодняшний день вижу я через дымку былого,
Не смеет судить о грядущем рассудок мой старый —
Я знаю, что рок наудачу наносит удары.
Того, кого смерть не сражает крылатой стрелою,
Преследует старость в содружестве с немочью злою.
Того, кто дерзает от рода отречься открыто,
Терзают клинки и тяжелые топчут копыта.
Того, кто бесчестен, того, кто друзьям не опора,
Десница судьбы отмечает печатью позора.
Того, кто скупится отдать свои силы отчизне,
Из списка живых может вычеркнуть племя при жизни.
Того, кто живет с добротою и честью согласно,
Не смеет никто ни хулить, ни позорить напрасно.
Того, кто обманом стремится уйти от удара,
И в небе седьмом настигает достойная кара.
Того, кто добром помогает не тем, кому надо,
Раскаянье ждет, а не почести и не награда.
Того, кто в бою отбивает копье ненароком,
Сражает кинжал, если это назначено роком.
Алкающий мира бывает настигнут войною —
Нельзя свой очаг защитить добротою одною.
Живя меж врагов, и друзей опасаться полезно.
Не чтящих себя ждет презрения общего бездна.
Отвергнутый всеми, забывший довольство и радость,
В тоске о былом постигает раскаянья сладость.
И мысли и норов скрывает иной осторожно,
Но ключ подобрать даже к самому скрытному можно.
Склони молчаливого к мирной беседе — и скоро
Судить о нем сможешь вернее, чем до разговора.
Хорошее слово порою важнее, чем дело.
Животное тот, кто сплетает слова неумело.
Юнец легкомысленный может ума поднабраться,
Но старый глупец должен глупым до гроба остаться.
Просил я подарков, и вы мне дарили, а все же
Просить слишком часто, судьбу испытуя, негоже.
Антара Перевод А. Ревича
{41}«О чем нам писать, если мир многократно воспет?..»
О чем нам писать, если мир многократно воспет?
Ты дом этот видел во сне — узнаешь или нет?
О стены, где Аблу найду я? Подайте совет!
Поклон вам и мир! Да хранит вас Всевышний от бед!
Схожу у порога с высокой, как арка, верблюдицы,
Вокруг озираюсь: о, сколько знакомых примет!
Я жил то в Саммане, то в Хазне, потом в Мутасаллиме,
В Джива увезли мою Аблу. Стал сумрачен свет.
Уехала Абла, жилье опустело, разрушилось,
Остались руины в степи, как безмолвный привет.
Непросто добраться к возлюбленной, к дочери Махрама,
Исчезла. Во вражеских землях теряется след.
Невольно ее полюбил я. Дам клятву священную!
По воле судьбы я нанес ее родичам вред!
Пускай не клянет меня Абла, худого не думает,
Я ей поклоняюсь, а что получаю в ответ!
Далеко на юге кочуют сыны ее племени,
Пути же из Гайлама к Абле возлюбленной нет.
Но если сама моя Абла уехать задумала,
Зачем ее племя ушло потихоньку чуть свет?
Тревожусь: бредут их верблюды по краю безводному,
Где знойный песок только чахлой колючкой одет.
Безумен ты, Антара! Девичьи зубы жемчужные
И нежные эти уста — твой навязчивый бред!
О, как ароматны уста эти полураскрытые,
Так пахнут они, словно мускуса полный кисет
И словно нехоженый луг, зеленеющий травами,
Где всходят гвоздики пунцовые и первоцвет.
Тот луг оросило белесое вешнее облако,
В промоинах лужи сверкают, как россыпь монет.
Там ежевечерне дожди проливаются теплые,
Часами струятся и медленно сходят на нет,
И кружится шмель, и с пчелой оживленно беседует,
Как с пьяным соседом такой же подпивший сосед;
Так лапки усердно они потирают, что кажется:
Огонь высекают, чтоб на ночь затеплился свет.
В шатре своем Абла ложится на ложе пуховое —
Всю ночь мне сидением служит лишь конский хребет.
Седло мне — подушкой, а конь для скитальца — пристанище,
Он жилист и крепок, любой совершит он пробег.
И если не он до любимой домчит, так верблюдица,
Чье вымя усохло, но прыть не иссякнет вовек.
Бежит она, топчет барханы копытами быстрыми,
Колотит по бедрам хвостом, позабыв про ночлег.
Мне кажется: мчусь на двупалом стремительном страусе
Холмистыми взгорьями, руслами высохших рек.
Когда этот страус кричит, страусята сбегаются,
Как стадо степных верблюжат на пастушеский рог.
Мелькает спина вожака, паланкину подобная,
А тонкая шея колеблется, как стебелек.
Бегун длинноногий домой устремился — в Зу-ль-Ушайра,
Безухий, как раб, черной шкурой свой торс он облек.
По вражеским землям верблюдица скачет без роздыха,
Она в Духрудайне пила, да и то лишь глоток.
Бичом понукаема, мчится она сломя голову,
Как будто ей дикая кошка царапает бок.
Но горб ее крепок, и после пробега нелегкого
Он, словно шатер на упругих распорах, высок.
Но вот водоем, и к воде припадает верблюдица,
Со свистом дыша, упирая колени в песок.
Зачем ты клянешь меня, Абла? Зачем ты скрываешься?
Не делал я зла, только в битве мой грозен клинок.
Ты знаешь мою прямоту и мое дружелюбие,
Суров я в сраженье, но с пленными я не жесток,
Лишь гневен в обиде, и горечь познают обидчики,
Как будто во рту у них дыни неспелой кусок.
Я пью пополудни из чаши с узорным орнаментом
Вино золотистое — терпкий искрящийся сок,
Вино разбавляю водой из серебряной амфоры.
Кто скажет, что мне этот легкий напиток не впрок?
Я пью, но храню свою честь, не слыву прихлебателем,
Меня и транжиром никто обозвать бы не мог.
Ты знаешь мой нрав: я не стану и после похмелия
Скупей, чем на пиршестве. Но разве щедрость — порок?
Рука моя многих красавиц оставила вдовами,
И раны зияли у тех, кто в сраженье полег.
Удар наношу я, и кажется кровью драконовой{42}
Окрасивший грудь неприятеля алый поток.
Скажи, разве ты о моих не наслышана подвигах?
Неужто отвага моя лишь тебе невдомек?
Не часто схожу я с хребта скакуна крепконогого,
Который не раз был от смерти в бою недалек.
Он смел в поединке, он с ходу врезается в полчище,
Быстрей, чем стрелу запустить успевает стрелок.
Все знают, что Антара первым на копья бросается,
Но первым добычу ни разу еще не волок.
Со мною вступить в поединок не всякий решается,
Я мог отступить, но пуститься не мог наутек.
Упруго копье, из коленец составлено трубчатых.
Удар я нанес — даже панцирь врагу не помог.
Струится кровавый родник, и волчица голодная
Придет в полуночье лизать окровавленный бок.
Уж бить — так навылет. Смертельный удар милосерднее
Не дело скупиться тому, кто душою широк.
Пробитое тело врага я пожертвую хищникам,
Оно предназначено им с головы и до ног,
До звеньев кольчуги. Рассек я доспехи богатые.
Тот всадник был знатным, над ним красовался значок.
Когда я сражаюсь, враги мои не улыбаются,
Лишь скалятся злобно — в бою неуместен смешок.
Хожу в одеянии тонком и в мягких сандалиях,
Я строен, как древо, и так же, как древо, высок.
Кому-то достанется Абла, пугливая козочка?
Мне путь к ней заказан, я в этой игре не игрок.
К становищу Аблы свою я отправил невольницу,
Велел все узнать и вернуться в указанный срок.
Вернулась и молвила: «Смелый похитил бы козочку,
Спокойно становище, мирно живет, без тревог.
Подобна газели степной твоя козочка белая,
Чья шея нежна, губы алы и черен зрачок».
Я дядин завет не забыл и в кровавом побоище,
Когда обнаженные зубы к губам припечет,
Когда лишь угрозы слышны, но ни стона, ни жалобы
И смерть начинает игру свою в нечет и чет,—
Тогда для собратьев моих становлюсь я прикрытием,
И там, где стою, там ни витязь, ни рать не пройдет.
Едва лишь услышал я возгласы рода Мухаллама,
Клич всадников Мурры, пустившихся с ходу в намет,
Едва я увидел сквозь пыль, как идут под знаменами
Отряды рабиа, я понял, что час настает,
Что головы с плеч полетят, словно птицы пугливые,
Что сеча близка, что мечей наступает черед.
Я видел, как всадники плотной стеной приближаются.
Кто может меня упрекнуть? Я рванулся вперед.
Взывали звенящие копья, мне слышалось: «Антара!»
Впивались в коня и прервать наш пытались полет.
Мой конь белогрудый, отмеченный белою звездочкой,
Стал красен от крови, в рядах пробивая проход.
Он вдруг захлебнулся слезами и жалобным ржанием
И стал оседать: острие угодило в живот.
О, если бы мог он словами излить свою жалобу,
О, если б он мог рассказать о страданье! Но вот
С победными криками ринулись наши наездники
По дну пересохшего русла, как новый поток.
Они восклицали: «Да это же доблестный Антара!
Он всем храбрецам голова! Это он нам помог!»
А мне стало страшно: умру я — и отпрыскам Дамдама{45}
Отмстить не успею и дать им суровый урок
За то, что меня поносили они и позорили,
Со мною при встрече расправиться дали зарок…
«Что грустишь, о голубка, на древе высоком?..»
{46}Что грустишь, о голубка, на древе высоком?
Ты печаль растревожила горестным оком.
Потеряла ты друга? Я тоже покинут.
Что ж, мы оба с тобой обездолены роком.
Плачь же, плачь надо мною, пока не увидишь,
Что из глаз моих слезы струятся потоком!
Погляди на меня, каждый вздох мой, как пламя.
Приближаться не надо — сгоришь ненароком.
Улетай же! Быть может, ты встретишь в Хиджазе
Караван кочевой на просторе широком.
Он увозит красавицу, льющую слезы,
Погруженную в думы о доме далеком.
Заклинаю тебя, если встретишь ты Аблу,
Погрусти, помяни обо мне, одиноком:
«Он рыдал на лугу. Только слезы иссякли,
И глаза исходили кровавым потоком».
«Я из Лакика спешил…»
Я из Лакика спешил в Зат-аль-Хармаль, и вдруг предо мной
Выросла груда камней и золы на дороге степной.
Долго глядел я на то, что когда-то служило жилищем.
Где бы я ни был, я в эти места возвращаюсь порой.
Эти руины омыты дождями и сглажены ветром,
Сек их песок, обжигало жестокой полдневной жарой.
Не оттого ли, что в зарослях жалобно горлица стонет,
Катятся капли со щек на одежду, как в дождь проливной?
Катятся, перлам тяжелым подобные, крупные слезы,
Словно разорваны бусы жемчужные грубой рукой.
Помню: услышал я возгласы всадников племени мурра,
Племя мухаллаль мгновенно исторгло свой клич боевой.
К братьям своим я воззвал, и абситы откликнулись разом
Звоном оружья, бряцаньем доспехов и ринулись в бой.
Гибкими копьями, острою сталью мечей машрафийских{47}
Смело таранят мои соплеменники вражеский строй.
Наполовину я знатный абсит — по отцовскому роду,
Острым клинком защищаю я честь половины другой.
Если настигнут тебя — нападай, а теснят — защищайся,
В доме своем принимай как друзей всех гонимых судьбой!
Стычка с врагами — удел смельчаков с богатырской душою,
Лишь малодушные в страхе бегут, не владея собой.
Честно свой хлеб добываю всегда, и, пока не добуду,
Голод готов я сносить и невзгоды, мириться с нуждой.
В час отступленья, когда наседают враги на абситов,
Отпрыски знати смиренно склоняются передо мной.
Всадники знают, как верный мой меч неприятеля косит,
В страхе враги, когда меч мой сверкает над их головой.
Не обгонял я ни разу собратьев, охваченных страхом,
И отступаю одним из последних пред вражьей стеной.
Видел я гибель, со мною она с глазу на глаз осталась.
Солнце всходило, и мирный рассвет обернулся войной.
Молвил я смерти: «Глоток мой последний, увы, неизбежен,
Рано ли, поздно — к тебе мы приходим, как на водопой.
Зря ты грозишься, я знаю и сам, что тебя не избегнуть,
Нынче ли, нет — все равно уготован мне вечный покой».
Сам становлюсь я пособником смерти, когда чужеземцы
Древнюю землю мою осаждают несметной ордой.
В час роковой, когда кони и всадники скалятся злобно,
Словно довел их до грани безумия горький настой,
Сгину в бою, но не стану я сетовать, лежа в могиле:
«Ах, почему мне пришлось повстречаться со смертью такой!»
«Ты плачешь? Сухейя сурова с тобой?..»
Ты плачешь? Сухейя сурова с тобой?
Ты плачешь? А прежде ты был не такой!
Отвергла меня, даже слова не молвила,
Потупила очи газели степной.
Даришь ей любовь — преклонения требует,
Бесчувственна, словно кумир неживой.
Сухейя! Быть может, сегодня ты сжалишься?
Как раб, со склоненной стою головой.
Неужто не знаешь, как смел я и доблестен,
Когда нападаю на вражеский строй,
Когда на вспотевших конях безбородые
Наездники в страхе бегут предо мной?
Ударил я — падает враг окровавленный,
Бледнеет, сраженный моею рукой.
«Я нападал столько раз на отряды врага…»
Я нападал столько раз на отряды врага,
Вел за собою наездников, серых от пыли,
Мы, атакуя, безмолвно мечи возносили,
Чье полыхание жару подобно в горниле.
Только высокие родом в дружине моей.
Помню: когда они копья с врагами скрестили,
Блеск наконечников мог бы и тьму разогнать —
Он ослепляет, он молнии равен по силе.
В битве испытаны воины, каждый верхом
На удалом жеребце или резвой кобыле.
Всадник в доспехах нелегок, и мы лошадей
Часто ведем под уздцы, если лошади в мыле.
Но прирастаем к седлу, и уже нас не сбить,
Если на вражьи ряды скакунов устремили.
Каждый из витязей воду прошел и огонь,
Ходят о них на легенды похожие были.
В час, когда всадников клонит в походе ко сну,
Следом за мною во мрак смельчаки уходили.
Шли мы всю ночь по тяжелым дорогам, пока
Стрелы восхода вселенную не озарили,
В полдень нам встретился недруг, и ринулся я,
Первым ударил, врага обрекая могиле.
Долго мы бились, и черные кони врагов
Алыми стали, как будто их краской покрыли.
Я возвращался домой с головою вождя,
Верные други мои остальных изрубили.
Грозное в битве, отходчиво сердце мое,
Если влюблен я, то нежность дарю в изобильи.
Аблу об этом спросите. Как жаждут ее
Руки и губы мои, — о других позабыли!
Если она позовет — я на помощь иду,
В бедах она лишь моей доверяется силе.
«К седлам верблюдов уже приторочены вьюки…»
К седлам верблюдов уже приторочены вьюки,
Кружится над головой черный ворон разлуки,
Крылья его облиняли и перья торчком.
Нашей разлукою тешится ворон от скуки.
Я его проклял: «Бездомным, бездетным живи!
Вечно терпи одиночества тяжкие муки!
Из-за того, что разлуку ты мне возвестил,
Ночи не сплю и ломаю в отчаянье руки».
«Смешон для Аблы удалец…»
Смешон для Аблы удалец, чья жизнь полна невзгод,
Чье тело твердо, словно меч, упруго, словно дрот.
Покрыта пылью голова, одежда вся в лохмотьях,
Он не расчесывал волос, пожалуй, целый год.
Он целый год готов таскать железную кольчугу,
Он ищет гибели в бою, его удел — поход.
Так редко он снимал доспех, что ржавчина на коже,
Следы ее не смыть водой, ничто их не берет.
Смеется Абла надо мной: «Гляди, какой красавец!» —
Старается холодной быть, но взглядом сердце жжет.
Ну почему же, почему она глаза отводит?
Я славу смелостью стяжал и щедростью почет.
О девушка, не уходи! Взгляни хоть на прощанье!
Ну погляди же на меня, ведь я же не урод!
Немало дев — нежней, чем ты, искуснее в жеманстве,
Таких, что ослепят красой, и губы их, как мед,
Но я стремлюсь к тебе одной, любви твоейдостоин,
Скакун желанья моего узду тугую рвет.
«Отравленной стрелы проник мне в сердце яд…»
Отравленной стрелы проник мне в сердце яд,
Едва красавица в меня метнула взгляд.
На празднестве она своих подруг затмила,
Сияющих красой, как звезд лучистый ряд.
От мира боль таю, но на лице страданье:
Мне невозможно скрыть горящий в сердце ад.
Красавица прошла, покачивая станом,—
Так ветвь качается, лишь ветры налетят.
Красавица прошла, скосила глаз пугливый —
Так робкая газель порой глядит назад.
Красавица прошла, так всходит в темном небе
Луна, украшенная бусами Плеяд.
Улыбкой расцвела — и жемчуга сверкнули
В устах, которые мгновенно исцелят.
О Абла, я люблю, я все еще надеюсь,
Хоть нет конца тоске, хоть жизни я не рад.
О, если бы судьба дала мне каплю счастья,
Беда казалась бы мне легче во сто крат.
«Я черен, как мускус, черно мое тело…»
Я черен, как мускус, черно мое тело,
Мою б черноту кислотой не свели,
Но дух мой от всякого черного дела
Далек, словно выси небес от земли.
«Ветерок из Хиджаза, слетая с высот…»
Ветерок из Хиджаза, слетая с высот,
В тишине предрассветной прохладу несет.
Не желаю сокровищ, ведь эта прохлада
Мне дороже, чем золото, жемчуг и скот.
Что мне царство Хосроев{48} без взора любимой?
Если нет ее рядом, все царства не в счет!
Летний ливень омыл ту далекую землю,
Ту равнину, где племя любимой живет.
Там в шатрах столько лун, белоликих и смуглых,
Мраком черных кудрей затенен их восход.
Львам подобные воины дев охраняют,
Сталь клинков обнаженных — надежный оплот.
Черноокая сердце мое полонила,
Бьется сердце — не в силах уйти из тенет.
Стоит ей улыбнуться — и жемчуг сверкает,
Украшая, как чашу, девический рот.
Эти очи, как очи газели, чаруют,
Лев свирепый пред ними смиренно пройдет.
Так стройна моя милая и крутобедра,
Рядом с нею сиять и луна не рискнет.
Абла, Абла! Огонь мое сердце сжигает,
Искр мельканье — как стрел раскаленных полет.
Абла, Абла! О, если бы ты мне не снилась,
Я стонал бы, всю ночь бы рыдал напролет.
Алькама Перевод А. Ревича
{49}«Видно, тайное скрыла глухая стена…»
Видно, тайное скрыла глухая стена.
Не увидишь любимой, исчезла она.
Как утешить мужчину, разлукой сраженного,
Когда плачет и ночи проводит без сна?
Племя Сальмы верблюдов навьючило затемно.
Что поделать? — Разлука была суждена.
Привели тех верблюдов невольницы с пастбища,
И на каждом верблюде попона красна.
Над животными кружится стая стервятников,
Цветом жертвы растерзанной привлечена.
Унесут в паланкине лимонное деревце,
И коснется тебя аромата волна.
Мышкой мускусной пахнет красавица юная,
И коса ее мускусом напоена.
Вспомню Сальму, и вмиг, словно ворон взъерошенный,
Чернотою мне застит глаза пелена.
Но ведь память о прошлом — всего лишь безумие,
Сны неясные — невелика им цена.
Полногрудая девушка, тонкая в поясе,
Соразмерно была, словно лань, сложена.
О верблюдица, словно онагр, быстроногая,
Мчись любимой вослед от темна до темна,
Ты подобно гиене дрожишь, озираешься,
Ты косишься на бич, ты смятенья полна.
Ты быстра, словно страус долин, для которого
Зреют дыни на склонах и вволю зерна.
Щиплет он колоски, острым клювом вонзается
В сочный плод, чья зеленая шкура тверда.
Рот его — словно узкая трещина в дереве,
Уши словно обрублены — нет и следа.
Бродит страус, ни ветра не чуя, ни мороси,
Вспомнил вдруг, что ушел далеко от гнезда.
Он в тревоге, он мчится домой все стремительней,
Так бежит, как еще не бежал никогда.
Выше клюва взвиваются лапы бегущего,
Он спешит: не стряслась бы какая беда!
Крепкой грудью готов он прикрыть свое логово,
Весь он черен, а крыльев опушка бела.
Он к заветному месту поспел еще засветло,
Там его у гнездовья подруга ждала.
Он приблизился с криком тревожным и клекотом,
Так румийцы{50} свои обсуждают дела.
Страусиха приветствует страуса радостно,
Встала, голосом нежным его позвала.
А ведь мы наших братьев, беду предвещающих,
Побиваем камнями, как вестников зла.
Так всегда: бережливость считается скупостью,
Расточительству часто поется хвала,
Похвала, как и всякий товар, покупается —
Для души эта плата не так уж мала.
Повсеместно у нас процветает невежество.
Доблесть? Где она — доблесть? Была да сплыла.
Сытый всюду найдет себе пищу обильную,
Голодает бедняк и раздет догола.
Тот, кого неотступно преследуют вороны,
Обречен, хоть здоров и отважней орла.
Крепкий дом, чьи опоры стояли столетия,
Прахом стал, и столбы повитель обвила.
Я пирую, я слушаю лютню певучую,
А иные свалились уже от вина.
Эта влага хранится в прохладных вместилищах,
Их до срока земная таит глубина.
Эта сладкая влага волшебна и хворого
Исцелит, но не следует пить допьяна.
Целый год эта влага была в подземелии,
Потому так прозрачна и так холодна.
А теперь наливает вино искрометное
Юный перс в одеяньях из тонкого льна.
Длинногорлый кувшин схож с газелью прекрасною,
Как в одежды, завернут в кусок полотна.
Абид ибн аль-Абрас Перевод Н. Стефановича
{51}«Плененные люди из племени асад…»
{52}Плененные люди из племени асад
Богатств не вернут и шатров не украсят.
Где сладкие вина, верблюдов стада?
Нагрянуло горе, настигла беда.
К чему проклинать их? Сражайся, как воин,
Но гнев беспощадный тебя недостоин.
В долины со всех долетают сторон
И вопли, и плач, и отчаянный стон.
Несчастные ищут приюта и крова.
Кричат в их жилищах разрушенных совы.
Ты вольных людей покорил, поборов,—
Они навсегда превратились в рабов…
«Когда восставшими отец твой был убит…»
{53}Когда восставшими отец твой был убит,
Ты грозно предрекал, что гибель нам грозит.
Обманывая всех, постыдно лгал не ты ли,
Что наших воинов войска твои побили?
По Худжру плачешь ты, по сыну Умм-Катам,
Но не сочувствуешь ты почему-то нам.
Чтоб дело правое нам отстоять свое,
Мы каждого копья точили острие.
В защиту прав своих восстали мы, утратив
Так миого и друзей, и близких, и собратьев.
Мы полчища твои разбили наконец,
Но ты еще не знал, что твой убит отец…
Рубили мы сплеча врагов — не потому ли
Коней они назад в смятенье повернули?
Ac — Самаваль Перевод Н. Стефановича
{54}«Пока твой честен путь…»
Пока твой честен путь, пока чиста душа,—
Одежда на тебе любая хороша.
Но если, ослабев, споткнулся ты и пал,—
Тогда не жди любви, ничьих не жди похвал.
Быть может, мало нас, но дело не в числе:
Возвышенных людей немного на земле.
Число умножится — наследникам своим
Мы жажду подвигов теперь передадим.
Те, что приходят к нам, от бед ища защиты,—
Их славные дела не будут позабыты.
И крепость наша всех скрывает и хранит,
Уставших от невзгод, напастей и обид.
Та крепость под землей всегда укроет нас,
Хотя она до звезд вершиной вознеслась.
Не правы племена и амир и салул,
Стыдясь, что пал герой и вечным сном уснул.
Нет, гибель хороша в бою, в смертельной схватке,
Героя путь всегда крутой и слишком краткий.
Погибель воину в сраженье не страшна,
Но за убитого заплатит враг сполна.
Чтоб нас сразить, нужны и сила и бесстрашье,—
Лишь острые мечи срубают жизни наши…
Дождя весеннего мы чище и щедрей,
Здесь слабых и скупых ты не найдешь людей.
Мы разные порой выслушиваем мненья,
Но в правде наших слов не может быть сомненья.
Не гаснет никогда наш светлый огонек,
Чтоб странник отдохнуть у нас спокойно мог.
Нас в битве враг узнал жестокой и кровавой,
Когда наш гордый род мы увенчали славой.
И в бегство наглецов мы обратили вдруг,
Ударами мечей ломая сталь кольчуг…
Ади ибн Зайд Перевод Н. Стефановича
{55}«Разве ты средство такое нашел…»
Разве ты средство такое нашел,
Что ниспровергнет судьбы произвол,
Времени сможет осилить законы?
Или ты бредишь, гордец ослепленный?
Разве не все исчезает, как дым,
Разве хоть кто-то судьбой не гоним?
Рума правители гордые где же?
Их вспоминают все реже и реже…
Что же осталось? Руины и тлен…
Совы летают у мраморных стен.
Замка Хаварнака{60} мудрый хозяин
Понял, что мир ненадежен, случаен.
Может ли радовать пышный дворец.
Если погибнет и он наконец?
Те, что сокровища здесь накопили,
Разве не будут в холодной могиле?
Тщетны и слава, и власть, и успех
Тленье в земле неизбежно для всех.
Все пролетает, проносится мимо,
Словно листок, ураганом гонимый..
Урва ибн аль-Вард Перевод Н. Стефановича
{61}«Мой хлеб съедает нищий и голодный…»
Мой хлеб съедает нищий и голодный,
А ты скупой, ты сытый и дородный,
Я становлюсь все тоньше и худей.
Но на земле, от засухи бесплодной,
Могу ль покинуть гибнущих людей?
Что нужно мне? Глоток воды холодной.
«Я обойду, скитаясь, целый свет…»
Я обойду, скитаясь, целый свет,
Чтоб всем помочь, кто голоден, раздет,
Чтоб слабых защитить от произвола
И ограждать обиженных от бед.
Но если все неправда поборола —
Покину жизнь, в которой смысла нет..
Аль-Ханса Перевод Н. Стефановича
{62}«Мы были как ветви весенние эти…»
Мы были как ветви весенние эти —
Вдвоем возвышались в роскошном расцвете.
Питал наше дерево корень родной.
Нам счастье сулили, любовь, долголетье —
Но ветки внезапно не стало одной:
Погибла, как все погибает на свете…
«Холодный Сахра прах уже исчез в могиле…»
Холодный Сахра прах уже исчез в могиле,
Куда его, скорбя, сегодня опустили…
Был строен и высок, в отваге несравним —
Победы одержать никто не мог над ним.
Всегда решительный, упорный и горячий,
Как смело он решал нелегкие задачи!..
Обречена и мать на вечное страданье,
Когда любимый сын сражен на поле брани.
О, если б смерть скорей настигла и меня,
Чтоб только не дожить до завтрашнего дня…
Ты, Сахр, покинул нас, исчез в загробной мгле.
Теперь изгнанницей я буду на земле…
«Ко мне не снизойдет сегодня сон желанный…»
Ко мне не снизойдет сегодня сон желанный:
В душе моей опять воспламенились раны.
Звезду погасшую, лучиста и чиста,
Сменяет новая в бездонности туманной,
Но Сахра — вечная сменила пустота,
И эту пустоту я вижу постоянно…
«Как душит по ночам воспоминаний гнет!..»
Как душит по ночам воспоминаний гнет!
Отчаянная боль заснуть мне не дает.
О несравненный Сахр, я снова слезы лью
О лучшем на земле, прославленном в бою…
Ты ненавидел зло, бесправье и насилье,
Несчастные к тебе за помощью спешили.
Злых духов не щадя, ты не щадил людей,
Что часто демонов коварнее и злей.
Тебе не страшен был судьбы свирепый шквал,
Задачи трудные ты быстро разрешал.
И я тебя забыть, единственный и милый,
Смогу лишь в вечной тьме, в безмолвии могилы.
И если б не было друзей в родном краю,
Я прервала бы жизнь постылую свою.
В жестокий этот час и в этом горе лютом
Лишь смерть мне кажется спасеньем и приютом
О брат, хранитель мой, — суровая беда
С утра до вечера со мной везде, всегда.
Как солнце ты всходил, и я, тебя утратя,
Рыдаю о тебе при солнечном закате…
«Глаза мои, плачьте…»
Глаза мои, плачьте, — еще пролилось
О Сахре родном недостаточно слез.
Весеннего был он щедрее дождя…
Но разве такого оплачешь вождя?
Был меч его острым, а перевязь длинной,
И в юности род он возглавил старинный.
Был первым во всем и по чести, по праву
Свою заслужил драгоценную славу.
Ее добывал он своими руками
И нес над толпой, как победное знамя…
Совсем молодой, он легко и умело
Свершал для других непосильное дело.
Ты видишь героя в холодной могиле?
Он верил, что люди его полюбили.
Он славою стан опоясывал свой
И кутался в славу, как в плащ боевой.

Лабид Перевод А. Ревича
{63}«Где становье? Увы!..»
Где становье? Увы! Ни следа не осталось в Мина,
Склоны гор обезлюдели, стала пустынна страна,
А в долине глухой Ар-Райян стерлись русла потоков,
Словно буквы на плитах, в которых жила старина.
Над покинутым стойбищем в будни и в праздник священный
Только ветры кружились, безмолвные шли времена.
Благо вешних дождей даровали руинам созвездья,
Часто шумною влагою рушилась ливня стена,
Ночью тучи над пустошью перекликались громами,
Днем сплошною завесой ползли от темна до темна,
Расплодились газели и страусы в этой долине,
Ветка с веткою в зарослях буйных переплетена,
Антилопы глазастые бродят беспечно по травам,
Их детенышам резвым дарована воля сполна.
Но, омытые водами, четче следы человека,
Время стерло строку, но прочерчены вновь письмена,—
Так незримый рисунок, иглой нанесенный на кожу,
Натирают сурьмою — и татуировка видна.
Вопрошал я руины, но разве немые ответят?
Вопрошал я напрасно, ответом была тишина.
Это место покинуто, род мой ушел из долины,
Наши рвы поросли сорняками до самого дна.
В день отъезда красавицы сели в свои паланкины.
О, как я их желал! Не взглянула из них ни одна.
В паланкинах укрылись они, как в логу антилопы,
Затаились безмолвно за пологом из полотна.
Паланкины казались мне стадом газелей из Важдры:
Тот, что меньше, — детеныш, и матка над ним склонена.
А потом паланкины качнулись, как пальмы под ветром,
Поглотило их знойное марево, даль, синева.
Вспоминаю Навар, но она далеко — не догонишь,
Наша связь прервалась, как натянутая бечева.
Дева племени мурра в далеких горах поселилась.
Но в каких — неизвестно. Куда же пуститься сперва?
На восток, там, где горы Тай-Аджа, где высится Сальма,
Или к Фарде, где склоны скалисты, густы дерева?
Может быть, караван моей милой направился в Йемен
Или в край, где возносится Вихаф-горы голова?
Ни к чему за несбыточным гнаться, рыдать, расставаясь.
Лишь в минуты разлук обретаем на встречу права.
Исчезает любовь. Ты становишься к тем благосклонен,
Кто на страсть не способен, но нежные дарит слова.
Не стремись же в дорогу. Что толку верблюдицу мучить,
По пустыням гонять, где ни куст не растет, ни трава.
Отощала верблюдица, вся она — кожа да кости,
Горб высокий обвис, поглядеть на нее — чуть жива,
Но бежит, повинуясь поводьям, как облако ветру,
Невесома, как туча, которая дождь излила.
Так в пустынную даль, обезумев, бежит антилопа,
У которой детеныша хищная тварь унесла.
И зовет антилопа теленка, и жалобно стонет,
Все напрасно — равнина безмолвна, пуста и гола.
Молоком бы своим накормила детеныша матка,—
Стая серых волков несмышленыша разорвала.
Кровожадные звери врасплох захватили добычу,
Смерть нельзя отвратить, никому не укрыться от зла.
Бродит мать одинокая ночь напролет под ненастьем,
Ни в песках, ни в кустах не отыщешь сухого угла,
Нет укрытья в лощине глухой под сыпучим барханом,
И в ущелье глубоком, и там, где нависла скала.
Полоса вдоль хребта антилопы исхлестана ливнем,
Беспросветная туча созвездия заволокла.
Антилопа по склонам упавшей жемчужиной скачет,
Ночью темною светится — так ее шкура бела.
На размокшей земле разъезжаются стройные ноги.
Ночь бессонная кончилась, и расступается мгла,
Но бежит антилопа, минуя источник Суаид,
Дни смешались и ночи, семь суток она не спала
И совсем обессилела от истощенья и горя,
А ведь прежде упитанной и крепконогой была.
Донеслись голоса человечьи, дрожит антилопа,
Хоть не видно охотников, знает, что близко беда.
Озирается в страхе рогатая, ждет нападенья.
Голоса приближаются. Надо бежать. Но куда?
А охотники поняли: цели стрела не достигнет.
Псов спустили они, и стремительных гончих орда
Антилопу настигла. Но та к ним рога повернула,
Словно копья, они протыкают врага без труда.
Поняла быстроногая: если собак не отгонишь,
Ей уже от погибели не убежать, и тогда
Поразила ближайшего пса, алой кровью омылась,
Отбивая атаки, стояла, как скалы, тверда.
Такова и верблюдица, мчится без устали в дали,
Где маячит миражем песчаных пригорков гряда.
Если начал я дело, его до конца довожу я,
Чтоб себя никогда не корить, не сгорать от стыда.
А ведь знала Навар, что, упрямый в своем постоянстве,
Лишь достойным я друг, с недостойными рву навсегда.
Сколько мест я прошел, лишь в могиле останусь навечно,
Смерть моя надо мною, как лезвие, занесена.
Ты не знаешь, Навар, сколько раз пировал я с друзьями,
И на шумные наши застолья глядела луна.
Сколько раз я входил в заведение виноторговцев,
Там всегда был народ, и взрастала на вина цена.
Как приятно вино из еще не початого меха,
Когда чистой водой разбавляется кубок вина.
Хорошо поутру пить вино, обнимая певицу
И внимая напеву, которому вторит струна.
Петухи запоют на заре — осушаем по первой,
А потом по второй, когда все пробудились от сна.
Сколько раз пробирал меня ветер, зарю оседлавший,
Пробирала до дрожи рассветная голубизна.
Сколько раз на коне боевом устремлялся я в схватку,
Опоясавшись поводом и натянув стремена.
Сколько раз я в дозоре стоял на горе, а из дола
Пыль сраженья вздымалась, ложилась на склон пелена.
Солнце шло на закат, и опасности подстерегали
Там, где тонет во тьме теневая горы сторона.
Я спускался в низину, где конь мой меня дожидался,—
Конокрады не в силах поймать моего скакуна,
Я гоню его вскачь, и летит он быстрее, чем страус,
Покрываются пеной крутые бока и спина,
И сползает седло, и лоснится вспотевшая холка,
И с железных удил белой пеной стекает слюна.
Рвет, ретивый, поводья и весь над землей распластался,—
Так к воде куропатки летят, чтоб поспеть дотемна.
«Я стар, но молоды всегда…»
Я стар, но молоды всегда созвездья в небесах,
Умру — останутся дворцы, вершины, тень в лесах.
Был добрый у меня сосед, мой друг и благодетель,
Но он верблюда оседлал и странствует в песках.
Клянет жестокую судьбу, виновницу разлуки.
Мы все судьбе подчинены, мы все в ее руках.
Любой из нас жилью сродни: вчера здесь обитали,—
Остался брошенный очаг, и пламень в нем зачах.
Мы — как падучая звезда, чей свет недолговечен:
Мгновенна вспышка, яркий след — и что осталось? Прах!
Богатство, счастье, дом, семья — нам все взаймы дается,
Вернем свой долг — и мы ни с чем и, значит, ждет нас крах.
Как двойственны дела людей: одни все время строят,
Другие многолетний труд крушат в единый мах.
Счастливцы есть, они живут в довольстве, в наслажденьях,
Другие же свой век влачат в печалях и трудах.
Я сам немало долгих лет бродил, сжимая посох,
Бездомный, словно пилигрим, и нищий, как монах.
Согбен я, — кажется, стою коленопреклоненный.
Преданий столько я храню о давних временах.
Я стал похожим на клинок, чьи ножны обветшали,
Но сталь достаточно остра, внушить способна страх.
Никто от смерти не уйдет, и срок ее назначен,
Мы приближаемся к нему, блуждая, как впотьмах.
Со мной ты споришь? Но скажи, кто, уходя из жизни,
Вернулся к нам? Где ты слыхал об этих чудесах?
Тебя печалит наш удел: был юноша — стал старцем,
Но и достойный человек проводит дни в слезах.
Зови на помощь ворожей, гаданья все испробуй,—
Никто не в силах предсказать, что сотворит Аллах.
Ан-Набига аз-Зубьяни Перевод А. Ревича
{64}«О, как преследует меня повсюду…»
О, как преследует меня повсюду вражья злоба!
Не сплю в тревоге по ночам, туманят слезы взор.
Я беззащитен, как змея, обманутая другом,
Предание о той змее известно с давних пор.
Змея сказала: «Человек, давай вражду забудем,
Я стану дань тебе платить, скрепим же договор».
Змее поклялся человек, что не замыслит злого.
Носила выкуп день за днем она ему в шатер.
Осталось выплатить змее лишь небольшую долю,
Тогда подумал человек, что хитрость не в укор,
Что бог его благословил и наделил богатством,
И если обмануть змею, то это не позор.
Он беден был, но стал богат и серебром и златом,
Решил он: «Погублю змею!» — он был в решенье скор
Он взял топор и стал точить на каменном точиле,
Потом проверил он металл, достаточно ль остер,
К норе подкрался, подстерег змею в своей засаде,
Но промахнулся невзначай, хотя рубил в упор.
Всевышний обратил к змее всевидящее око,
Благословляющую длань над нею бог простер.
И человек сказал змее: «Плати остатки дани,
Свидетель бог, не нарушай давнишний уговор».
Змея ответила ему: «Ты клятву сам нарушил.
Теперь я знаю, как ты зол, неверен и хитер.
Я смерть увидела в глаза и чудом избежала,
Случайно миновал меня отточенный топор».
«Тише, Умейма!..»
{65}Тише, Умейма! Я горькою думой объят,
Молча гляжу, как созвездья плывут на закат,
Тянется время, мне кажется: ночь бесконечна.
Дом я покинул, и нет мне дороги назад.
Сердцу изгнанника ночь возвращает заботы,
Полдень печален, а полночь печальней стократ.
Верен заветам родителя Амр-благодетель,
Сколько он милостей мне даровал и наград!
Знал я, что он победит, когда конным порядком
Высокородные шли — за отрядом отряд.
Мчатся герои в сраженье с отвагой орлиной,
Следом за войском стервятники в небе парят.
Сопровождают наездников хищные птицы,
Скоро отведают крови твоей, супостат!
Бой разгорается, грифы спустились на землю,
Сгорбясь, как старцы в пуховых бурнусах, сидят.
Все гассаниды отважны, сильны, без изъяна,
Только мечи их немало зазубрин хранят.
Эти мечи рассекают двойную кольчугу,
А из камней огневой высекают каскад.
Воинов бог одарил удивительным нравом:
Щедры они, а в бою не страшатся преград.
Слово господне живет в их Священном писанье,{66}
Вера их истинна, каждый для каждого — брат.
В платье нарядном встречают они воскресенье.
Ладан и миро на праздник друг другу дарят.
Юные девы приветствуют их поцелуем,
И дорогими одеждами каждый богат.
Все одеянья белы, зелены их оплечья,
Тело холеное в пышный одето наряд.
Этот народ благоденствует, но не надменен
И не становится слабым от бед и утрат.
«Спешьтесь, друзья…»
Спешьтесь, друзья, возле этих развалин с поклоном,
Если уместно почтенье к домам разоренным.
Пустошь вокруг, а ведь Нум здесь когда-то жила.
Ветер засыпал руины песком раскаленным.
Спрыгнув с верблюда, жилище я стал вопрошать:
«Где твои жители? Край этот был населенным!»
Камни могли бы о многом поведать — молчат,
Немы они, их молчанье понять нелегко нам.
Вижу я чахлые травы да мертвый очаг,
Нет ничего, что служило б от солнца заслоном.
Вспомнилась Нум. Как мы веселы были вдвоем! —
Рок нас еще не коснулся суровым законом.
Мы поверяли друг другу все тайны свои,
Все свои помыслы, как и пристало влюбленным.
Помнится: родичи Нум и собратья мои
Стали верблюдов седлать на рассвете студеном,
Нум на меня поглядела, был взгляд — как судьба,
Сердце мое от тоски задрожало со стоном.
Ночью слежу я, как звезды плывут на закат,
Свет их далекий ловлю я в просторе бездонном.
Что это — пламя костра или молнии блеск?
Нет, это лик моей Нум, затененный виссоном.
Сквозь покрывало сияет он мне по ночам,
Светится он в темноте перед взором бессонным.
Сколько я волчьих теснин миновал и равнин,
Сколько безводных пустынь под лучом полуденным
Я одолел на верблюде поджаром своем,
На быстроногом, бегущем по долам и склонам.
Кажется мне: на самце антилопы сижу,
Джинном испуганный, мчится он быстрым циклоном
Словно в Зу-Каре{67} иль Важдре отбился от стад
И без дороги плутает в краю отдаленном.
Ночь непогожая ливнем хлестала его,
Ветром, ломающим пальмы, слепым, разъяренным.
Он под деревья укрылся, чьи горьки плоды,
Ночь там провел, ненадежным доверившись кронам
Ночь посветлела, сменилась рассветною мглой,
Алый погожий восход завладел небосклоном,
И одинокий рогач был замечен стрелком,
Отпрыском рода Анмар и ловцом закаленным.
Эти охотники сыты, не знают нужды,
Ибо зверье настигают стрелой или гоном.
Рыщет охотник со сворой голодных собак,
Не попадайся им, злобным и неугомонным.
Свистнул охотник, всю свору пустил по следам.
Замер рогач, видно, счел отступленье уроном.
Голову он опустил, чтобы встретить врагов
Парой клинков, на собак устремленных с наклоном.
Первого пса он проткнул, — так владеет ножом
Мастер, строгающий стрелы с древком оперенным.
Миг — и второго зубами рогач полоснул,
В третьего метит он рогом, в крови обагренным.
Пса пригвоздил он к земле, словно воин — копьем,
Славный боец, он сразиться готов с легионом.
Семь подоспевших собак он рогами пронзил,
Меткий, как лучник, чьи стрелы взлетают со звоном.
Свору прикончив, он пыл свой еще не смирил,
Псов он топтал, не давая пощады сраженным.
После умчался галопом, как ветер степной,
Где-то вдали метеором сверкнул раскаленным.
Так и верблюд мой — бежит от зари до зари,
И никогда я не видел его утомленным.
«Преследует смертных судьба…»
Преследует смертных судьба и всегда настигает,
Судьбу же — увы! — ни поймать, ни вести в поводу.
За горло берет она всякого хваткою волчьей,
И даже властители с ней не бывают в ладу.
Внезапно она поражает стрелой смертоносной,
И первыми падают лучшие, как на беду.
Немало я видел пронзенных безжалостным жалом,
И гибнут они, как написано им на роду.
«Свернулся змей в кольцо…»
Свернулся змей в кольцо, как будто всех слабей,
Отводит он глаза, хоть нет стыда у змей.
Смиренным кажется коварный лицедей,
Как будто занят он лишь думою своей.
Он улыбается, но тронь его, посмей —
Он зубы обнажит, стальной иглы острей.
«Мечтают все до старости прожить…»
Мечтают все до старости прожить,
Но что за счастье — слишком долгий век?
С годами жизнь становится горька,
Бесплодная, как высохший побег.
Что может веселить на склоне лет?
Уходит время радостей и нег.
Умру — и злобно усмехнется враг,
Друзья вздохнут: «Был добрый человек!»
«Где ты, Суад?..»
Где ты, Суад? Без тебя я тоскую поныне.
В Шаре теперь ты живешь, в отдаленной долине.
Ты недоступна, враждебного племени дочь,
Только во сне тебя вижу, и сердце в унынье.
Кожей бела ты, — на рынок не возишь котлы,
Под покрывалом ты прячешься и в паланкине.
Речь твоя — музыка, лик твой — венец красоты,
Ты среди смертных красавиц подобна богине.
Помню упрек твой: «Погибели ищешь своей,
Только верблюду ты предан, седлу да гордыне».
Так я ответил: «Удел мой скитаться в песках.
Счастья, любви и покоя чуждаюсь отныне».
Мы оседлали верблюдов, мы двинулись в путь,
Богу вверяемся, хлеб добывая в пустыне.
Скоро услышишь о подвигах рода Зубьян,
Скоро пастушьи костры задымятся в низине,
Скоро повеет ненастьем от Уруль-горы,
Скоро раскинутся тучи в темнеющей сини.
Им не пролиться дождем у подножия Тин,
Склон обоймут, но не в силах подняться к вершине.
Путник бывалый расскажет тебе обо мне,
У домоседа ведь нет новостей и в помине.
Я с игроками пирую и щедрой рукой
Ставлю им яства и лучший напиток в кувшине.
Сутки порою верблюдица скачет моя —
Хоть и устала, но резво бежит по равнине,
Шаг прибавляет, к твоим приближаясь местам,
Словно собратьев почуяла на луговине.
Аль-Аша Перевод А. Ревича
{68}«Прощайся с Хурейрой!..»
Прощайся с Хурейрой! Заждался верблюд седока.
Тебе нелегко? Что поделать, разлука горька.
Непросто расстаться с красавицей густоволосой,
Чья поступь так вкрадчива и шелковиста щека.
Домой от соседки идет она плавной походкой,
Идет не спеша, словно облако в небе, легка.
Она повернется — и звонко стучат украшенья,
Как зерна фасоли в утробе сухого стручка.
Она никогда не заводит с соседками свары,
От всех пересудов и сплетен она далека.
Так стан ее тонок, что страшно: возьмешь — переломишь,
Но пышная грудь у нее и крутые бока.
В дождливое утро так сладко лежать с ней на ложе,
Любовнику пылкому с нею и ночь коротка.
Движенья ее осторожны, а как соразмерны
Упругие бедра и тонкая в кисти рука.
От платья ее веет мускусом и гиацинтом,
И нежное тело ее благовонней цветка,
Свежее зеленого луга, омытого ливнем,
Который низвергли плывущие вдаль облака.
На этом лугу, как созвездья, мерцают соцветья,
И каждый цветок, окруженный венцом ободка,
Прекрасен — особенно ночью, но все же померкнет
Пред милой моей, так ее красота велика.
Я пленник ее, но она полюбила другого,
А сердцу того человека другая близка,
А та, в свою очередь, дальнего родича любит
И тоже напрасно: его охватила тоска
По той, что меня полюбила, но мной не любима.
Любовь обернулась враждой. Как она жестока!
Поистине, каждый из нас и ловец и добыча,
Стремимся к любимым, но видим их издалека.
Не знаю, Хурейра, кого предпочла тыМаймуну,
Но как ты сурова со мной, холодна и резка.
Узнала, что я слепотою куриной страдаю?
Недоброй судьбы опасаешься наверняка!
Ты молвила мне: «Уходи! Ты несчастье приносишь!
Будь сам по себе! Не желаю в мужья бедняка!»
Ты видишь сегодня меня босиком и в лохмотьях,
Дай время — обуюсь в сандальи, оденусь в шелка.
Чужую жену я легко соблазню, если надо,
В чужое жилье проберусь я, как вздох ветерка.
В набег поведу смельчаков, и пленительный отрок
Мне спутником станет, вернее коня и клинка.
Не раз мне баранину жарил юнец безбородый,
Мы пили вино, принесенное из погребка.
Мои сотоварищи поняли: смерть ожидает
Богатого, нищего, юношу и старика.
Мы, лежа в застолье, соперничали в острословье
И пили, да так, что струилось вино, как река.
Бывает: за нами не в силах поспеть виночерпий,
Тогда сам хозяин хватает бурдюк за бока,
Проворно его поднимает, звеня ожерельем,
И в чаши вино наливает нам из бурдюка.
Напев полуголой невольницы слух нам ласкает,
Сливаются голос и лютня, как два ручейка.
Нам яства подносят красавицы в длинных одеждах,
Исполнят все прихоти, только кивни им слегка.
Я вдосталь вином наслаждался и женскою лаской,
В пустынях безводных дорога была нелегка,
В безлюдных местах, где глухой непроглядною ночью
Лишь злобные джинны вопят над волнами песка,
Где в полдень палящий не всякий осмелится ехать,
Где жажда и зной, где ни лужицы, ни родника.
Я эти пески пересек на поджаром верблюде,
Он к зною привычен, и поступь его широка.
«Я Кайса навестить хочу…»
{69}Я Кайса навестить хочу, как брата,
Я клятву дружбы взял со всех племен.
Я видел, как бурлит поток Евфрата,
Как пенится, когда он разъярен,
Как с боку на бок парусник швыряет,
Грозя низвергнуть на прибрежный склон.
Так укачало кормчего, беднягу,
Что в страхе за корму схватился он.
Но что Евфрат в сравненье с Кайсом щедрым?
Тот всем воздаст, никто не обделен,
И сто верблюдиц, крепких, словно пальмы,
Дарит он другу: не велик урон!
Ведь все сыны Муавии{70} такие,
Любой высок, прекрасен и силен.
По зову первому идут на помощь,
Все на конях, и не сочтешь знамен.
А как приятно с ними быть в застолье!
Их руки щедры, разговор умен.
Аль-Хутайа Перевод Н. Стефановича
{71}«Отстань и отойди…»
Отстань и отойди, будь от меня подале.
Молю Аллаха я, — убрать тебя нельзя ли?
Тебя считаю я презренным и дурным,—
Надеюсь, что тобой я тоже не любим.
Ты губишь каждого предательством, изменой,
Все тайны выведав в беседе откровенной.
Тебе когда-нибудь за все воздаст Аллах —
Любви не встретишь ты в своих же сыновьях.
Жизнь черная твоя приносит беды людям,
И смерти мы твоей все радоваться будем.
«Аллах тебе за все готовит наказанье…»
Аллах тебе за все готовит наказанье,
И прадедам твоим, и всем, кто жили ране.
Добро твое всегда притворство или ложь,
И праведность свою ты строишь на обмане…
Но ты собрал в себе, лелеешь, бережешь
Все виды подлости, грехов и злодеяний.
«О, как со мною вы безжалостны и злы…»
О, как со мною вы безжалостны и злы,
А я прославил вас, я вам слагал хвалы.
Пусть холит злобную верблюдицу рука —
Верблюдица не даст ни капли молока.
Я знал, что благодать к вам с неба снизойдет
За то, что вы меня спасете от невзгод.
Я был как жаждою измученный верблюд,
Я ждал, что здесь найду защиту и приют.
Но вижу, что от вас бесцельно ждать добра.
Что страннику опять в далекий путь пора…
Но разве виноват был праведный Багид,
Даря приют тому, кто брошен и забыт,
Кто предан, осрамлен, чей жребий так суров,
Кто бродит на земле, как дух среди гробов.
В свирепой ярости, пороча и кляня,
Зачем собаками травили вы меня?
За что же ненависть пылает в вас ко мне?
Так ненавистен муж порой своей жене…
За добрые дела мы благом воздаем —
Но мне за все добро платили только злом.
Чего ж тогда искать? На свете правды нет.
Будь счастлив, если ты накормлен и одет…
«В словах моих много и яда, и едких обид…»
В словах моих много и яда, и едких обид,
И кто-нибудь ими сегодня же будет побит.
Но если я сам изуродован волей Аллаха —
Мое же проклятье пускай и меня истребит…
ПОЭЗИЯ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Середина VII века — середина VIII века
Аль-Ахталь Перевод Н. Мальцевой
{72}«Он пьян с утра и до утра…»
Он пьян с утра и до утра мертвецки, как бревно,
Но держит голову его над чашею вино.
Он пьет, пока не упадет, сраженный наповал,
Порою кажется, что он рассудок потерял.
Мы ногу подняли его — другую поднял он,
Хотел сказать: «Налей еще!» — но погрузился в сон.
И мы глотаем за него, впадая в забытье,
На головню из очага похожее питье.
Налейте ж мне! Налейте всем! Да здравствует вино!
Как муравьи в песке, ползет в моих костях оно.
Так в лоне огненном возрос сын города сего,—
Росло и старилось вино, чтоб сжечь дотла его!
Горит звезда вина, горит! И он, страшась беды,
Спешит разбавить алый блеск прозрачностью воды.
И закипают пузырьки на дне, как будто там
Сто человечков, и они, смеясь, кивают нам.
«Тяжелой смолою обмазана эта бутыль…»
Тяжелой смолою обмазана эта бутыль,
Укутали бедра ее паутина и пыль.
Пока догадались красавицу нам принести,
Чуть старою девой не стала она взаперти!
И светлые брызги вина мимо чаши летят,
И благоуханен, как мускус, его аромат.
«Когда мы узнали друг друга…»
Когда мы узнали друг друга, в ту первую нашу весну,
Мы были подобны прозрачной воде облаков и вину.
«Когда, почуяв гостя…»
{73}Когда, почуяв гостя, пес залает у дверей,
Они на мать свою шипят: «Залей огонь скорей{74}!»
Они, забыв завет отцов, за родичей не мстят
И в день набега взаперти, как женщины, сидят.
Они из дому — ни на шаг! И бьюсь я об заклад,—
Они бы спрятались в кувшин, когда б не толстый зад!
«И, выпив, мы дружно почили…»
И, выпив, мы дружно почили, забыв впопыхах
Смиренно покаяться в наших ужасных грехах.
Три дня это длилось, а утром, без всяких чудес,
К нам бренного духа останки вернулись с небес.
Так ожили мы, удивляясь, что в этакий час
Не тащит в судилище ангел разгневанный нас.
Вокруг собирался народ — кто ругал, кто жалел,
А мы приходили в себя от свершившихся дел.
Не скрою, приятно мне смерть принимать от вина,
Но жизнь! — ах, стократ мне милее она!..
«Страдаю я в тиши ночной…»
Страдаю я в тиши ночной, и ты страдаешь тоже,
И под счастливою луной печально наше ложе.
На свете не было и нет, клянусь, несчастья хуже:
О прежней плачу я жене, а ты — о первом муже…
Аль-Фараздак Перевод Ю. Александрова
{75}«Бездушный рок разъединил меня…»
{76}Бездушный рок разъединил меня с возлюбленной моей.
В пустыне сердце я вспоил надеждой на свиданье с ней.
В постылой тьме своих ночей не знаю праведного сна.
Тоска моя все горячей. Но встреча вряд ли суждена.
Душа разлукою больна, растет недуг опасный мой.
Любовь — беда, но лишь она спасает от себя самой.
Покуда не помог Аллах, себе помочь я не могу.
Во всех своих земных делах пред ним, наверно, я в долгу.
Но, после бога, мне помочь оборониться от обид
И все преграды превозмочь — сумел великий аль-Валид.
О правоверных властелин, владыка жизни, мой халиф,
Здесь, после бога, ты один и всемогущ, и справедлив!
Ты — ставленник Аллаха, ты даруешь влагу в знойный час
Она влилась в сухие рты, когда измученных ты спас.
Ты доискался до причин и смуту жалкую пресек,
В которой женщин и мужчин губил бесчестный человек.
Не зря сверкал сирийский меч, его приспешников разя.
Их головы слетели с плеч. Иначе действовать нельзя.
Зато непобедим твои стан. Зато превыше туч и гор
Абу аль-Аса и Марван{77} воздвигли гордый твой шатер.
И всадники в тени его не зря устроили привал —
Сынам народа своего ты счастье щедро даровал.
Твои дары, о мой халиф, дошли теперь и до меня,
Восторгом душу окрылив, печаль постыдную гоня.
В твой край стремится мой верблюд, и крутизна горы Биран
Для стройных ног его — не труд, когда манит приветный стан.
Ему обильный водопой награда после пыльных круч.
А для моей любви слепой блеснул надежды робкий луч.
«Неприметный кувшин…»
Неприметный кувшин, искрометной наполненный влагой,
Стал похож на звезду, что пьянит небывалой отвагой.
Перед нами бутыль, для которой года не обуза —
Для вина далеки ль времена даже сына Хурмуза{78}!..
С той бутыли печать мы сегодня беспечно сорвали,
Чтоб напиток почать, вызревавший так долго в подвале.
И пускай седина предвещает конец безотрадный —
Мы с утра дотемна будем пить буйный сок виноградный.
За него мы взялись на рассвете, а кончим к закату.
Встречу смерть во хмелю — не замечу я жизни утрату.
«Вы, о всадники, мощных верблюдов…»
{79}Вы, о всадники, мощных верблюдов гонящие вдаль,
В тот предел, где я буду в ближайшие годы едва ль,—
Если вам, одолев столько трудностей неимоверных,
Доведется узреть повелителя всех правоверных,
Передайте мои, порожденные честью, слова:
«Та земля, что лежала в руинах, уже не мертва.
Покорился Ирак властелину арабского мира,
И отрады полно все, что было уныло и сиро.
Твой пылающий меч ниспослал всемогущий Аллах,
Чтобы стая врагов пожалела о подлых делах.
Чтобы головы прочь послетали во времени скором
У отступников тех, что казнимы на рынках с позором.
Сам Аллах ниспослал правоверным такого борца,
Что готов был сражаться за дело его до конца.
И когда зарычала война, жаждой крови пылая,
Рухнул меч твой на темя глупца, как звезда огневая.
Ты — наместник Аллаха, пришедший по праву сюда.
Потому и победа с тобой неразлучна всегда.
Над мекканским лжецом{80}, что посеял обман и разруху,
Разразилась гроза, ударяя по зренью и слуху.
Рухнул, череп дробя, на него с высоты небосвод.
А предательства плод не свалился в разинутый рот.
Этот враг был из тех, что наводят пустые порядки,—
Лил и лил свое масло в дырявый бурдюк без оглядки.
По вине честолюбца, который упрямей осла,
Бестолковая смута губила людей без числа.
И народ возопил, чтоб Аллах ниспослал нам халифа,
Ниспослал нам того, кто изгнал бы шакала и грифа.
Ведь Аллах милосерд и всегда открывает свой слух
Для людей, чей поник в нищете истомившийся дух.
Презирая скотов, ожиревших на привязи в стойле,
Ценит он скакунов, что в кровавом нуждаются пойле.
Зарычала война и, вонзив стремена, полетел
За отрядом отряд, нарушая привычный предел.
На поджарых сирийских конях мы промчались, могучи
По равнинам Востока, где пыль заклубилась, как тучи
По равнинам Востока скакал за отрядом отряд.
Войско Мусаба{81} наземь валил этот яростный град.
О герой, ты сметал, словно буря, любые преграды,
И мятежники пали, прося на коленях пощады.
Одержавший победу в жестокой, но правой войне,
Навсегда утвердился ты в этой немирной стране.
Мы слетели орлами с горячих высот небосклона,
И казались крылами твои боевые знамена.
Были копья красны, словно клювы неистовых птиц,
Их омывших в крови нечестивцев, поверженных ниц.
И высоко взносились погибших злосчастные души
Над колодцами смерти, над безднами моря и суши.
Наши копья пылали, военную славу неся,
И земля закраснела в ту пору, наверное, вся.
Но умолкли тревоги, минула година раскола,
И достойнейший твердо взошел по ступеням престола.
И в одежды Османа{82} его облачил сам Аллах,
Лучший род утверждая на гордых и мудрых делах.
И хранят это право надежные копья и латы,
И знамена твои, как в тревожные годы, крылаты».
«Перед юной насмешницей вновь…»
Перед юной насмешницей вновь подвергаюсь искусу,
Над моей сединой хохотать ей, как видно, по вкусу.
То подходит поближе, то вдруг отбегает опять,
Любопытная, как страусенок, — попробуй поймать!..
Горожанка, свой стан изогнувшая под покрывалом,—
Да ведь это погибель, сравнимая с горным обвалом!
Эта хищница нежная львице коварной сродни:
Загляни ей в глаза — прямо в сердце вонзятся они!..
Как потерянный бродишь, осилен любовным дурманом,
И стократно пасуешь, увы, перед женским обманом.
Хоть люблю, говорю я строптивому сердцу: «Забудь!»
К светлокожей красавице, нет, не направлю свой путь.
Для разлуки с прелестной достаточно вески причины.
Есть призванье достойнее для пожилого мужчины.
Но не слышит меня норовистое сердце мое,
В нем трепещет любовь, как стрела, как стальное копье.
Никуда не уйти от пустынной неистовой жажды,
И к источнику счастья нельзя не вернуться однажды.
«Я из племени сильных…»
{83}Я из племени сильных, из ветви с несмешанной кровью,
И звезда моя блещет, на стражу придя к изголовью.
Сад ибн Дабба{84} могучий меня воспитал при себе,—
Благороднейший, лучший среди закаленных в борьбе.
Вслед за ним и другие вели меня к яркому свету.
О вожди моей жизни, спасибо за выучку эту!
Да, немало вас было, защитников львиной семьи.
Вас душа не забыла, отцы мои, братья мои!
Грозным логовом в чаще была наша крепость святая,
Наши когти знавала врагов беспощадная стая,
Предводителей многих прикончили наши мечи,—
Не ублюдков убогих, что лишь на словах горячи,
Не подобных Джариру с дырявой его родословной,
А бойцов, что могли бы опасностью стать безусловной.
Так чего же ты хочешь, грозя мне с поджатым хвостом?
Честь свою не упрочишь бахвальством на месте пустом.
Я из племени Дабба, умевшего рати несчетной
Наносить пораженье — залог родословной почетной.
Не знаком я со страхом, бичом слабодушных людей.
Возведен я Аллахом по лестнице славы моей.
Мы, наследники славных, добавили доблесть свою
В этот строй равноправных, не дрогнувший в долгом бою.
Даже в годы сомнений, когда не поймешь человека,
Племя Хиндифа вечно хранимо величием века.
И на высшем совете в тревожный, решающий час
Были подвиги эти примером для многих из нас.
Мы вождями арабов не зря в годы мужества стали,
Нет, не зря проблистали мечи наши всплесками стали!
Наше войско в погоне самумом идет огневым,
И язычников кони легли на колени пред ним.
Боевые кольчуги, что иней сверкающий, белы.
Их колец не пронзают врагов оперенные стрелы.
Нечестивые слабы. А нам отворился весь мир.
Мы с тобою арабы. Подумай над этим, Джарир!
«Видя месяц и солнце, тоскую о том…»
{87}Видя месяц и солнце, тоскую о том, кто ушел без возврата:
Больше нет сына Лейлы, могучего Галеба, милого брата!..
Золотые светила с ним схожи лицом и душой благородной.
Был он вхож и к владыкам, и был он обласкан любовью народной.
Больше нет сына Лейлы, прекрасного Галеба, друга и брата.
Племя таглиб еще никогда не когтила такая утрата!
Если б Язбуль и Дамг, первозданные горы, узнали об этом,
То склонили бы скорбно вершины, венчанные снегом и светом.
«Ты спишь в земле, Саид…»
{88}Ты спишь в земле, Саид, утратив жизни силу.
Да увлажнит Аллах дождем твою могилу!
Она твой вечный дом, в Истахре{89} возведенный.
Уже не выйдешь ты на воздух раскаленный.
Да увлажнит Аллах дождем тот холмик малый!
Под ним ты спишь, Саид, без памяти усталый.
Подушкою земля тебе отныне стала.
Она и твой халат, она и покрывало…
А ты ведь был для всех как дождевая влага.
Ты расточал себя лишь для чужого блага.
И засуха-беда была тогда бессильна.
Была твоя любовь, как щедрый дождь, обильна.
Безмерна скорбь сейчас, когда песок зыбучий
Сокрыл тебя от нас, о друг мой самый лучший!..
Твоя вдова с детьми — со всеми пятерыми —
Льет слезы без конца, захлебываясь ими.
Горячих слез поток ей размывает очи.
А день вокруг поблек и стал угрюмей ночи.
«Зачастивший к виночерпию…»
Зачастивший к виночерпию, где напоят без отказа,
Не постится и не молится, позабыв слова намаза.
Ночью трет больную голову, стонет, охает, бранится,
А с утра все только думает, как ему опохмелиться.
Видел я подобных грешников, что лежат в пыли дорожной,
Несусветную нелепицу мелет их язык безбожный.
Вспомнил я при этом зрелище, проходя поспешно мимо,
Что лишь муки, муки адовы ждут их всех неотвратимо.
И, творя молитву вечером, я вознес хвалу Аллаху
За того, кто жизнью праведной божьему покорен страху.
«Разъяренная смерть объявилась в округе…»
{90}Разъяренная смерть объявилась в округе,
Поредел мой народ, оскудел он в недуге.
О, когда б я не знал, что бессильна мольба,
Я молил бы тебя неотступно, судьба.
Я молил бы вернуть этих юных и сильных,
Что лежат неподвижно в пределах могильных.
Поникаю душой, видя жалкий конец
Благородных умов и великих сердец.
Поникаю душой, слыша, как незнакомо
Стонет Аджадж, верблюд мой, гонимый от дома.
О жена, мне так трудно сейчас потому,
Что в беде не могу я помочь никому,
Что мечети безлюдны теперь, как пустыня,
Что иссякла, как мертвый родник, благостыня,
И уже развалились умерших дома,
И немало живущих лишилось ума…
Но среди молодых, уцелевших от мора,
Есть врачи — есть вожди, что помогут нам скоро.
Вижу: скачут, повесив на копья плащи,
Эти мощные всадники в хмурой ночи.
Кто-то, кажется, жилистой, тонкой рукою
Прикоснулся ко мне, дав начало покою.
Ночь проходит, но перед рассветом за ней
Скачет несколько черных, высоких коней.
Нет, еще не остыло ты, чувство утраты,
И тобой, словно камнем, надежды примяты!..
Сколько нежных красавиц ушло без любви,
Затерялось во мраке, зови не зови!..
Сколько славных мечей опустилось навеки,
Сколько слез обожгло материнские веки,
Сколько там кобылиц убежало в пески,
Вырвав повод из мертвой хозяйской руки…
«Имеет каждый две души…»
Имеет каждый две души: одна щедра и благородна,
Другая вряд ли чем-нибудь Аллаху может быть угодна.
И между ними выбирать обязан каждый, как известно,
И ждать подмоги от людей в подобном деле бесполезно.
«События в пути неведомы заране…»
События в пути неведомы заране.
Друзья, какую ночь провел я в Гарийяне!..
Был гостем у меня голодный волк поджарый,
Быть может, молодой, быть может, очень старый.
Вздыхал он и стонал, как изможденный нищий,
Уже не в силах сам разжиться нужной нищей.
Как тонкое копье, маячил он во мраке,
А ближе подойдя, подобен стал собаке.
Когда б нуждался он в одежде и приюте,
Я дал бы их ему, покорен той минуте.
Я поделился с ним едой своею скудной.
Верблюды прилегли, устав с дороги трудной.
Поблескивал песок. Пустыня чуть вздыхала
И в нежном блеске звезд со мною отдыхала.
Не будет путник тот угрюмым и суровым,
Что даже волка смог пригреть под звездным кровом
«Ахталь, старый смельчак…»
{91}Ахталь, старый смельчак, несмотря на враждебные силы
Перед смертью своей посетил гордых предков могилы.
Аль-Фараздаку взять под охрану от ярости мира
Поручил он и мать, и стада молодого Джарира.
Значит, племя Кулейба спасти их способно едва ли.
За подобным щитом не укрыться от злобы и стали.
Тонок он и дыряв, словно кожа на ножках овечьих.
Эти люди Кулейба — подонки, хоть выспрення речь их.
На обиду они не ответят хотя бы обидой.
Пред угрозой дрожат, как при виде гюрзы ядовитой.
А во время войны не видать их на поле сраженья —
За верблюжьим горбом замирают они без движенья.
Эти трусы Кулейба по-песьи скулят под пинками.
Как бараны они, обмаравшись, трясут курдюками.
Это племя бежит, захвативши пожитки в охапку.
Отшвырнул я его, как хозяйка — негодную тряпку!
«Я раскаяньем злым томим…»
Я раскаяньем злым томим и не в силах найти покой.
Разведен я с моей Навар. Как не думать о том с тоской!
Ведь покинуть ее навек — это значит утратить рай.
Как Адам, я лишен его безвозвратно — хоть умирай!..
Ныне я подобен слепцу, что глаза себе самому,
Обезумевши, проколол и при жизни сошел во тьму.
Разлучен с любовью Навар, одиноко бреду в пески.
Заменить ее мне могла б только смерть от своей руки.
О, когда бы обнять опять этот стан, этот жизни дар —
Я бы стал посильней судьбы, разлучившей меня с Нава
Мы расстались не потому, что она наскучила мне,—
Отобрал ее гневный рок по моей лишь глупой вине.
«Случалось мне порой…»
Случалось мне порой, бледнея от стыда,
Считать себя глупцом, но трусом — никогда.
И вот я повстречал в скитаниях ночных
Чудовищного льва средь зарослей речных.
И грива у него была, как черный лес,
И каждый коготь был, как месяц, нож небес.
Разинутая пасть ревела, как прибой,
Где в пене на клыки напорется любой.
Душа в моей груди померкла, словно свет.
Но я вскричал: «Вперед! Нам отступленья нет!
Коль ты, злодей ночной, сразиться сгоряча
Осмелишься со мной — отведаешь меча!
Ты все-таки слабей, чем, например, Зияд{92}.
А ну-ка прочь, злодей! Поберегись! Назад!»
Ему навстречу я шагнул с мечом в руке,
И зверь, взмахнув хвостом, укрылся в тростнике.
«Случись твоей судьбе…»
Случись твоей судьбе моею стать судьбою —
Ты видел бы сейчас пустыню пред собою.
Ты ехал бы по ней куда глаза глядят,
Не ведая тропы, что приведет назад.
И был бы шейхом ты в Омане{93}, где верблюды
Особенно умны, стройны, широкогруды.
Нигде покуда нет столь благородных стад,
Как у моей родни, у племени Маадд!
Он подо мной сейчас, бегун такого вида.
Его бы не смогли догнать гонцы барида{94}.
Погонщику с таким управиться невмочь:
Попробуй-ка ударь — уйдет от палки прочь!..
И ноги у него, у этого верблюда,—
Как лунные лучи в ночи, в минуту чуда.
Богатое седло и крепкая узда
Не снизят быстроты — полет, а не езда!
Подобный на бегу не станет головою
Беспомощно трясти — быть падалью живою.
А всадник — что ему все беды и дела!..
Лети себе вперед — и разорвется мгла!
Но ты — не я. Страшна тебе слепая участь
Запрятанных в тюрьму, где не спасет живучесть,
Где разрешат от бед лишь сизые мечи,
Что молча занесут над шеей палачи,
Когда душа стоит у воющей гортани,
Покинуть плоть свою готовая заране.
«Нас больше, чем камней…»
{95}Нас больше, чем камней на берегу морском,
И верных нам друзей не счесть в кругу людском.
Как недруг устоит, озливший наше племя?
Чей выдержит костяк той ненависти бремя?
В становищах своих иные племена
Возносят с похвальбой героев имена.
Но разве слава их сравнима с нашей славой,
Коснувшейся небес в года беды кровавой?!
Взошли от корня мы — от племени тамим,
И Ханзалы{96} завет мы бережно храним.
И таглиба семья взрастала с нами рядом
Кипучим, как листва, бесчисленным отрядом.
Нет, с племенем любым вы не равняйте нас,
Когда великих дел настанет грозный час!
Мы — каменный оплот, и об скалу-твердыню
Обломит зубы смерть, забыв свою гордыню.
А если Хиндиф{97} наш войдет в костер войны —
Зачинщиков ее сметут его сыны.
И если стан вождя друзей не скличет разом —
Их подчинить себе сумеет он приказом.
А трусов обратит высоких копий ряд
В союзников его надежнейший отряд!
Он, Хиндиф, наш отец, неверных сокрушая,
Сплотил всех мусульман — ему и честь большая.
Был царским торжеством его победный пир.
За Хиндифа, клянусь, отдам я целый мир!
Его любовь ни в чем не знает зла и страха,
И ненависть его сотрет врагов Аллаха.
Мы Кабу{98} сторожим и бережем Коран,
И в Мекку держит путь с дарами караван.
Мы благородней всех, чья кровь струится в жилах,
И тех, кто под землей покоится в могилах.
Сияет нам луна, и солнце с вышины
Благословляет нас для мира и войны.
Нам блещут небеса, и без конца, без края
Лежит у наших ног вся сторона земная.
И если бы не мы, не наш могучий стан —
Вошел бы чуждый мир в пределы мусульман.
Строптивых покарав своей рукой железной,
Сдержали мы разбег лишь над морскою бездной.
Но в яростных боях и ныне, как вчера,
Мы духов и людей смиряем для добра.
Лежит его чалма на всех, служивших свету,
И смерть сорвать с чела бессильна тяжесть эту.
Когда, когтя врагов, как соколы с высот,
Мы падаем на них — ничто их не спасет!
Суставы рубит меч и головы разносит.
У асад племя бакр пощады пусть не просит.{99}
Сраженья жернова — что камнепад в горах.
Несдавшийся Неджран размолот ими в прах.
Однако для его безвинного народа
Мы — как весенний дождь, упавший с небосвода.
В голодный год, когда, худущий, как скелет,
Шатается верблюд и в нем кровинки нет,
И нету молока у тощих и унылых
Верблюдиц молодых, которые не в силах
Тащиться по степи, обугленной дотла,—
Остановись, бедняк, у нашего котла!
Пусть Сириус встает в небесной черной тверди,
Пылая, как вулкан, одетый тучей смерти,
Но машрафийский меч, как молния разя,
Восстановил права, без коих жить нельзя.
И гостя мы всегда накормим и напоим
В пустыне, дышащей приветом и покоем.
«Кто поможет любви…»
Кто поможет любви, что вошла в мое сердце навеки?
Где лекарство для глаз, в темноте не смыкающих веки?
Кто починит жилище, похожее на голубка,
Что, взъерошенный ветром, укрылся в песке от песка?
Только солнце и дождь посещают мой дом отдаленный,
Только страус порой, подбежав, поглядит, удивленный,
Да самец антилопы пасется вблизи, потому
Что безлюдное место сулит безопасность ему.
Он — как белый верблюд одинокий, ушедший от стада
За верблюдицей вслед — ничего ему больше не надо…
Как увидеть мне Лейлу? Она принимала меня
В том становище славном, где часто слезал я с коня.
Благородство всегда защищало правдивых от сплетен,
А сейчас я молчу, пред лицом клеветы безответен.
Смотрят искоса люди на каждый мой краткий приезд.
Настоящего друга уже не отыщешь окрест.
На меня только глянув, муж Лейлы кривится от злости.
Рада челядь его перемыть нам безвинные кости.
Приезжал я когда-то без всякой опаски сюда.
Никакой соглядатай мне даже не снился тогда.
Но теперь я и сам на любого гляжу с подозреньем,
Видя то, чего нет, одичалым, затравленным зреньем.
Начинает казаться, что тайна моя на виду,
Что на голову Лейлы вот-вот я накличу беду.
А потом… А потом ото племя ушло из межгорья.
Видел я караван, потянувшийся в сторону моря.
Торопились верблюды, ненастье почуяв нутром,
Помрачнела долина, и в тучах послышался гром.
В спину ветер задул. Но тугие порывы ослабли
В месте том, где залив изогнулся, как лезвие сабли.
За гряду перевала уехала Лейла моя.
Сердце откочевало за нею в иные края…
Всех подружек ее вспоминаю сегодня в печали.
Как разумна Джануб!.. Только с Лейлой сравнится едва ли.
Как Тумадир прелестна — как с нею светло и легко!..
Но до солнечной Лейлы красавице той далеко.
В древнем замке своем, где-то между Евфратом и Тигром,
Предаются они то унылым раздумьям, то играм.
И душа моя, разом покинувши тело, вослед
Устремляется смело за теми, которых здесь нет.
И жестокая страсть, о которой молчал я доныне,
Словно сокол, когтит изнемогшее сердце в пустыне.
Набежавшие слезы пытаюсь упорно сдержать,
Но слеза за слезою в глазах накипает опять.
Если б кровью они, эти слезы обильные, стали —
Я бы в красном плаще устремился в пустынные дали!..
Словно нити с основой, сплелись мои чувства со мной —
Лишь любовью живу я, дышу я любовью одной.
Знай, о Лейла, мой друг: если вскоре умру от страданий —
Это лишь потому, что лишен я с тобою свиданий.
О, прости, дорогая, прости мне такую вину! —
Словно петля тугая сдавила мне горло в плену…
Я лежу на песке, недвижимый в тенетах бессилья —
Как останки орла, сохранившие пыльные крылья…
Но свиданье с тобою меня упасет ли от бед?
Не свернет ли с дороги любовью проложенный след?
Если ты в стороне, то сверну я туда безоглядно.
Мною правит любовь. Это чувство, как небо, громадно.
Вот он, замок высокий, украшенный древней резьбой.
В нем гнездо ясноокой, что стала моею судьбой.
Вижу я небосклон, вижу серую, мшистую стену…
Вижу смерть пред собой — да идет она жизни на смену!
Пред супругою шейха, который несметно богат,
Пресмыкаются слуги — ей каждый потворствовать рад.
Перед нею родня, лебезя, гнет покорную спину,
Чтобы через нее как-нибудь угодить властелину.
А пощады не будет, когда разъярившийся муж
За измену осудит — не без оснований к тому ж…
Но ведь мука любви побеждает ничтожество страха.
Может противостать эта боль даже гневу Аллаха.
И во время охоты пришел я к той самой степе,
Где однажды заметил печальную Лейлу в окне.
Сколько там ни бродил, ни сидел на забытой скамейке —
Все я не находил к моей Лейле надежной лазейки.
Но меня, очевидно, увидела также она,
Потому что веревка спустилась ко мне из окна.
Очутившись вдвоем после долгой, тяжелой разлуки,
Мы печально сплели задрожавшие, жаркие руки.
А в покоях курился неведомый мне аромат.
И любви нашей тайну хранить я поклялся стократ.
Утолила ты боль, истерзавшую всю мою душу.
Но, как страсть ни сильна, воли милой вовек не нарушу
Верность мужу хранила жестокая Лейла моя,
Хоть любви не таила и слезы лила в три ручья.
Ночь прошла. Петухи прокричали в рассветном тумане.
Поцелуй — как бальзам на смертельной, пылающей ране
Где-то ржавые петли на старых заныли дверях.
И тогда возвратился ко мне отрезвляющий страх.
«Как уйти?» — я спросил. Мы позвали Джануб. И веревка
Появилась опять, — велика у плутовки сноровка.
«Что со сторожем делать?» Но Лейла пожала плечом:
«Проскользнуть постарайся. Но действуй, коль надо, мечом.
Живо шею секи, без раздумья — с единого маха!»
И шагнул я в окно, положившись на волю Аллаха.
Обомшелые камни дрожали под робкой ногой,
Больно в тело впивался веревочный пояс тугой.
Этот замок высок — он горы твердокаменной выше,
И не всякий орел долетел бы до шпиля на крыше.
Высота этой башни вошла в мою память навек:
Став на плечи друг другу, сравнятся с ней сто человек!
Но, спустясь наконец, воротил я присутствие духа.
Грозных стражей боясь, навострил оба глаза и уха.
Но кругом было тихо. Махнул я прощально рукой
И пустился в дорогу, дрожа после встряски такой.
Только в доме родном, только дверь изнутри запирая,
Я опомниться смог и почувствовал радость без края.
Нескончаемо пела в ликующем сердце она
И в сознанье кипела, как светлая чаша вина.
Я подумал о том, как уснувшая Лейла прекрасна.
Пусть храпит ее муж, полагая, что ночь безопасна!
Без пощады обманут, как многих обманывал сам,
Пусть храпит он все громче, не ведая счету часам!
Пусть он дрыхнет, герой, позабывши о зренье и слухе,
Просыпаясь порой только лишь от урчания в брюхе!..
Отпусти мне, о боже, мой самый безвинный из всех
Целомудренной ночи невольно содеянный грех!

Джарир Перевод Н. Воронель
{100}«Дохнул в долину ветер медленный…»
Дохнул в долину ветер медленный, стирая память о былом,
Как плащ красавицы из Йемена, он прошуршал в песке сухом.
Пусть даже каждый, кто мне встретился, со мною встречи не желал,—
Спеша за ней и не заметил я, что всех в пути я растерял.
Зачем напрасно упрекать меня за страсть к возлюбленной моей:
Ведь я, упреки ваши слушая, люблю ее еще сильней.
Ушла, поблекла под гребенкою былая смоль моих кудрей,—
Смеются дерзкие красавицы над горькой старостью моей.
Не стоит ждать вестей из Сирии, к нам Дабик{101} не пришлет гонца,
Лишь Неджд мерцающей надеждою способен отогреть сердца.
Я принял горечь расставания, покинув замок Ан-Наммам,—
Сквозь море страха и страдания я в путь пустился по волнам.
Теперь страшусь врага открытого — он может разлучить сердца —
И тайного врага, чьи помыслы еще грязней его лица.
Когда в невзгодах вспоминаю я о племени родном тамим,
Вражду и злобу забываю я, тоской предчувствия томим.
Но удержать меча булатного без перевязи и ножон,—
Так я, в изгнание заброшенный, поддержки родственной лишен.
Я не стерпел, сказал красавице, какою страстью грудь полна,
Но, душу обнажив признанием, любви не вычерпал до дна.
Мне шепчут женщины из племени: «Передохни в пути! Постой!»
Но я, в ответ коня пришпоривши, спешу на встречу с красотой.
«Забуду ль ущелье Гауль…»
Забуду ль ущелье Гауль в короне седых вершин
Или долину Дарийя — жемчужину всех долин?
Я слышу твои упреки, но я говорю: «Не смей!
Ведь нет никакого дела тебе до судьбы моей!»
О, как избежать наветов, придуманных злой молвой?
О, как избежать сомнений, грозящих из тьмы ночной?
Вода в источнике чистом прозрачна и глубока,
А я, измученный жаждой, не смог отпить ни глотка.
По жажде моей Сулейма ничем не смогла помочь,—
Стремился ли к ней я страстно иль страстно стремился прочь,
Хоть грязного скопидома я сделал своим слугой,
Хоть грозному племени таглиб на горло я стал ногой.
Напрасно презренный Ахталь рискует играть с огнем:
Ведь я сокрушу любого, кто встал на пути моем.
Он думал: я — подмастерье и подмастерьям брат,
А я из славного рода, смирившего племя ад{102}.
А я из всадников смелых, из всадников рода ярбу,
Которые в смертной схватке решают свою судьбу.
Не робкие подмастерья врага погнали назад
При встрече с племенем зухль в становище бану-масад.
А где вы были, герои, в ту памятную весну,
Когда ваш славный Хузеиль томился у нас в плену?
Никто не спешил на помощь, когда, замедляя шаг,
Он плелся навстречу смерти в позорных своих цепях.
«Неужто мог я не узнать…»
{103}Неужто мог я не узнать родного пепелища
И рвов у стойбища Асбит, засыпанных песком?
Неужто мог забыть я Хинд, нещедрую для нищих,
Хоть и со щедростью ее я вовсе незнаком?
Клянусь, что я влюбленный взгляд скрывал, борясь с собою,
Боясь, что заведет любовь в опасные края.
Но прогнала она меня, чтоб страсть мою удвоить,—
Как будто бы возможна страсть сильнее, чем моя!
Что ж, если завтра я умру, меня оплачут братья
В ночь, когда хлынут с дальних гор потоки пенных вод,
Но Ахталю, при встрече с ним, в лицо хочу сказать я,
Что роду таглиб все равно позор он принесет.
Не так уж этот род высок, чтоб к небу лезть ветвями,
Не так силен, чтоб из ручья он первым пить посмел,—
И если Ахталь не сумел прославиться стихами,
Напрасно встал он под удар моих каленых стрел.
Давно бы Ахталю попять: он злит меня напрасно,
Он стал мишенью для сатир по собственной вине,
И для него борьба со мной не менее опасна,
Чем с всадником из рода кайс на взмыленном коне.
Наездники из рода кайс подобны волчьей стае —
На гребне битвы их волна кровавая несет.
На племя таглиб мы идем, преграды прочь сметая,
То ложно повернем коней, то вновь летим вперед.
«Ты тут останешься, Маррар…»
{104}Ты тут останешься, Маррар, а спутники твои уйдут,—
Возьмут верблюдов, а тебя они навек оставят тут.
Не уходите далеко! — ведь каждый обратится в прах,
Ведь каждый, кто сегодня жив, в свой срок останется в песках,
Тебя сравнил бы я, Маррар, с твоим прославленным отцом:
Всегда гордился мой народ таким вождем и мудрецом —
Тем, кто опорой был в беде, кто слабых защищал не раз,
Кто в души робких и больных вселял надежду в трудный час.
Боль и тоска мне душу рвут, но я спасенья не ищу,
И слезы горькие мои рекой стекают по плащу.
И над могилой я кричу: «Какой тут гордый дух зарыт!
Какого славного вождя скрывает свод могильных плит!»
Душа моя рвалась к тому, кто, словно месяц молодой,
Прохладой ветры одарял и насыщал дожди водой,
Чья смерть для преданных сердец была страшнее всех потерь,
С кем ни в долинах, ни в горах никто не встретится теперь!
Я утешения в беде прошу, рыдая и скорбя:
Мой край родимый опустел и стал пустыней без тебя!
Пускай седые облака плывут к могиле от Плеяд,
Пускай обильные дожди слезами землю оросят.
«Вчера пришла ко мне Ламис…»
{105}Вчера пришла ко мне Ламис, но не с добром пришла она:
Пришла расторгнуть связь любви с тем, чья душа любви полна.
Друг, я приветствую твой дом, я щедро шлю ему привет,
Но горькой старости моей ни от кого ответа нет.
Уходят девушки, смеясь над сединой в кудрях моих,
А ведь когда-то без труда я вызывал любовь у них,
Пока беспечно и легко несла меня страстей волна,
Пока я юности своей не исчерпал еще до дна.
Зубайр и родичи его теперь узнали наконец,
Что доверять нельзя тому, что говорит Фараздак-лжец,
Что не за племя, не за род, а за себя он встал горой,
Что в битве он — ничтожный трус и только на словах — герой.
Не сразу поняли они, что их надежда — только в нас:
Лишь мы сумеем защитить и поддержать в тяжелый час.
Лишь мы удержим рубежи и защитим гнездо свое,
А не Фараздак — жалкий трус, одетый в женское тряпье.
Беги, Фараздак, — все равно нигде приюта не найдешь,
Из рода малик день назад ты тоже изгнан был за ложь.
Твоим обманам нет конца, твоим порокам нет числа,
Отец твой — грязный водоем, в котором жаль купать осла.
Ты хуже всех, кого за жизнь я встретил на пути своем,
Ты думаешь, ты человек?. Нет, ты — ослиный водоем!
Для нас ты больше не герой! О, кем ты был и кем ты стал!
Какой позор, какой позор на наши головы упал!
«Затем Мухаммеда послал…»
{106}Затем Мухаммада послал на землю к нам Аллах,
Чтоб был тот мудр и справедлив во всех земных делах.
Ты, десятину отменив, мой доблестный халиф,
На благо вере, как пророк, был мудр и справедлив.
По всей земле идет молва о мудрости твоей,
И люди добрые в беде к тебе спешат скорей.
Не обойди же и меня доясдем своих щедрот,
Ведь вынужден влачить поэт ярмо земных забот.
А в мудрой книге завещал пророк нам на века:
«Будь милосерден к бедняку и к детям бедняка».
«Мне сказали: «За потерю бог воздаст тебе сторицей»…»
{107}Мне сказали: «За потерю бог воздаст тебе сторицей».
Я ответил: «Что утешит львят лишившуюся львицу?
Что меня утешить может в скорби о погибшем сыне?
Был мой сын зеницей ока, соколом взмывал к вершине.
Испытал его я в битве, испытал в лихой погоне,
Когда вскачь к заветной цели мчат безудержные кони.
Что ж, пускай тебя в Дейрейне враг оплакивать не станет —
Будут плакальщицы плакать над тобой в родимом стане!
Так верблюдица в пустыне стонет жалобно и тонко,
Когда, выйдя в час кормленья, видит шкуру верблюжонка.
А казалось, что смирилась, позабыла о потере,—
Но опять она рыдает, гибели его не веря.
Сердце мается, и плачет, и тоскует вместе с нею…
Наше горе так похоже, но мое еще сильнее.
Ведь остался я без сына, без пристанища, без дела,
Старость взор мой погасила, кости ржавчиной изъела.
Плачьте, вдовы Зу-Зейтуна, над лихой моей судьбою:
Умер сын, ушел из жизни, жизнь мою унес с собою!»
«Все упорствует Умама…»
{108}Все упорствует Умама, все бранит меня часами,
Хоть ее я днем и ночью ублажаю, как судьбу,
Но упрямая не слышит, как, играя бубенцами,
Караван идет в пустыне к землям племени ярбу.
Караванщики в дороге отдыхают очень мало,
Уложив в песок верблюдов и укрывшись в их тени
Или каменные глыбы выбирая для привала,
Когда плавятся от зноя солнцем выжженные дни.
Никнут всадники и кони, если ветер раскаленный
Золотые стрелы солнца рассыпает по степи,—
Так и я в твоем сиянье никну, словно ослепленный,
И опять молю Аллаха: «Символ веры укрепи!
Поддержи дела халифа и храни его, владыка,
Будь с ним рядом, милосердный, в светлый день и в трудный час,
Потому что с нами вместе он и в малом и в великом,
Он, как дождь, нас освежает, если дождь минует нас!»
Мой владыка справедливый, дело доброе вершишь ты,
Как целительный источник, чуждый лжи и похвальбе.
Как хотел бы я восславить мудрости твоей вершины.
Но твои деянья сами все сказали о тебе!
Лишь тебе хочу служить я, хоть в степях сухих я вырос,
Хоть мой род в степях кочует то на юг, то на восток.
Никогда бы землепашец жизни кочевой не вынес,
И кочевник землепашцем никогда бы стать не мог!
Сколько вдов простоволосых к доброте твоей взывали,
Простирая к небу руки, изможденные нуждой!
Скольких ты сирот утешил, почерневших от печали,
Обезумевших от страха, обездоленных бедой!
Ты бездомным и убогим заменил отца родного,
Не забыл птенцов бескрылых в милосердии своем,
И тебя благословляли эти сироты и вдовы,
Словно странники в пустыне, орошенные дождем.
У кого еще на свете им в беде искать спасенья,
И к кому идти с надеждой и с мольбой в недобрый час?
Мы скрываемся от бури под твоей державной сенью —
Снизойди, наместник божий, с высоты взгляни на нас!
Ты — страстям своим хозяин, о халиф благословенный!
По ночам Коран читая, ты идешь путем творца!
Украшение минбара, средоточие вселенной,
Ярким светом осветил ты сумрак царского дворца!
Господин, ты стал халифом по велению Аллаха,
И к заветному престолу ты взошел, как Моисей.
Лишь с тобою мы не знаем ни отчаянья, ни страха —
Только ты опора веры и оплот державы всей!
Ты — из славных исполинов, твердо правящих державой
На становище оседлом и в кибитке кочевой:
Если ты змею увидишь на вершине многоглавой,
Ты снесешь вершину вместе со змеиной головой.
Род твой воинами славен: даже в самых страшных битвах
Племя кайс перед врагами не привыкло отступать.
Я в стихах тебя прославил, помянул тебя в молитвах
С той поры, как злая воля повернула время вспять.
Равного тебе отвагой не встречал я исполина,
Не встречал я властелина, славой равного тебе,—
Я уверен: ты поможешь пострадавшему невинно,
Чтобы он расправил снова крылья, смятые в борьбе.
Не оставить ты поэта, если он убог и стар,
Потому что милосердье — это самый высший дар!
Маджнун (Кайс ибн аль-Мулаввах) Перевод С. Липкина
{109}«Если б ты захотел, то забыл бы ее…»
«Если б ты захотел, то забыл бы ее», — мне сказали.
«Ваша правда, но я не хочу, — я ответил в печали.—
Да и как мне хотеть, если сердце мучительно бьется,
А привязано к ней, как ведерко к веревке колодца,
И в груди моей страсть укрепилась так твердо и прочно,
Что не знаю, чья власть уничтожить ее правомочна.
О, зачем же на сердце мое ты обрушил упреки,—
Горе мне от упреков твоих, собеседник жестокий!»
Ты спросил: «Кто она? Иль живет она в крае безвестном?»
Я ответил: «Заря, чья обитель — на своде небесном».
Мне сказали: «Пойми, что влюбиться в зарю — безрассудно».
Я ответил: «Таков мой удел, оттого мне и трудно,
Так решила судьба, а судьбе ведь никто не прикажет:
Если с кем-нибудь свяжет она, то сама и развяжет».
«Заболел я любовью…»
Заболел я любовью, — недуг исцелить нелегко.
Злая доля близка, а свиданье с тобой — далеко.
О, разлука без встречи, о, боль, и желанье, и дрожь…
Я к тебе не иду — и меня ты к себе не зовешь.
Я — как птица: ребенок поймал меня, держит в руках,
Он играет, не зная, что смертный томит меня страх.
Забавляется птичкой дитя, не поняв ее мук,
И не может она из бесчувственных вырваться рук.
Я, однако, не птица, дорогу на волю найду,
Но куда я пойду, если сердце попало в беду?
«Клянусь Аллахом, я настойчив…»
Клянусь Аллахом, я настойчив, — ты мне сказать должна:
За что меня ты разлюбила и в чем моя вина?
Клянусь Аллахом, я не знаю, любовь к тебе храня,—
Как быть с тобою? Почему ты покинула меня?
Как быть? Порвать с тобой? Но лучше я умер бы давно!
Иль чашу горькую испить мне из рук твоих дано?
В безлюдной провести пустыне остаток жалких дней?
Всем о любви своей поведать или забыть о ней?
Что делать, Лейла, посоветуй: кричать иль ждать наград?
Но терпеливого бросают, болтливого — бранят.
Пусть будет здесь моя могила, твоя — в другом краю,
Но если после смерти вспомнит твоя душа — мою,
Желала б на моей могиле моя душа-сова{110}
Услышать из далекой дали твоей совы слова,
И если б запретил я плакать моим глазам сейчас,
То все же слез поток кровавый струился бы из глаз.
«Со стоном к Лейле я тянусь…»
Со стоном к Лейле я тянусь, разлукою испепеленный.
Не так ли стонет и тростник, для звонких песен просверленный?
Мне говорят: «Тебя она измучила пренебреженьем».
Но без мучительницы той и жить я не хочу, влюбленный.
«О, если бы влюбленных…»
О, если бы влюбленных спросили после смерти:
«Избавлен ли усопший от горестей любовных?» —
Ответил бы правдивый: «Истлела плоть в могиле,
Но в сердце страсть пылает, сжигает и бескровных.
Из глаз моих телесных давно не льются слезы,
Но слезы, как и прежде, текут из глаз духовных».
«Мне желает зла, я вижу…»
Мне желает зла, я вижу, вся ее родня,
Но способна только Лейла исцелить меня!
Родичи подруги с лаской говорят со мной,—
Языки мечам подобны за моей спиной!
Мне запрещено к любимой обращать свой взгляд,
Но душе пылать любовью разве запретят?
Если страсть к тебе — ошибка, если в наши дни
Думать о свиданье с милой — грех в глазах родни,
То не каюсь в прегрешенье, — каюсь пред тобой…
Люди верной и неверной движутся тропой,—
Я того люблю, как брата, вместе с ним скорбя,
Кто не может от обиды защитить себя,
Кто не ищет оправданий — мол, не виноват,
Кто молчит, когда безумцем все его бранят,
Чья душа объята страстью — так же, как моя,
Чья душа стремится к счастью — так же, как моя.
Если б я направил вздохи к берегам морским —
Всё бы высушили море пламенем своим!
Если б так терзали камень — взвился бы, как прах.
Если б так терзали ветер — он бы смолк в горах.
От любви — от боли страшной — как себя спасти?
От нее ломота в теле и нытье в кости.
«Одичавший, позабытый…»
Одичавший, позабытый, не скитаюсь по чужбине,
Но с возлюбленною Лейлой разлучился я отныне.
Ту любовь, что в сердце прячу, сразу выдаст вздох мой грустный
Иль слеза, с которой вряд ли знахарь справится искусный.
О мой дом, к тебе дорога мне, страдальцу, незнакома,
А ведь это грех ужасный — бегство из родного дома!
Мне запретны встречи с Лейлой, но, тревогою объятый,
К ней иду: следит за мною неусыпный соглядатай.
Мир шатру, в который больше не вступлю, — чужак, прохожий,—
Хоть нашел бы в том жилище ту, что мне всего дороже!
«О, сколько раз мне говорили…»
О, сколько раз мне говорили: «Забудь ее, ступай к другой!»,
Но я внимаю злоязычным и с удивленьем и с тоской.
Я отвечаю им, — а слезы текут все жарче, все сильней,
И сердце в те края стремится, где дом возлюбленной моей,—
«Пусть даст, чтоб полюбить другую, другое сердце мне творец.
Но может ли у человека забиться несколько сердец?»
О Лейла, будь щедра и встречей мою судьбу ты обнови,
Ведь я скорблю в тенетах страсти, ведь я томлюсь в тюрьме любви!
Ты, может быть, пригубишь чашу, хоть замутилась в ней любовь?
Со мной, хоть приношу я горе, ты свидишься, быть может, вновь?
Быть может, свидевшись со много, почувствуешь ты, какова
Любовь, что и в силках не гаснет, что и разбитая — жива?
Быть может, в сердце ты заглянешь, что — как песок в степи сухой —
Все сожжено неистребимой, испепеляющей тоской.
«Слушать северный ветер…»
Слушать северный ветер — желание друга,
Для себя же избрал я дыхание юга.
Надоели хулители мне… Неужели
Рассудительных нет среди них, в самом деле!
Мне кричат: «Образумь свое сердце больное!»
Отвечаю: «Где сердце найду я другое?»
Лишь веселые птицы запели на зорьке,
Страсть меня позвала в путь нелегкий и горький.
Счастья хочется всем, как бы ни было хрупко.
Внемлет голубь, как издали стонет голубка.
Я спросил у нее: «Отчего твои муки?
Друг обидел тебя иль страдаешь в разлуке?»
Мне сказала голубка: «Тяжка моя участь,
Разлюбил меня друг, оттого я и мучусь».
Та голубка на Лейлу похожа отчасти,
Но кто Лейлу увидит, — погибнет от страсти.
От любви безответной лишился я света,—
А когда-то звала, ожидая ответа.
Был я стойким — и вот я в плену у газели,
Но газель оказалась далёко отселе.
Ты пойми: лишь она исцелит от недуга,
Но помочь мне как лекарь не хочет подруга.
«В груди моей сердце чужое стучит…»
В груди моей сердце чужое стучит,
Подругу зовет, но подруга молчит.
Его истерзали сомненья и страсть,—
Откуда такая беда и напасть?
С тех пор как я Лейлу увидел, — в беде,
В беде мое сердце всегда и везде!
У всех ли сердца таковы? О творец,
Тогда пусть останется мир без сердец!
«Я вспомнил о тебе…»
Я вспомнил о тебе, когда, шумя, как реки,
Сошлись паломники, благоговея, в Мекке,
И я сказал, придя к священному порогу,
Где наши помыслы мы обращаем к богу:
«Грешил я, господи, и все тебе открылось,
Я каюсь пред тобой, — да обрету я милость,
Но, боже, я в любви перед тобой не каюсь,
Я от возлюбленной своей не отрекаюсь.
Я верен ей навек. Могу ль, неколебимый,
Я каяться в любви, отречься от любимой?»
«Бранить меня ты можешь, Лейла…»
Бранить меня ты можешь, Лейла, мои дела, мои слова,—
И на здоровье! Но поверь мне: ты не права, ты не права!
Не потому, что ненавижу, бегу от твоего огня,—
Я просто понял, что не любишь и не любила ты меня.
К тому же и от самых добрых, когда иду в пыли степной,—
«Смотрите, вот ее любовник!» — я слышу за своей спиной.
Я радовался каждой встрече, и встретиться мечтал я вновь.
Тебя порочащие речи усилили мою любовь.
Советовали мне: «Покайся!» Но мне какая в том нужда?
В своей любви — клянусь я жизнью — я не раскаюсь никогда!
«Я страстью пламенной к ее шатру гоним…»
Я страстью пламенной к ее шатру гоним,
На пламя жалобу пишу пескам степным.
Соленый, теплый дождь из глаз моих течет,
А сердце хмурится, как в тучах небосвод.
Долинам жалуюсь я на любовь свою,
Чье пламя и дождем из глаз я не залью.
Возлюбленной черты рисую на песке,
Как будто может внять земля моей тоске,
Как будто внемлет мне любимая сама,
Но собеседница-земля — нема, нема!
Никто не слушает, никто меня не ждет,
Никто не упрекнет за поздний мой приход,
И я иду назад печальною стезей,
А спутницы мои — слеза с другой слезой.
Я знаю, что любовь — безумие мое,
Что станет бытие угрюмее мое.
«За то, что на земле твои следы целую…»
За то, что на земле твои следы целую,
Безумным я прослыл — но прочь молву худую:
Лобзаю прах земной, земля любима мною
Лишь потому, что ты прошла тропой земною!
Пусть обезумел я — к чему мне оправданье?
Я так тебя люблю, что полюбил страданье!
С людьми расстался я, остался я в пустыне,
И только дикий зверь — приятель мой отныне.
«Она взглянула — взор ее…»
Она взглянула — взор ее заговорил вначале,
И взором я ответил ей, хоть оба мы молчали.
Казалось мне, что первый взгляд со встречею поздравил
А новый взгляд едва меня погибнуть не заставил.
То свет надежды мне сиял, то света никакого.
О, сколько раз и умирал и оживал я снова!
Я к ней иду — мне все равно, какие ходят слухи,
Дорогу к ней не преградят ни люди и ни духи!
«О, смилуйся, утренний ветер…»
О, смилуйся, утренний ветер, о Лейле поведай мне вновь
Тогда успокоюсь я — если совместны покой и любовь.
О, смилуйся, утренний ветер, надеждой меня оживи,
Не то я умру — если людям дано умереть от любви.
Навек утолил бы я жажду, была б моя участь проста,
Но если бы яд смертоносный ее источали уста.
«Во мраке сердца моего…»
Во мраке сердца моего она свой путь свершает длинный,
А для привала избрала его заветные глубины.
Переселяется в глаза, как только в сердце тесно станет,
А утомляются глаза — ее обратно в сердце тянет.
Клянусь создателем, что я такой признателен судьбине:
Ни в сердце, ни в глазах моих нет места для другой отныне!
«С тех пор как не стало ее пред глазами…»
С тех пор как не стало ее пред глазами,
Глаза мои мир заливают слезами.
Лишь только в одном станет сухо — как снова
Мой глаз увлажнится от глаза другого.
Слеза ли зажжется, щеку обжигая,—
Тотчас же ее догоняет другая.
Слеза за слезою струятся впустую,
И гонит одна пред собою другую.
«Ночной пастух, что будет со мною утром рано?..»
Ночной пастух{111}, что будет со мною утром рано?
Что принесет мне солнце, горящее багряно?
Что будет с той, чью прелесть во всем я обнаружу?
Ее оставят дома или отправят к мужу?
Что будет со звездою, внезапно удаленной,
Которая не гаснет в моей душе влюбленной?
В ту ночь, когда услышал в случайном разговоре,
Что Лейлу на чужбину должны отправить вскоре,
Мое забилось сердце, как птица, что в бессилье
Дрожит в тенетах, бьется, свои запутав крылья,
А у нее в долине птенцов осталось двое,
К гнезду все ближе, ближе дыханье ветровое!
Шум ветра утешенье семье доставил птичьей.
Сказали: «Наконец-то вернулась мать с добычей!»
Но мать в тенетах бьется, всю ночь крича от боли,
Не обретет и утром она желанной воли.
Ночной пастух, останься в степи, а я, гонимый
Тоскою и любовью, отправлюсь за любимой.
«Черный ворон разлуки…»
Черный ворон разлуки, зачем ты приносишь мне муки?
Отчего ты кричишь, что пророчат мне злобные звуки?
Не разлуку ли с Лейлой моей? Если сбудется это,—
Пусть ты вывихнешь крылья свои и невзвидишь ты света,
Пусть погибнешь, настигнутый меткой стрелой птицелова,
Пусть не будет птенцов у тебя и гнезда никакого,
Пусть воды позабудешь ты вкус, черный вестник злосчастья
Пусть погибнут птенцы твои вместе с гнездом от ненастья
Если ты полетишь, да погибель с тобой будет рядом,
Если сядешь, да встретишься ты с омерзительным гадом!
Пусть увидишь ты до наступления смертного часа,
Как твое будут жарить на угольях старое мясо,
Пусть в беспамятстве жалком у адского ляжешь преддверья
Пусть на части тебя разорвут и пусть вырвут все перья!
«Кто меня ради Лейлы позвал…»
Кто меня ради Лейлы позвал, — я тому говорю,
Притворясь терпеливым: «Иль завтра увижу зарю?
Иль ко мне возвратится дыхание жизни опять?
Иль не знал ты, как щедро умел я себя расточать?»
Пусть гремящее облако влагу приносит шатру
В час, когда засыпает любимая, и поутру.
Далека ли, близка ли, — всегда она мне дорога:
Я влюбленный, плененный, покорный и верный слуга.
Нет мне счастья вблизи от нее, нет покоя вдали,
Эти долгие ночи бессонницу мне принесли.
Наблюдая за мной, злоязычные мне говорят,—
Я всегда на себе осуждающий чувствую взгляд:
«Разлученный с одной, утешается каждый с другой,
Только ты без любимой утратил и ум и покой».
Ах, оставьте меня под господством жестокой любви,
Пусть и сам я сгорю, и недуг мой, и вздохи мои!
Я почти не дышу — как же мне свою боль побороть?
Понемногу мой дух покидает бессильную плоть.
«Как в это утро от меня ты, Лейла, далека…»
Как в это утро от меня ты, Лейла, далека!
В измученной груди — любовь, в больной душе — тоска!
Я плачу, не могу уснуть, я звездам счет веду,
А сердце бедное дрожит в пылающем бреду.
Я гибну от любви к тебе, блуждаю, как слепой,
Душа с отчаяньем дружна, а веко — со слезой.
Как полночь, слез моих поток не кончится вовек,
Меня сжигает страсть, а дождь струится из-под век.
Я в одиночестве горю, тоскую и терплю.
Я понял: встречи не дождусь, хотя я так люблю!
Но сколько я могу терпеть? От горя и огня,
От одиночества спаси безумного меня!
Кто утешенье принесет горящему в огне?
Кто будет бодрствовать со мной, когда весь мир — во сне?
Иль образ твой примчится вдруг — усну я на часок:
И призрак может счастье дать тому, кто одинок!
Всегда нова моя печаль, всегда нова любовь:
О, умереть бы, чтоб со мной исчезла эта новь!
Но помни, я еще живу и, кажется, дышу,
И время смерти подошло, и смерти я прошу.
«Вечером в Ас‑Сададайне…»
Вечером в Ас-Сададайне я вспомнил о милой:
Память о милой полна нестареющей силой.
Ворон разлуки расправил крыло между нами,
Много далеких дорог пролегло между нами,
Вот и гадаю, не зная, как мучиться дольше:
Меньше она меня любит в разлуке иль больше?
Властной судьбе дорогая подруга подобна:
И оживить и убить она взором способна,—
Все умирают, когда она сердится гневно,
Все воскресают, когда веселится душевно.
«Плачешь?» — спросили меня. Я ответил: «Не плачу.
Плачет ли доблестный духом, познав неудачу?
Просто соринка попала мне в глаз, и невольно
Слезы струятся, и глазу немножечко больно».
«Как же, — спросили, — другому поможешь ты глазу?
Видно, в два глаза попала сориночка сразу!»
«О, если бы Лейла мой пламень…»
О, если бы Лейла мой пламень в груди погасила!
Слезами его не залью, и судьба мне постыла,
И лишь ветерок из ее стороны заповедной
Приносит порой утешенье душе моей бедной —
Душе, где не зажили раны смятенья и страсти,
Хотя и считают иные, что тверд я в несчастьи.
Влечет меня в Йемен любовь, а блуждаю по Неджду,
Сегодня я чувствую горе, а завтра — надежду.
Да будет дождями желанными Неджд осчастливлен,
Аллах да подарит ему жизнедательный ливень!
Мы в Неджд на проворных верблюдах приехали рано,
Приятным приютом он стал для всего каравана.
Забуду ли женщин с пылающей негой во взоре,
Забуду ли нам сотворенных на радость и горе!
Когда они в сумерках ярким сверкали нарядом,
Они убивали нас быстрым, обдуманным взглядом…
И сильных верблюдов мне вспомнились длинные шеи,
Дорога в степи, что была всех дорог мне милее,
И там, в паланкине, — далекая ныне подруга,
За пологом косы свои заплетавшая туго.
От гребня ее, от кудрей с их волною живою
То розами пахло, то амброй, то свежей травою…
«Ты заплакал, когда услыхал…»
Ты заплакал, когда услыхал, как воркует голубка,—
Извиненья никто не нашел для такого поступка.
А голубка звала перепелку при солнце горячем,
И на стоны ее ты ответствовал стоном и плачем.
Та голубка на ветке, склоненной над влагой речною,
Говорила об утре, наполненном голубизною,
Будто время забыто, — без смысла те дни промелькнули,—
Что я в Гейле и в Джизе провел и в тенистом Тауле…
Друг сказал мне, увидев, что двинулось в путь мое племя:
«Собирайся и ты, — иль еще не пришло твое время?»
Но хотя я и проклял в отчаянье давнем судьбину,
Я на что-то надеюсь и Лейлы края не покину.
«Что такое страсть?..»
Что такое страсть? А вот что: если на длину копья
Сердце к угольям приблизить, — сразу их сожжет оно!
Разве это справедливо: как безумный я влюблен,
А твоя любовь — ни уксус и ни сладкое вино.
Если я и околдован, пусть с меня не снимут чар.
От недуга нет спасенья? Так и быть, мне все равно!
«Если скрылась луна — вспыхни там…»
Если скрылась луна — вспыхни там, где она отблистала.
Стань свечением солнечным, если заря запоздала.
Ты владеешь, как солнце, живительной силой чудесной,
Только солнце, как ты, нам не дарит улыбки прелестной.
Ты, подобно луне, красотою сверкаешь высокой,
Но незряча луна, не сравнится с тобой, черноокой.
Засияет луна, — ты при ней засияешь нежнее,
Ибо нет у луны черных кос и пленительной шеи.
Светит солнце желанное близкой земле и далекой,
Но светлей твои очи, подернутые поволокой.
Солнцу ль спорить с тобою, когда ты глазами поводишь
И когда ты на лань в обаятельном страхе походишь?
Улыбается Лейла — как чудно уста обнажили
Ряд зубов, что белей жемчугов и проснувшихся лилий!
До чего же изнежено тело подруги, о боже:
Проползет ли по ней муравей — след оставит на коже!
О, как мелки шаги, как слабеет она при движенье,
Чуть немного пройдет — остановится в изнеможенье!
Как лоза, она гнется, при этом чаруя улыбкой,—
И боишься: а вдруг переломится стан ее гибкий?
Вот газель на лугу с газеленком пасется ввеселье,—
Милой Лейлы моей не счастливей ли дети газельи?
Их приют на земле, где цветут благодатные вёсны,
Из густых облаков посылая свой дождь плодоносный…
На верблюдицах сильных мы поздно достигли стоянки,
Но, увы, от стоянки увидели только останки.
По развалинам утренний дождь громыхал беспрерывный,
А когда он замолк, зашумели вечерние ливни.
И на луг прилетел ветерок от нее долгожданный,
И, познав ее свет, увлажнились росою тюльпаны,
И ушел по траве тихий вечер неспешной стопою,
И цветы свои черные ночь подняла пред собою.
«Отправляется в путь рано утром все племя…»
Отправляется в путь рано утром все племя,
Расстаются друзья — и на долгое время.
Начинается перекочевка степная,
Разлучая соседей и боль причиняя.
У разлуки, чтоб мучить людей, есть искусство —
Замутит она самое чистое чувство.
«Меж Наджраном и Битей{112}, — сказал мне влюбленный,
Есть дождем орошенный приют потаенный».
Неужели утрачу я благоразумье?
С сединой на висках вновь познаю безумье?
Был я скромен и женщин стеснялся, покуда,
Лейла, ты предо мной не предстала, как чудо.
Жаждут женщины крови мужчин: ради мщенья
Или это — их месячные очищенья?
Говорят: «Среди нас избери ты подругу,
А от Лейлы лекарства не будет недугу».
Не понять им, что только ее мне и надо,
Что погасну я скоро без милого взгляда.
«Куропаток летела беспечная стая…»
Куропаток летела беспечная стая,
И взмолился я к ним, состраданья желая:
«Мне из вас кто-нибудь не одолжит ли крылья,
Чтобы к Лейле взлететь, — от меня ее скрыли».
Куропатки, усевшись на ветке араки,
Мне сказали: «Спасем, не погибнешь во мраке».
Но погибнет, как я, — ей заря не забрезжит,—
Если крылья свои куропатка обрежет!
Кто подруге письмо принесет, кто заслужит
Благодарность, что вечно с влюбленностью дружит
Так я мучим огнем и безумием страсти,
Что хочу лишь от бога увидеть участье.
Разве мог я стерпеть, что все беды приспели,
И что Лейла с другим уезжает отселе?
Но хотя я не умер еще от кручины,
Тяжко плачет душа моя, жаждет кончины.
Если родичи Лейлы за трапезой вместе
Соберутся, — хотят моей смерти и мести.
Это копья сейчас надо мной заблистали
Иль горят головни из пронзающей стали?
Блещут синие вестники смерти — булаты,
Свищут стрелы, и яростью луки объяты:
Как натянут их — звон раздается тревожно,
Их возможно согнуть, а сломать — невозможно.
На верблюдах — погоня за мной средь безводья.
Истираются седла, и рвутся поводья…
Мне сказала подруга: «Боюсь на чужбине
Умереть без тебя». Но боюсь я, что ныне
Сам сгорю я от этого страха любимой!
Как поможет мне Лейла в беде нестерпимой?
Вы спросите ее: даст ли пленнику волю?
Исцелит ли она изнуренного болью?
Приютит ли того, кто гоним отовсюду?
Ну а я-то ей верным защитником буду!..
Сердце, полное горя, сильнее тоскует,
Если слышу, как утром голубка воркует.
Мне сочувствуя, томно и сладостно стонет,
Но тоску мою песня ее не прогонит…
Но потом, чтоб утешить меня, все голубки
Так запели, как будто хрустальные кубки
Нежно, весело передавали друг другу —
Там, где льется вода по широкому лугу,
Где верховья реки, где высокие травы,
Где густые деревья и птичьи забавы,
Где газели резвятся на светлой поляне,
Где, людей не пугаясь, проносятся лани.
«Черный ворон разлуки…»
Черный ворон разлуки, угрюмый и неумолимый,
Ты и сам заслужил тяжкой боли вдали от любимой!
Объясни мне, о чем ты кричишь, опускаясь на поле?
Разъясни мне, что значит твой крик на заоблачной воле?
Если правда — твои прорицанья, о вестник страданий,
Да сломаешь ты крылья свои, задыхаясь в буране,
Да изгоем ты станешь, как я, притесненьем разбитый,
Да в беде не найдешь ты, как я, ни друзей, ни защиты!
«За ту отдам я душу…»
За ту отдам я душу, кого покину вскоре,
За ту, кого я помню и в радости и в горе,
За ту, кому велели, чтобы со мной рассталась,
За ту, кто, убоявшись, ко мне забыла жалость.
Из-за нее мне стали тесны степные дали,
Из-за нее противны все близкие мне стали.
Из-за нее возжаждал я дружбы супостата
И тех возненавидел, кого любил когда-то.
Уйти мне иль стремиться к ее жилью всечасно,
Где страсть ее бессильна, а злость врагов опасна?
О, как любви господство я свергну, как разрушу
Единственное счастье, возвысившее душу!
Любовь дает мне силы, я связан с ней одною,
И если я скончаюсь, любовь умрет со мною.
Ткань скромности, казалось, мне сердце облекала,
Но вдруг любовь пробилась сквозь это покрывало.
Стеснителен я, буйства своих страстей мне стыдно,
Врагов мне видно много, зато ее не видно.
«Ты видишь, как разлука высекла…»
Ты видишь, как разлука высекла, подняв свое кресало,
В моей груди огонь отчаянья, чтоб сердце запылало.
Судьба решила, чтоб немедленно расстались мы с тобою,—
А где любовь такая сыщется, чтоб спорила с судьбою?
Должна ты запастись терпением: судьба и камни ранит,
И с прахом кряжи гор сровняются, когда беда нагрянет.
Дождем недаром плачет облако, судьбы услышав грозы;
Его своим печальным спутником мои избрали слезы!
Клянусь, тебя не позабуду я, пока восточный ветер
Несет прохладу мне и голуби воркуют на рассвете,
Пока мне куропатки горные дарят слова ночные,
Пока — зари багряной вестники — кричат ослы степные,
Пока на небе звезды мирные справляют новоселье,
Пока голубка стонет юная в нарядном ожерелье,
Пока для мира солнце доброе восходит на востоке,
Пока шумят ключей живительных и родников истоки,
Пока на землю опускается полночный мрак угрюмый, —
Пребудешь ты моим дыханием, желанием и думой!
Пока детей родят верблюдицы, пока проворны кони,
Пока морские волны пенятся на необъятном лоне,
Пока несут на седлах всадников верблюдицы в пустыне,
Пока изгнанники о родине мечтают на чужбине,—
Тебя, подруга, не забуду я, хоть места нет надежде…
А ты-то обо мне тоскуешь ли и думаешь, как прежде?
Рыдает голубь о возлюбленной, но обретет другую.
Так почему же я так мучаюсь, так о тебе тоскую?
Тебя, о Лейла, не забуду я, пока кружусь в скитанье,
Пока в пустыне блещет марева обманное блистанье.
Какую принесет бессонницу мне ночь в безлюдном поле,
Пока заря не вспыхнет новая для новой, трудной боли?
Безжалостной судьбою загнанный, такой скачу тропою,
Где не найду я утешения, а конь мой — водопоя.

«Сказал я спутникам…»
Сказал я спутникам, когда разжечь костер хотели дружно:
«Возьмите у меня огонь! От холода спастись вам нужно?
Смотрите — у меня в груди пылает пламя преисподней,
Оно — лишь Лейлу назову — взовьется жарче и свободней!»
Они спросили: «Где вода? Как быть коням, верблюдам, людям?»
А я ответил: «Из реки немало ведер мы добудем».
Они спросили: «Где река?» А я: «Не лучше ль два колодца?
Смотрите: влага чистых слез из глаз моих все время льется!»
Они спросили: «Отчего?» А я ответил им: «От страсти».
Они: «Позор тебе!» А я: «О нет, — мой свет, мое несчастье!
Поймите: Лейла — светоч мой, моя печаль, моя отрада,
Как только Лейлы вспыхнет лик, — мне солнца и луны не надо.
Одно лишь горе у меня, один недуг неисцелимый:
Тоска во взоре у меня, когда не вижу я любимой!
О, как она нежна! Когда сравню с луною лик прелестный,
Поймете, что она милей своей соперницы небесной,
Затем что, черные, как ночь, душисты косы у подруги,
И два колышутся бедра, и гибок стан ее упругий.
Она легка, тонка, стройна и белозуба, белокожа,
И, крепконогая, она на розу свежую похожа.
Благоуханию ее завидуют, наверно, весны,
Блестят жемчужины зубов и лепестками рдеют десны…»
Спросили: «Ты сошел с ума?» А я: «Меня околдовали.
Кружусь я по лицу земли, от стойбищ я бегу подале.
Успокоитель, — обо мне забыл, как видно, ангел смерти,
Я больше не могу терпеть и жить не в силах я, поверьте!
С густо-зеленого ствола, в конце ночного разговора,
Голубка прокричала мне, что с милой разлучусь я скоро.
Голубка на ветвях поет, а под глубокими корнями
Безгрешной чистоты родник бежит, беседуя с камнями.
Есть у голубки молодой монисто яркое на шее,
Черна у клюва, на груди полоска тонкая чернее.
Поет голубка о любви, не зная, что огнем созвучий
Она меня сжигает вновь, сожженного любовью жгучей!
Я вспомнил Лейлу, услыхав голубки этой песнопенье.
«Вернись!» — так к Лейле я воззвал в отчаянье и в нетерпенье.
Забилось сердце у меня, когда она ушла отселе:
Так бьются ворона крыла, когда взлетает он без цели.
Я с ней простился навсегда, в огонь мое низверглось тело:
Разлука с нею — это зло, и злу такому нет предела!
Когда в последний раз пришли ее сородичей верблюды
На водопой, а я смотрел, в траве скрываясь у запруды,—
Змеиной крови я испил, смертельным ядом был отравлен,
Разлукою раздавлен был, несчастной страстью окровавлен!
Из лука заблужденья вдруг судьба в меня метнула стрелы,
Они пронзили сердце мне, и вот я гасну, ослабелый,
Отравленные две стрелы в меня вонзились, и со мною
Навеки распростилась та, что любит косы красить хною.
А я взываю: «О, позволь тебя любить, как не любили!
Уже скончался я, но кто направится к моей могиле?
О, если, Лейла, ты — вода, тогда ты облачная влага,
А если, Лейла, ты — мой сон, тогда ты мне даруешь благо,
А если ты — степная ночь, тогда ты — ночь желанной встречи,
А если, Лейла, ты — звезда, тогда сияй мне издалече!
Да ниспошлет тебе Аллах свою защиту и охрану,
А я до Страшного суда, тобой убитый, не воспряну».
«Если на мою могилу…»
Если на мою могилу не прольются слезы милой,
То моя могила будет самой нищею могилой.
Если я утешусь, если обрету успокоенье,—
Успокоюсь не от счастья, а от горечи постылой.
Если Лейлу я забуду, если буду стойким, сильным
Назовут ли бедность духа люди стойкостью и силой?
«Пусть любимую мою от меня они скрывают…»
Пусть любимую мою от меня они скрывают,
Пусть эмир и клеветник мне грозят, хоть мало значу
А рыдать моим глазам запретить они не смеют,
Им из сердца не дано вырвать ту, что в сердце прячу.
Клевета мою любовь вывернула наизнанку,
Чистоту назвав грехом, отняла мою удачу.
Только к богу я могу с жалобою обратиться:
«Посмотри, как больно мне, как я мучаюсь и плачу!»
«О, как мне нравится моя газель ручная…»
О, как мне нравится моя газель ручная:
Траву она не ест, ее жилье — шатер.
И шею и глаза взяла у диких сверстниц,
Но стан ее стройней, чем у ее сестер.
Боюсь я, что умру, поверженный любовью,—
О милости моля, я руки к ней простер.
Газель — жемчужина: ловцу она покорна —
Он раковину вскрыл, и глаз его остер.
«Клянусь я тем, кто дал тебе…»
Клянусь я тем, кто дал тебе власть надо мной и силу,
Тем, кто решил, чтоб я познал бессилье, униженье,
Тем, кто в моей любви к тебе собрал всю страсть вселенной
И в сердце мне вложил, изгнав обман и оболыценье,—
Любовь живет во мне одном, сердца других покинув,
Когда умру — умрет любовь, со мной найдя забвенье.
У ночи, Лейла, ты спроси, — могу ль заснуть я ночью?
Спроси у ложа, нахожу ль на нем успокоенье?
«Как только от нее письмо я получаю…»
Как только от нее письмо я получаю,—
Где б ни был я, — в приют укромный прихожу.
Страдалец, я свою оплакиваю душу,
Но оправдания себе не нахожу.
Ведь я ее люблю и добрую и злую,
И я себя всегда ее судом сужу.
О, долго ли она со мной сурова будет?
О, скоро ли ее любовь я заслужу?
«К опустевшей стоянке…»
К опустевшей стоянке опять привели тебя ноги.
Миновало два года, и снова стоишь ты в тревоге.
Вспоминаешь с волненьем, как были навьючены вьюки,
И разжег в твоем сердце огонь черный ворон разлуки.
Как на шайку воров, как вожак антилопьего стада,
Ворон клюв свой раскрыл и кричал, что расстаться вам надо.
Ты сказал ему: «Прочь улетай, весть твоя запоздала.
Я узнал без тебя, что разлука с любимой настала.
Понял я до того, как со мной опустился ты рядом,
Что за весть у тебя, — так умри нее, отравленный ядом!
Иль тебе не понять, что бранить я подругу не смею,
Что другой мне не надо, что счастье мое — только с нею?
Улетай, чтоб не видеть, как я умираю от боли,
Как я ранен, как слезы струятся из глаз поневоле!»
Племя двинулось в путь, опустели жилища кочевья,
И пески устремились к холмам, засыпая деревья.
С другом друг расстается — и дружба сменилась разладом.
Разделил и влюбленных разлучник пугающим взглядом.
Сколько раз я встречался на этой стоянке с любимой —
Не слыхал о разлуке, ужасной и непоправимой.
Но в то утро почувствовал я, будто смерть у порога,
Будто пить я хочу, но отрезана к речке дорога,
У подруги прошу я воды бытия из кувшина,
Но я слышу отказ; в горле жажда, а в сердце — кручина…
«Весь день живу, как все…»
Весь день живу, как все, но по путям ночным
Бегу, бессонницей моей к тебе гоним.
Весь день я разговор с соседями веду,
Но по ночам горю в безумии, в бреду.
Так сопряжен со мной моей любви огонь,
Как с пальцами руки сопряжена ладонь.
Я б упрекал тебя, чтобы помочь себе,
Но разве польза есть в упреках иль в мольбе?
Тобою плоть моя превращена в стекло —
Смотри же, что в моей душе произошло.
Желаю ли с тобой свидания? Увы,
Кто много возжелал, лишился головы!
«Что делать вечером бредущему в тоске?..»
Что делать вечером бредущему в тоске?
С камнями речь веду, рисую на песке,
Потом рисунок свой слезами я смываю,
И вороны кричат, садясь невдалеке.
«Я с ней простился взглядом…»
Я с ней простился взглядом, слезами обливаясь.
Сказать ей в день разлуки мне не дали ни слова.
Но можно ли слезами навек проститься с сердцем?
Кто видел в мире этом влюбленного такого?..
Живи, не зная горя, до воскресенья мертвых,
Когда погаснет солнце и воссияет снова.
«Ужель потому ты заплакал…»
Ужель потому ты заплакал, что грустно воркует,
Другой отвечая, голубка в долине зеленой?
Иль прежде не слышал ты жалоб и стонов голубки?
Иль прежде разлуки не знал ты, на боль обреченный?
Иль ты не видал, как заветное люди теряют?
Иль так же, как ты, ни один не терзался влюбленный?
Да брось ты о Лейле вздыхать: тот, кто любит, — несчастен,
И страсть, без надежды, томится в душе потрясенной.
«Только тот — человек…»
Только тот — человек, тот относится к людям, кто любит.
Кто любви не изведал, тот нравом бесчестен и зол.
Я ее упрекал, но она мне сказала: «Клянусь я,
Что верна я тебе и что день без тебя мне тяжел.
Ты ко мне приходи, если этого сильно ты хочешь,
Ибо я еще больше хочу, чтоб ко мне ты пришел».
«О Лейлы ласковый двойник…»
О Лейлы ласковый двойник, ты будь ко мне добрей:
Недаром другом я тебя избрал среди зверей!
О Лейлы ласковый двойник, не убегай отсель,
Быть может, долгий мой недуг ты исцелишь, газель.
О Лейлы ласковый двойник, мне сердце возврати:
Оно, как бабочка, дрожит, зажатое в горсти.
О Лейлы ласковый двойник, ты мне волнуешь кровь,
И ту, что не могу забыть, напоминаешь вновь.
О Лейлы ласковый двойник, со мной часок побудь,
Чтоб от больной любви моя освободилась грудь.
О Лейлы ласковый двойник, не покидай лугов,
Да вечно будешь ты вдыхать прохладу облаков.
Ты так похожа на нее, ты — счастье для меня,
И я поэтому тебе — защита и броня.
Тебя на волю отпущу, ступай ты к ней в жилье.
Спасибо ей за то, что ты похожа на нее!
Твои глаза — ее глаза, ты, как она, легка,
Но только ножки у тебя — как стебли тростника.
Весь божий мир, о Лейла, вся безмерность естества
Мою любовь, мою печаль в себе вместят едва!
Мне всё напоминает дни, когда с тобой вдвоем
Мы шли в степи, цвела весна — те дни мы не вернем!
Свой взгляд горящий от тебя пытаюсь отвести,
Но он упорствует: к другой нет у него пути.
Быть может, если по земле пойду как пилигрим,
С тобою встречусь я в горах и мы поговорим?
Душа летит к тебе, но я ей воли не даю:
Стыдливость в этом усмотри природную мою.
О, если б то, что у меня в душе сокрыто, вдруг
Тебе открылось, — поняла б, что я — хороший друг.
Спроси: кому когда-нибудь утяжелял я путь?
Спроси: я причинял ли зло друзьям когда-нибудь?
«Мне говорят: «В Ираке она лежит больная…»
Мне говорят: «В Ираке она лежит больная,
А ты-то здесь, здоровый, живешь, забот не зная».
Молюсь в молчанье строгом о всех больных в Ираке,
Заступник я пред богом за всех больных в Ираке,
Но если на чужбине она — в тисках болезни,
То я тону в пучине безумья, в смертной бездне.
Из края в край брожу я, мои разбиты ноги,
Ни вечером, ни утром нет к Лейле мне дороги.
В груди моей как будто жестокое огниво,
И высекает искры оно без перерыва.
Лишь вспомню я о Лейле, душа замрет от страсти,
И кажется: от вздохов рассыплется на части…
Дай мне воды глоточек, о юное светило,
Что и луну блистаньем и молнию затмило!
Ее чернеют косы, — скажи: крыла вороньи.
В ней все — очарованье, томленье, благовонье.
Скитаюсь, как безумный, любовью околдован,
Как будто я цепями мучительными скован.
С бессонницей сдружился, я стал как одержимый,
А сердце бьется, стонет в тоске непостижимой.
Весь от любви я высох, лишился прежней силы —
Одни остались кости, одни сухие жилы.
Я знаю, что погибну, — так надобны ль упреки?
И гибель не погасит любви огонь высокий.
Прошу вас, напишите вы на моей могиле:
«Любовь с разлукой вместе несчастного убили».
Кто мне поможет, боже, в моей любви великой
И кто потушит в сердце огонь многоязыкий?
«Красавицы уничтожают поклонников своих…»
Красавицы уничтожают поклонников своих.
О, если бы они умели страдать от мук живых!
Их кудри словно скорпионы, что больно жалят нас,
И нет от них противоядья, мы гибнем в тяжкий час.
Но, впрочем, есть противоядье: красавицу обнять,
Поцеловать ее, желая поцеловать опять
Ту, у которой грудь и плечи прекрасней жемчугов,—
Они белей слоновой кости и девственных снегов!
Красавицы в шелках блистают, одежда их легка,
Но кожу нежную изранить способны и шелка.
Их стан — тростинка, но при этом их бедра широки.
О, как стремлюсь я к тонкостанным всем бедам вопреки
О ты, что к юношам в жилища ночным приходишь сном,
К тебе еще я не стучался в молчании ночном.
«У газеленка я спросил…»
У газеленка я спросил: «Ты милой Лейлы брат?»
«Да, — он ответил на бегу, — так люди говорят».
Ее подобье, ты здоров, а милая больна,—
Несправедливо! Ибо нам понятно: не она
Похожа на газель в степи, — приманку для сердец,—
А нежная газель взяла ее за образец.
«Я понял, что моя любовь…»
Я понял, что моя любовь меня ведет туда,
Где нет ни близких, ни родных, где мне грозит беда,
Где лишь седло да верный конь — товарищи мои,
Где в одиночестве глухом пройдут мои года.
Привязанности все мои разрушила любовь
С такою силой, что от них не видно и следа.
Любви я предан целиком — и телом и душой.
Кто прежде так любил, как я? Никто и никогда!
«Ты найдешь ли, упрямое сердце…»
«Ты найдешь ли, упрямое сердце, свой правильный путь?
Образумься, опомнись, красавицу эту забудь.
Посмотри: кто любил, от любви отказался давно,
Только ты, как и прежде, неверной надежды полно.
Кто любил, — о любви позабыл и спокоен весьма,
Только ты еще бредишь любовью и сходишь с ума!»
Мне ответило сердце мое: «Ни к чему руготня.
Не меня ты брани, не меня упрекай, не меня,
Упрекай свои очи, — опомниться их приневоль,
Ибо сердце они обрекли на тягчайшую боль.
Кто подруги другой возжелал, тот от века презрен!»
Я воскликнул: «Храни тебя бог от подобных измен!»
А подруге сказал я: «Путем не иду я кривым,
Целомудренный, верен обетам и клятвам своим.
За собою не знаю вины. Если знаешь мой грех,
То пойми, что прощенье — деяний достойнее всех.
Если хочешь — меня ненавидь, если хочешь — убей,
Ибо ты справедливее самых высоких судей.
Долго дни мои трудные длятся, мне в тягость они,
А бессонные ночи еще тяжелее, чем дни…
На голодного волка походишь ты, Лейла, теперь,
Он увидел ягненка и крикнул, рассерженный зверь:
«Ты зачем поносил меня, подлый, у всех на виду?»
Тот спросил: «Но когда?» Волк ответствовал: «В прошлом году».
А ягненок: «Обман! Я лишь этого года приплод!
Ешь меня, но пусть пища на пользу тебе не пойдет!..»
Лейла, Лейла, иль ты — птицелов? Убивает он птиц,
А в душе его жалость к бедняжкам не знает границ.
Не смотри на глаза и на слезы, что льются с ресниц,
А на руки смотри, задушившие маленьких птиц».
«Странно мне, что Лейла спит…»
Странно мне, что Лейла спит в мирном, тихом доме,
А мои глаза пути не находят к дреме.
Лишь забудутся они, — боль их не забудет,
Стоны сердца моего сразу их разбудят.
Лейла, был со мной всю ночь образ твой чудесный,
Улетел он, как душа из тюрьмы телесной.
Долго не было его — прилетел он снова.
Где там ласка: упрекать стал меня сурово!..
«Из амир‑племени жену…»
{113}Из амир-племени жену, навек разъединив
С ее роднёю, взял супруг из племени сакиф.
Когда въезжала Лейла в Нахль, был грустен влажный взгляд.
Верблюды, шею изогнув, смотрели всё назад.
В неволе милая моя у тучных богачей,—
Желают родичи ее лишь денег да вещей.
Но что придумать нам, друзья, но что нам сотворить,
Чтоб с Лейлой встретиться я мог и с ней поговорить?
А если сделать ничего не можем в эти дни,—
Что ж, невозможного хотим, увы, не мы одни.
На караван моей любви я издали смотрел.
Гнал ветер облако над ним, стремясь в чужой предел.
В долине между горных скал шумел речной поток,
Скакали кони по тропе, бегущей на восток.
А я смотрел на караван, что милую увез,
И мне казалось, что сейчас ослепну я от слез.
«Газель, ты на Лейлу похожа до боли…»
Газель, ты на Лейлу похожа до боли.
Ступай нее, достойная радостной доли:
От смерти спасло тебя сходство с подругой,—
Порвало силки, чтоб жила ты на воле.
«Пусть, по ее словам…»
Пусть, по ее словам, моя любовь ей не нужна,—
Я создан для ее любви, а для моей — она.
И если мысль — ее забыть — со мной тайком хитрит,
То совесть, эту мысль прогнав, мне правду говорит:
Моя подруга создана отрадою самой,
Она мила, она стройна, она сходна с весной!
О, если б я огонь извлек, что в сердце я таю,
Объял бы с головы до ног он милую мою,
Любовь, что дремлет у меня во глубине души,
Баюкала б ее, склонясь над ней в ночной тиши.
«Ты видишь, — другу я сказал, — как Лейла мне мила,
Как велика моя любовь и как ее мала».
«Когда нельзя прийти мне к Лейле…»
Когда нельзя прийти мне к Лейле, — вдали от милой, безутешен,
Я плачу, как больной ребенок, что амулетами увешан.
Кто нескудеющие слезы, кто слезы жаркие остудит?
Им, как моей разлуке с милой, мне кажется, конца не будет!
На суток несколько в Зу-ль-Гамре я сам расстался с ней когда-то,
Как я раскаиваюсь в этом, как тяжела была утрата!
Когда прошли те дни Зу-ль-Гамра, — разлуки наступили сроки,
Я совести своей услышал невыносимые упреки.
О, как я мучаюсь в разлуке и поутру и на закате,—
Так любящая мать страдает вдали от своего дитяти.
Мне стоит о тебе подумать, как я теряю всякий разум,
Пока я на тебя, безумный, хотя б одним не гляну глазом.
Но я мечтаю, что однажеды с тобою встречусь в день отрадный, —
Так умирающий от жажды мечтает о воде прохладной.
«Я влюблен, и состраданья лишь от господа я жду…»
Я влюблен, и состраданья лишь от господа я жду:
От людей я вижу только притесненье и беду.
По ночам гляжу на звезды, вечной болью изнурен,
А мои друзья вкушают в это время сладкий сон.
Я задумчив и печален, я безумием объят,
А мое питье и пища — колоквинт и горький яд.
До каких мне пор скитаться и рыдать в степной глуши?
Что мне делать с этой жизнью? Лейла, ты сама реши!
Сам Джамиль ибн Мамар{114} не был страстью столько лет палим,
И такой любви всевластной не испытывал Муслим{115},
Ни Кабус, ни Кайс — мой тезка — не любили так подруг,
Ни араб, ни чужестранец не познали столько мук.
И Дауд когда-то вспыхнул, на любовь свою взглянув,
И, открыв соблазны страсти, стал безумствовать Юсуф{116},
И влюбился Бишр, и Хинде не хотелось ли проклясть
Всегубительную силу — упоительную страсть?
И Харута эта сила чаровала вновь и вновь,
И Марута{117} поразила беспощадная любовь.
Так могу ли я, влюбленный, не блуждать в ночи глухой,
Так могу ли я не плакать, обессиленный тоской?
Если бы не ночь, то душу у меня бы отняла
Та, что ранит и врачует, — и лекарство и стрела!
Чем возлюбленная дальше, тем любовь всегда сильней.
Кто любовь мою утешит, кто подумает о ней?
Прилетел восточный ветер и огонь разжег в груди,
И влюбленному велел он: «От любви с ума сойди!»
Что таит слеза безумца? Кто ответит на вопрос?
Должен кто-нибудь проникнуть наконец-то в тайну слез!
Я красноречив, но слова о любви не обрету:
Слезы — те красноречивей, хоть познали немоту!
Разве может скрыть влюбленный то, что в сердце зажжено?
Разве жар неутоленный спрятать смертному дано?
Призрак, прежде чем украдкой ты во тьме пришел ко мне,
Я услышал запах сладкий в полуночной тишине.
Это дуновенье луга, орошенного дождем:
Он, сперва росой заплакав, улыбается потом.
«Лейла, надо мной поплачь…»
Лейла, надо мной поплачь, — я прошу участья.
Оба знаем — я и ты, — что не знаем счастья.
Мы в одном краю живем, но всесильна злоба,—
И несчастны мы вдвоем, и тоскуем оба.
Подари ты мне слезу — светлое даренье.
Я — безумие любви, я — ее горенье.
Сердцем обладаешь ты добрым, нежным, зрячим,
Так поплачь же надо мной, помоги мне плачем.
Обменяться нам нельзя сладкими словами,—
Обменяемся с тобой горькими слезами.
«Когда я, став паломником…»
Когда я, став паломником, найду ее у врат
Святого дома божьего, где голуби парят,
Тогда своей одеждою коснусь ее одежд,
Отринув запрещения зловредных и невежд.
Она развеет боль мою улыбкою одной,
Когда у ложа смертного предстанет предо мной.
Подобных мне и не было, сгорающих дотла,
Желающих, чтоб к пеплу их любимая пришла!
О, вечно вместе жить бы нам! А в наш последний час
В одной могиле, рядышком, пусть похоронят нас.
Ту, чья улыбка нежная и тонкий, стройный стан
С ума сведут и старого, — увозит караван.
Хотел поцеловать ее, — строптивости полна,
Мне, словно лошадь всаднику, противилась она.
Но прикусила палец свой и сделала мне знак:
«Боюсь я соглядатаев, — теперь нельзя никак!..»
«О, чудный день, когда восточный веял ветер…»
О, чудный день, когда восточный веял ветер
И облака в ее краях рассеял вечер,
Когда откочевал мой род в края другие,
Но быть я не хотел там, где мои родные…
О горы вкруг ее становья! На мгновенье
Раздвиньтесь: пусть несет от милой дуновенье
Восточный ветерок: вдохнув его прохладу,
Я исцелю свой жар и обрету усладу.
Недаром ветерку дано такое свойство:
Из сердца гонит он тоску и беспокойство.
Где чудная пора, куда ушли без вести
Утра и вечера, когда мы были вместе!
Простит ли Лейла мне, что все ее поносят?
А мне бранить ли ту, что миру свет приносит?
Сиянием своим она всю землю нежит,
И лишь моей душе мой светоч не забрезжит.
Больны мои глаза любовью, но страдальца
Ей просто исцелить прикосновеньем пальца.
Душа моя забыть любимую не может,
И душу я браню, но разве брань поможет?
Когда я с Лейлой был, — с тех пор не каюсь в этом,
Я целомудрия связал себя обетом.
У опустевшего ее стою становья,—
И вновь схожу с ума, ее желаю вновь я!
«О, мне давно Урва‑узрит внушает удивленье…»
О, мне давно Урва{118}-узрит внушает удивленье:
Он притчей во языцех был в минувшем поколенье,
Но избавленье он обрел, спокойной смертью умер.
Я умираю каждый день, — но где же избавленье?
«Поохотиться в степях на газелей все помчались…»
Поохотиться в степях на газелей все помчались.
Не поехал я один: о газелях я печалюсь.
У тебя, моя любовь, шея и глаза газельи,—
Я газелей целовал, если на пути встречались.
Не могу внушать я страх существам, тебе подобным,
Чтоб они, крича, вопя, с жизнью милою прощались.
«Нет в паломничестве смысла…»
Нет в паломничестве смысла, — только грех непоправимый,—
Если пред жильем подруги не предстанут пилигримы.
Если у шатра любимой не сойдут они с верблюдов,
То паломничества подвиг есть не подлинный, а мнимый.
«Весть о смерти ее…»
Весть о смерти ее вы доставили на плоскогорье,—
Почему не другие, а вы сообщили о горе?
Вы на взгорье слова принесли о внезапной кончине,—
Да не скажете, вестники смерти, ни слова отныне!
Страшной скорби во мне вы обвал разбудили тяжелый,—
О, пусть отзвук его сотрясет ваши горы и долы!
Пусть отныне всю жизнь вам сопутствуют только невзгоды,
Пусть мучительной смертью свои завершите вы годы.
Только смертью своей вы бы горе мое облегчили,—
Как бы я ликовал, как смеялся б на вашей могиле!
Ваша весть мое сердце разбила с надеждою вместе,
Но вы сами, я думаю, вашей не поняли вести.
«Они расстались, а недавно…»
Они расстались, а недавно так ворковали нежно.
Ну что ж, соседи расстаются, — и это неизбежно.
На что верблюды терпеливы, а стонут, расставаясь,
Лишь человек терпеть обязан безмолвно, безнадежно.
«Вы опять, мои голубки…»
Вы опять, мои голубки, — на лугу заветном.
С нежностью внимаю вашим голосам приветным.
Вы вернулись… Но вернулись, чтоб утешить друга.
Скрою ли от вас причину своего недуга?
Возвратились вы с каким-то воркованьем пьяным,—
То ль безумьем обуяны, то ли хмелем странным?
Где, глаза мои, могли вы встретиться с другими —
Плачущими, но при этом все-таки сухими?
Там, на финиковых гроздьях, голуби висели,—
Спутник спутницу покинул, кончилось веселье.
Все воркуют, как и прежде, лишь одна, над лугом,
Словно плакальщица, стонет,брошенная другом.
И тогда я Лейлу вспомнил, хоть она далёко,
Хоть никто желанной встречи не назначил срока.
Разве я усну, влюбленный? Слышу я, бессонный,
Голубей неугомонных сладостные стоны.
А голубки, бросив плакать и взъерошив перья,
Горячо зовут любимых, полные доверья.
Если б Лейла полетела легкокрылой птицей,
С ней всегда я был бы рядом, — голубь с голубицей.
Но нежней тростинки Лейла: может изогнуться,
Если вздумаешь рукою ласково коснуться.
«Из‑за любви к тебе вода мне не желанна…»
Из-за любви к тебе вода мне не желанна,
Из-за любви к тебе я плачу непрестанно,
Из-за любви к тебе забыл я все молитвы
И перестал давно читать стихи Корана.
«Пытаюсь я, в разлуке с нею…»
Пытаюсь я, в разлуке с нею, ее отвергнуть всей душой.
Глаза и уши заклинаю: «Да будет вам она чужой!»
Но страсть ко мне явилась прежде, чем я любовь к другой познал
Нашла незанятое сердце и стала в сердце госпожой.
«Дай влюбленному, о боже…»
Дай влюбленному, о боже, лучшую из благостынь:
Пусть не знает Лейла горя, — эту просьбу не отринь.
Одари, о боже, щедро тех, кому нужна любовь,
Для кого любовь превыше и дороже всех святынь.
Да пребуду я влюбленным до скончания веков,—
Пожалей раба, о боже, возгласившего: «Аминь!»
«Лишь на меня газель взглянула…»
Лишь на меня газель взглянула, — я вспомнил Лейлы взгляд живой
Узнал я те глаза и шею, что я воспел в тиши степной.
Ее пугать не захотел я и только тихо произнес:
«Пусть у того отсохнут руки, кто поразит тебя стрелой!»
«Она худа, мала и ростом…»
Она худа, мала и ростом, — мне речь завистников слышна, —
Навряд ли будет даже в локоть ее длина и ширина.
И ее глазах мы видим зелень, — как бы траву из-под ресниц…
Но я ответил: «Так бывает у самых благородных птиц».
«Она, — смеются, — пучеглаза, да у нее и рот большой…»
Что мне до них, когда подруга мне стала сердцем и душой!
О злоязычные, пусть небо на вас обрушит град камней,
А я своей любимой верен пребуду до скончанья дней.
«Вспоминаю Лейлу мою…»
Вспоминаю Лейлу мою и былые наши года.
Были счастливы мы, и нам не грозила ничья вражда.
Сколько дней скоротал я с ней, — столь же длинных, как тень копья,
Услаждали меня те дни, — и не мог насладиться я…
Торопили верблюдов мы, ночь легла на степной простор,
Я с друзьями на взгорье был, — разгорелся Лейлы костер.
Самый зоркий из нас сказал: «Загорелась вдали звезда —
Там, где Йемен сокрыт во тьме, там, где облачная гряда».
Но товарищу я сказал: «То зажегся Лейлы костер,
Посредине всеобщей мглы он в степи свой огонь простер».
Ни один степной караван пусть нигде не рубит кусты,
Чтоб горел только твой костер, нам сияя из темноты!
Сколько дел поручали мне, — не запомню я их числа,—
Но когда приходил к тебе, забывал я про все дела.
О друзья, если вы со мной не заплачете в час ночной,
Поищу я друга себе, чтоб заплакал вместе со мной.
Я взбираюсь на кручи скал, я гоним безумьем любви,
Чтоб на миг безумье прогнать, я стихи слагаю свои.
Не дано ли разве творцу разлученных соединять,
Разуверившихся давно в том, что встреча будет опять?
Да отвергнет Аллах таких, кто, увидев мою беду,
Утверждает, что скоро я утешительницу найду.
В рубашонке детской тебя, Лейла, в памяти берегу
Я с тех пор, как вместе с тобой мы овец пасли на лугу.
Повзрослели дети твои — да и дети твоих детей,
Но, как прежде, тебя люблю или даже еще сильней.
Только стоило в тишине побеседовать нам вдвоем,—
Клевета настигала нас, отравляла своим питьем.
Пусть Аллах напоит дождем благодати твоих подруг,—
Увела их разлука вдаль, никого не видать вокруг.
Ни богатство, ни нищета не дадут мне Лейлу забыть,
Нет, не каюсь я, что любил, что я буду всегда любить!
Если женщины всей земли, блеском глаз и одежд маня,
На нее стремясь походить, захотят обольстить меня,—
Не заменит Лейлу никто… О друзья, мне не хватит сил,
Чтобы вынести то, что бог и любимой и мне судил.
Ей судил он уйти с другим, ну а мне, на долю мою,
Присудил такую любовь, что я горечь все время пью…
Вы сказали мне, что она обитает в Тейме с тех пор,
Как настало лето в степи… Но к чему такой разговор?
Вот и лето прошло уже, но по-прежнему Лейла там…
Если б злые клеветники удалились отсель в Ямам,
Ну а я бы — в Хадрамаут, в отдаленнейшие места,
То и там, я верю, меня б отыскала их клевета.
Как душонкам низким таким удается — чтоб им пропасть! —
Узы нашей любви рассечь, опорочить светлую страсть?
О Аллах, меж Лейлой и мной раздели любовь пополам,
Чтобы поровну и тоска и блаженство достались нам.
Светлый мой путеводный знак, — не успеет взойти звезда,
Не успеет блеснуть рассвет, — мне о ней напомнят всегда.
Из Дамаска ли прилетит стая птиц для поиска гнезд,
Иль над Сирией заблестит острый Сириус в бездне звезд,
Иль, почудится мне: ее имя кто-то здесь произнес,—
Как заплачу я, и мокра вся одежда моя от слез.
Лишь повеет ветер весны, устремляясь в ее края,—
К Лейле вместе с ветром весны устремится душа моя.
Мне запретны свиданья с ней, мне запретен ее порог,
Но кто может мне запретить сочинение страстных строк?
Не считал я досель часы, не видал, как время текло,
А теперь — одпу за другой — я ночей считаю число.
Я брожу меж чужих шатров, я надеюсь: наедине
Побеседую сам с собой о тебе в ночной тишине.
Замечаю, когда молюсь, что не к Мекке лицом стою,
А лицом к стоянке твоей говорю молитву свою.
Но поверь мне, Лейла, что я — не язычник, не еретик,
Просто ставит моя любовь лекарей с их зельем в тупик.
Как любимую я люблю! Даже те люблю имена,
Что звучат, как имя ее, — хоть сходна лишь буква одна…
О друзья, мне Лейла нужна, без нее и день — словно год.
Кто ее приведет ко мне или к ней меня приведет?
Омар ибн Аби Рабиа Перевод С. Шервинского
{119}«Соседка, скажи…»
«Соседка, скажи, чем утешилась наша сестра
В долинной развилине, где Азахир и Харра?»
Сказала — и, видя, что нет ни врага, ни предателя,
Свернули с лужайки на гладкое темя бугра,
Где ветви свои опустили высокие пальмы,
А почва была от недавнего ливня сыра,
На листьях роса прилегла, как туманное облако,
Которого выпить не в силах дневная жара.
Сказала: «Когда б в эту ночь мои грезы исполнились,
И внука Мугиры наш дом приютил до утра!
Когда разойдутся докучные люди, — о, если бы
Нас тень осенила полою ночного шатра!»
А я говорил: «Дни и ночи о ней лишь я думаю.
Седлайте верблюдов! Сегодня в дорогу пора!»
А те увидали, что пыль под ногами верблюжьими
Клубится вдали, где отлогая встала гора.
Сказала соседка: «Гляди, присмотрись же! О, кто это
Плывет по пескам на верблюде белей серебра?»
И та отвечала: «То Омар, клянусь, я уверена.
Бурнус узнаю, я достаточно взором остра».
«Ужели?» — воскликнула. Та отвечала:
«О, радуйся! То встреча желанная, — будь же душою бодра!»
Любимая молвила: «Значит, желанья исполнились.
Легко, без заботы, без горести — словно игра…
Что он завернет в нашу сторону, я и не чаяла,
С одной лишь мечтой коротала свои вечера.
Но тайную встречу всевышняя воля ускорила,
Тревогу души успокоила вестью добра».
И спешились мы, и сказали приветствие девушке.
Потупясь, она приоткрыла ворота двора.
Сказала: «Салям! Для верблюдов укрытие темное
Найдется до часа, когда засияет Захра{120}.
И если как гости у нас вы сегодня останетесь,
Окажется завтра счастливей, чем было вчера».
Мы скрыли верблюдов, к молчанью верблюды приучены,
Спят тихо, покамест их шерсть от росы не мокра.
Укрылись и мы, а меж тем сторожа успокоились,
В пустыне уже не видать ни огня, ни костра.
Вот вышла, три девушки с ней, изваяньям подобные,
Газелью скользнула, летящего легче пера.
О, весть приближенья! Она словно ветром повеяла,—
Так сладок весной аромат лугового ковра.
Сказала: «Хваленье Аллаху, клянусь я быть верною.
И ночи хвала, — эта ночь и добра и мудра!»
«Вы, суд мирской!..»
Вы, суд мирской! Слуга Аллаха, тот, Кто судит нас, руководясь законом,
Пусть жен не всех в свидетели зовет, Пусть доверяет лишь немногим женам.
Пусть выберет широкобедрых жен, В свидетели назначит полногрудых,
Костлявым же не даст блюсти закон — Худым, иссохшим в сплетнях-пересудах.
Сошлите их! Никто из мусульман Столь пламенной еще не слышал просьбы.
Всех вместе, всех в один единый стан, Подальше бы! — встречаться не пришлось бы!
Ну их совсем! А мне милее нет Красавицы роскошной с тонким станом,
Что, покрывалом шелковым одет, Встает тростинкой над холмом песчаным.
Лишь к эдаким благоволит Аллах, А тощих, нищих, с нечистью в сговоре,
Угрюмых, блудословящих, перях, Ворчуний, лгуний, — порази их горе!
Я жизнь отдам стыдливой красоте. Мне знатная, живущая в палате
Красавица приятнее, чем те, К которым ночью крадутся, как тати.
«Я видел: пронеслась газелей стая…»
Я видел: пронеслась газелей стая.
Вослед глядел я, глаз не отрывая,—
Знать, из Куба{121} неслись они испуганно
Широкою равниною без края.
Угнаться бы за ними, за пугливыми,
Да пристыдила борода седая.
Ты старый, очень старый, а для старого
Уж ни к чему красотка молодая.
«Отвернулась Бегум…»
Отвернулась Бегум, не желает встречаться с тобой,
И Асма перестала твоею быть нежной рабой.
Видят обе красавицы, сколь ты становишься стар,
А красавицам нашим не нужен лежалый товар.
Полно! Старого друга ласкайте, Бегум и Асма,
Под деревьями нас укрывает надежная тьма.
Я однажды подумал (ту ночь я с седла не слезал,
Плащ намок от дождя, я к селению Джазл подъезжал):
О, какая из дев на вопрос мой ответить могла б,
Почему за любовь мне изменою платит Рабаб?
Ведь, когда обнимал я другую, — казалось, любя,—
Я томился, и жаждал, и ждал на свиданье — тебя.
Если женщины верной иль даже неверной я раб,
Мне и та и другая всего лишь — замена Рабаб.
Обещай мне подарок, хоть я для подарков и стар,—
Для влюбленной души и надежда — достаточный дар.
«Я покинут друзьями…»
Я покинут друзьями, и сердце мое изболело:
Жажду встречи с любимой, вздыхаю о ней то и дело.
И зачем мне совет, и к чему мне любезный ответ,
И на что уповать, если верности в любящей нет?
Кто утешит меня? Что мне сердце надеждою тешить?
Так и буду я жить — только смерть и сумеет утешить.
«В стан я племени прибыл…»
В стан я племени прибыл, чьих воинов славны дела.
Было время покоя, роса на пустыню легла.
Там я девушку встретил, красивее всех и стройней,
Как огонь, трепетали запястья и бусы на ней.
Я красы избегал, нарочито смотрел на других,
Чтобы чей-нибудь взор не приметил желаний моих,
Чтоб соседу сказал, услаждаясь беседой, сосед:
«Небесами клянусь, эта девушка — жертва клевет».
А она обратилась к подругам, сидевшим вокруг,—
Изваяньем казалась любая из стройных подруг:
«Заклинаю Аллахом — доверюсь я вашим словам:
Этот всадник заезжий пришелся ли по сердцу вам?
К нам войти нелегко, он же прямо проходит в шатер,
Не спросившись, как будто заранее был уговор».
Я ответил за них: «Коль приходит потайный жених
На свиданье любви, никакой ему недруг не лих!»
Радость в сердце влилась, как шатра я раздвинул края,
А сперва оробел, хоть вела меня воля своя.
Кто же к ней, белолицему солнцу в оправе зари,
Не придет повидаться, лишь раз на нее посмотри?
«Возле крепости Амир…»
Возле крепости Амир я вспомнил, подруга, тебя,
У колодца я вспомнил — слеза из очей излилась.
Значит, здесь и привал верблюдицам легким моим,
Если путь и далек, не спешим мы на этот раз.
Сам с собой говорить я стал о своей Зайнаб,
И слова о любви не скудели, к любимой мчась.
Вспоминаю о ней, когда солнце приходит к нам,
Вспоминаю о ней, когда солнце уходит от нас.
Много женщин кругом — со мною она лишь одна,
Я стихи лишь о ней слагаю, у сердца учась.
Если кто заслужить благосклонность хочет мою,
Пусть в речах его будет восторгов моих пересказ.
Если взор затуманится, я говорю: «Может быть,
Это образ Зайнаб туманит зрачки моих глаз?»
Если ноги в пути онемеют, вспомню ее,—
И уже ободрился и боль в ногах унялась.
«Возле Мекки ты видел…»
Возле Мекки ты видел приметный для взора едва
След былого кочевья. Не блеснет над шатром булава,
И с востока, и с запада вихри его заносили,—
Ни коней, ни людей, — не видать и защитного рва.
Но былую любовь разбудили останки жилища,
И тоскует душа, как в печали тоскует вдова.
Словно йеменский шелк иль тончайшая ткань из Джаруба
Перекрыла останки песка золотого плева.
Быстротечное время и ветер, проворный могильщик,
Стерли прежнюю жизнь, как на пальмовой ветви слова.
Если влюбишься в Нум, то и знахарь, врачующий ловко
От укусов змеи, потеряет над ядом права.
В Нум, Аллахом клянусь, я влюбился, но что же? — Я голос
Вопиющий в пустыне, и знаю: пустыня мертва.
За даренья любви от любимой не вижу награды,
Дашь взаймы ей любовь — жди отдачи не год и не два.
Уезжает надолго, в затворе живет, под надзором,—
Берегись подойти — за ничто пропадет голова!
А покинет становье — и нет у чужого надежды
Вновь ее повстречать, — видно, доля его такова!
Я зову ее «Нум», чтобы петь о любви без опаски,
Чтоб досужей молвы не разжечь, как сухие дрова.
Скрыл я имя ее, но для тех, кто остер разуменьем,
И без имени явны приметы ее существа.
В ней врага наживу, если имя ее обнаружу,—
Здесь ханжи и лжецы, клевета негодяев резва.
Сколько раз я уже лицемеров не слушал учтивых,
Отвергал поученья ее племенного родства.
Сброд из племени сад твоего недостоин вниманья,
Я ж известен и так, и в словах моих нет хвастовства.
Меня знают и в Марибе все племена, и в Дурубе{122},
Там, где резвые кони, где лука туга тетива.
Люди знатные мы, чистокровных владельцы верблюдов,
Я испытан в сраженьях, известность моя не нова.
Пусть бегут и вожди, я не знаю опасностей бранных,
Страх меня не проймет, я сильнее пустынного льва.
Рода нашего жен защищают бойцы удалые,
В чьем испытанном сердце старинная доблесть жива.
Враг не тронет того, кто у нас покровительства ищет,
И о наших делах не забудет людская молва.
Знаю, все мы умрем, но не первые мы — не исчислить
Всех умерших до нас, то всеобщий закон естества.
Мы сторонимся зла, в чем и где бы оно ни явилось,
К доброй славе идем, и дорога у нас не крива.
У долины Батха{123} вы спросите, долина ответит:
«Это честный народ, не марает им руку лихва».
На верблюдицах серых со вздутыми бегом боками
Лишь появимся в Мекке, — яснее небес синева.
Ночью Ашаса{124} кликни — поднимется Ашас и ночью,
И во сне ведь душа у меня неизменно трезва.
В непроглядную ночь он на быстрой верблюдице мчится
Одолел его сон, но закалка его здорова;
Хоть припал он к луке, но и сонный до цели домчится.
Если б сладостным сном подкрепиться в дорогу сперва!
«Он пробрался к тебе…»
Он пробрался к тебе, прикрываясь полуночным мраком,
Тайну блюл он ревниво, от страсти пылал он жестоко.
Но она ему пальцами знак подала: «Осторожно!
Нынче гости у нас — берегись чужестранного ока!
Возвратись и дозор обмани соглядатаев наших,
И любовь обновится, дождавшись желанного срока».
Да, ее я знавал! Она мускусом благоухала,
Только йеменский плащ укрывал красоту без порока.
Тайно кралась она, трепетало от радости сердце,
Тело в складках плаща отливало румянцем востока.
Мне сказала она в эту ночь моего посещенья,—
Хоть сказала шутя, упрекнула меня без упрека;
«Кто любви не щадит, кто упорствует в долгой разлуке,
Тот далеко не видит, и думает он не глубоко:
Променял ты подругу на прихоть какой-то беглянки,—
Поищи ее в Сирии или живи одиноко».
Перестань убивать меня этой жестокою мукой —
Ведь Аллаху известно, чье сердце блуждает далёко.
«Я раскаялся в страсти…»
Я раскаялся в страсти, но страсть — моя гостья опять.
Звал я скорбные думы — и скорби теперь не унять.
Вновь из мертвых восстали забытые муки любви,
Обновились печали, и жар поселился в крови.
А причина — в пустыне покинутый Сельмою дом,
Позабыт он живыми, и тлена рубаха на нем.
И восточный и западный ветер, гоня облака,
Заметали его, расстилали покровы песка.
Я как вкопанный стал; караван мой столпился вокруг
И воззвал я к пустыне — на зов не откликнулся звук.
Крепко сжал я поводья верблюдицы сильной моей,—
А была она черная, сажи очажной черней.
Коротко закричит, и пустыня лишь отгул один —
Крик обратно до нас донесет из песчаных теснин.
«Простись же с Рабаб…»
Простись же с Рабаб — но себя ободри,
За слово привета ее одари.
Рабаб надо мной издевалась, бывало,
Мне влажные губы сама предлагала,
Свивался с упреком лукавый намек,
Привет же тебе, о сладчайший упрек!
Бывало, уж место и время назначит,
Придешь — и обманом опять озадачит.
Тогда лишь встречались, когда караван
В долине Мина свой раскидывал стан{125}
Дорогой на Мекку; камнями в том месте
Велит Сатану побивать благочестье.
Покинутый ею, утешься и вновь
Вернуть не пытайся былую любовь.
Смирись, позабудь о душевном недуге,
Смирись, не ищи, где она и подруги.
Любая из них — молодая краса —
Как будто с усердием чтит небеса,
Лукавые, будто стремятся к святыне,
Как путник к воде в раскаленной пустыне.
За искренность им прямотой воздаешь,
А ежели лгут, так и ложью за ложь.
Но все же я девушку, слывшую скрытной,
Отправил к Рабаб со своей челобитной,
Хоть верит любимая мне одному
И в двери проникнуть не даст никому,
Но девушка все же не зря ворковала:
Рабаб от лица отвела покрывало.
«Терзает душу память…»
Терзает душу память, сон гоня:
Любимая сторонится меня,
С тех пор как ей сказали: «Он далече
И более с тобой не ищет встречи».
Отворотясь, не обернулась вновь,—
И увидал я щеку лишь и бровь.
На празднике, с ним очутившись рядом,
Она добычу прострелила взглядом
И так сказала девушкам и женам,
Как антилопы легкие, сложенным:
«Он будет плакать и стенать, потом
И упрекать начнет, — так отойдем!»
И отошла девическая стая,
Крутые бедра плавно колыхая.
Как раз верблюды кончили свой бег,
И караван улегся на ночлег.
И было так, пока не возвестила
Заря рассвет, и не ушли светила.
Мне друг сказал: «Очнись, разумен будь!
Уж день настал, пора пускаться в путь
На север, там тебя томить не станут,
Не будешь там в любви своей обманут».
И ночь ушла, и наступил рассвет —
И то была горчайшая из бед.

«Долго ночь не редела…»
Долго ночь не редела, душой овладела тоска,
Но послала Асма в утешенье ко мне ходока,
От нее лишь одной принимаю упрек без упрека,
Хоть и много любил и она не одна черноока.
Но она улыбнется, — и я уж и этому рад,
Счастлив, зубы увидя, нетающих градинок ряд.
Но ходок, увидав, что еще не проснулся народ,
Возвратился и стал колотушкой стучать у ворот.
Он стучал и стучал, но из наших никто не проснулся.
Надоело ему, и обратно к Асме он вернулся.
И рассказывать стал, прибавляя того и сего:
«Хоть не спали у них, я не мог достучаться его,
Где-то скрылся, сказал — у него, мол, большие дела.
Так и не дал ответа». Но тут она в ярость пришла.
«Я Аллахом клянусь, я клянусь милосердным творцом
Что до самого раджаба{126} я не пущу его в дом!»
Я сказал: «Это старая ссора, меня ты прости,—
Но к сердцам от сердец подобают иные пути».
Вот рука моя, в ней же и честь и богатство мое,
А она: «Ты бы раньше, чудак, протянул мне ее!»
Тут к ней сводня пришла, — а они на подобное чутки
К деловым разговорам умеют примешивать шутки.
Голос тихий у них, если гневом красавица вспыхнет,
Но становится громок, едва лишь девица затихнет.
Говорок у распутницы вежливый, неторопливый,
А сама она в платье паломницы благочестивой.
И ее наконец успокоила хитрая сводня:
«Все-то воля господня — сердиться не стоит сегодня».
«В час утренний, от взоров не таим…»
В час утренний, от взоров не таим,
Горел костер перед шатром твоим.
Но кто всю ночь подкладывал алоэ,
Чтоб он струил благоуханный дым?..
«Я Зайнаб свою не склоняю…»
Я Зайнаб свою не склоняю на встречу ночную,
Не смею невинность вести на дорогу дурную.
Не так луговина в цветах, под дождем животворным,
Когда еще зной не растрескал поверхность земную,
Как Зайнаб мила, когда мне она на ухо шепчет:
«Я мир заключила иль снова с тобою воюю?»
В гостях мы не видимся — если ж тебя и увижу,
Какой-нибудь, знаю, беды все равно не миную.
Меня ты покинула, ищешь себе оправданья,
Но я неповинен, тоскую один и ревную.
«Убит я печалью…»
Убит я печалью, горчайших не знал я разлук.
В груди моей буйствует сердца неистовый стук.
Невольные слезы струятся, свидетели мук,—
Так воду по каплям прорвавшийся точит бурдюк.
Она уезжает, уж руки проворные слуг
На гордых двугорбых дорожный навьючили вьюк.
К щекам моим кровь прилила и отхлынула вдруг —
Я знаю, навек отъезжает единственный друг.
«О сердце, страстями бурлящий тайник!..»
О сердце, страстями бурлящий тайник!
А юность меж тем отвратила свой лик.
О сердце, ты властно влечешь меня к Хинд,—
Ты, сердце, которым любить я привык.
Сказал я — и слезы струились из глаз,
Ах, слез моих не был исчерпан родник.
«Коль Хинд охладела, забыла любовь,
Когда наслажденьем был каждый наш миг,—
Погибнет, клянусь, человеческий род,
Всяк сущий на свете засохнет язык!»
«Я эту ночь не спал…»
Я эту ночь не спал, томим печалью.
В бессоннице за ночь одну зачах.
Любимое создание Аллаха,
Люблю ее и гневной и в сердцах.
В моей душе ее всех выше место,
Хоть прячется изменница впотьмах
Из-за того, что клеветник злосчастный
Меня в коварных очернил речах.
Но я молчу, ее несправедливость
Терплю без слов, ее напрасен страх.
Сама же связь оборвала, как люди
Веревку рвут, — суди ее Аллах!
«Мне говорят, что я…»
Мне говорят, что я люблю не всей душой, не всем собой,
Мне говорят, что я блужу, едва умчит тебя верблюд.
Так почему же скромно взор я отвращаю от всего,
К чему, паломничая, льнет весь этот небрезгливый люд?
Не налюбуется толпа на полоумного, из тех,
Кого в мечетях и домах за ум и благочестье чтут.
Уйдет он вечером, спеша грехи дневные с плеч свалить,
А возвратится поутру, увязший пуще в ложь и блуд!
От благочестия давно меня отторгнула любовь,—
Любовь и ты — два часовых — очаг страстей моих блюдут.
«Глаза мои, слезы мои…»
Глаза мои, слезы мои, что вода из ведра!
Трепещете, веки, от горести красны вы стали!
Что с вами творится, лишь милая вспомнится вам!
Мученья любви, как вы душу томить не устали!
Хинд, если б вчера ты рассеяла горе мое,
Когда б твои руки, о Хиид, мою грудь не терзали!
И если могу я прощенье твое заслужить,
Прости мне, хотя пред тобой я виновен едва ли.
Скорее постыдно тебе надо мною мудрить —
Приближусь едва, от меня поспешаешь подале.
Обрадуй меня, подари мне подарок любви!
Я верен тебе, как и был при счастливом начале.
«И сам не чаял я…»
И сам не чаял я, а вспомнил
О женщинах, подобных чуду.
Их стройных ног и пышных бедер
Я до скончанья не забуду.
Немало я понаслаждался,
Сжимая молодые груди!
Клянусь восходом и закатом,
Порока в том не видят люди.
Теперь себя я утешаю,
Язвя неверную упреком,
Ее приветствую: «Будь гостьей!
Как ты живешь в краю далеком?»
Всевышний даровал мне милость
С тобою встретиться, с ревнивой.
А ты желанна мне, как ливень,
Как по весне поток бурливый!
Ведь ты — подобие газели
На горке с молодой травою,
Или луны меж звезд небесных
С их вечной пляской круговою.
Зачем так жажду я свиданья!
И убиваюсь, и тоскую…
Ты пострадай, как я страдаю,
Ты поревнуй, как я ревную!
Я за тобой не соглядатай,
Ты потому боишься встречи,
Что кто-то пыл мой опорочил,
Тебе шептал кривые речи.
«Что с этим бедным сердцем сталось!..»
Что с этим бедным сердцем сталось! Вернулись вновь его печали.
Давно таких потоков слезных мои глаза не источали.
Они смотрели вслед Рабаб, доколь, покинув старый стан,
Не скрылся из виду в пыли ее увезший караван.
Рабаб сказала накануне своей прислужнице Наиле:
«Поди скажи ему, что, если друзья откочевать решили,
Пусть у меня, скажи ему, он будет гостем эту ночь,—
На то причина есть, и я должна достойному помочь».
И я прислужнице ответил: «Хоть им нужна вода и пища,
Мои оседланы верблюды и ждут вблизи ее жилища!»
И провели мы ночь ночей — когда б ей не было конца!
За часом час впивал я свет луноподобного лица.
Но занималось утро дня — и луч сверкнул, гонитель страсти,
Блестящий, словно бок коня бесценной золотистой масти.
Сочла служанка, что пора беду предотвратить, сказав
Тому, кто доблестен и юн, горяч душой и телом здрав:
«Увидя госпожу с тобой да и меня при вас, чего бы
Завистник не наклеветал, — боюсь я ревности и злобы.
Смотри, уже не видно звезд, уже белеет свет дневной,
А всадника одна лишь ночь окутать может пеленой».
«При встрече последней…»
При встрече последней Рабаб говорила: «О друг!
Ты разве не видишь, какие тут люди вокруг?
Побойся же света! Меж тех, с кем беседы ведешь,
Здесь есть клеветник, и на нас уже точнт он нож».
И я ей ответил: «Аллах нас укроет и ночь.
Даруй же мне благо, счастливых минут не просрочь!»
Она отказала: «Ты хочешь мой видеть позор!» —
Ничто мне не слаще, чем этот разгневанный взор!
Потом я всю ночь наслаждался любовной борьбой
С газелью, из тех, что в пустыне пасутся толпой.
И время летело, и ночь донеслась до утра,
Светила склонились, и их потускнела игра.
Сказала: «Пора избегать клеветнических глаз.
Уж близится утро, уж ночь отбегает от нас».
Я к спутнику вышел, еще погруженному в сон,
С седлом под щекою, с подстилки соскальзывал он.
Ему я сказал: «Оседлай поскорее коня —
Уже на востоке я проблески вижу огня».
Когда ободняло, я был уже в дальнем краю.
О, если б вернуть мне любовную полночь мою!
«Опомнилось сердце…»
Опомнилось сердце, но стал я печален и слаб.
Отринул я радость, забыл и любовь и Рабаб.
Я жаждал свиданья, она же корила меня,
Невинность мою за чужую виновность кляня.
Ища утешенья, тогда я к рассудку прибег —
Пора подошла, на висках проступал уже снег.
И вот от Рабаб появился с вопросом гонец:
«Раскаялся ль он, образумился ль он наконец?
Кто смог бы потайно на истину мне намекнуть?
И правда ль, что он собирается нынче же в путь?»
О, если с конем не смогу разлучить ездока,
Пусть я до могилы не выпью воды ни глотка!
Она к безутешному тайно послала гонца,
Сулила награду, которой все жаждут сердца.
Она упрекала того, кто безумно влюблен,
Кто страстью палим, кто измучен, — и ринулся он,
На крыльях понесся, стопы не касались земли.
Советы друзей образумить его не могли,
Напрасно они порицали мой страстный недуг,
Порочить тебя — вот Аллах! — не посмеет и друг.
Так сильно страдал я, так болен я был поутру,
Что, видя меня, все подумали — скоро умру.
«Кто болен любовью…»
Кто болен любовью и ревности ведал кипенье,
Кто долго терпел и, страдая, теряет терпенье,
Тот жаждет всечасно, и цель им владеет одна,
Но, сколько ни бейся, ни ближе, ни дальше она.
Подумает только: «Я хворь одолел!» — но, угрюмый,
Вновь страстью кипит, осаждаем назойливой думой:
«Она холодна», — и тотчас из горящих очей
Покатятся слезы и в бурный сольются ручей.
Когда он один, со своею желанной в разлуке,
Бедняк убежден, что до гроба не кончатся муки.
Он призраком бродит, покойником стал, хоть и жив,
На плечи любовь непосильною ношей взвалив.
И жизнь ненавистна, и ум ни во что не вникает.
Кто любит такую, на гибель себя обрекает;
Лишится ума, кто влечения к ней не уймет;
Замрет в удивленье, кто нрав ее честный поймет.
«Много женщин любил я…»
{127}Много женщин любил я, и сердцем они не забыты,
Но любовные думы с печалью глубокою слиты.
Знайте, други, недавно я в знатную страстно влюбился,
Ей в роскошном дворце услужают рабы и наймиты.
Нрав у девушки мил, и прельстительны пышные бедра,
С нею в близком родстве благородных кровей курейшиты{128}.
Во дворце у нее много женщин в ее подчиненье,
Предки знатны ее, между всеми они знамениты.
Скажешь ты: облаками укутано нежное солнце,—
Тонок йеменский плащ, золотыми узорами шитый.
Взор блеснул из-за шелка, мое обезумело сердце —
Но задернулся плащ, ей служанки прикрыли ланиты.
И сказал я, уже отделен от нее покрывалом:
«Вот награда любви?» — а рабыни ее деловиты,
И сказала одна из невольниц ее тонкостанных:
«Кто влюблен, те порой не напрасно бывают сердиты.
Надо так поступить, чтобы стал стихотворец доволен:
Чтобы дело уладить, служанку к нему отряди ты.
Он и честен и чист; кто толкует тебе о разрыве,
Тех не слушай, беги, наставления их ядовиты.
Бога, что ль, не боишься? Твой пленник, тобой покоренный,
И на Страшном суде справедливой достоин защиты.
Иль его ты убей, и навеки его успокоишь;
Ты — живи, он — умри, — значит, оба вы будете сыты,—
Иль убийце отмсти, как написано — око за око —
По Святому писанью, — и будут обиды убиты.
Или, в-третьих, его полюби, как воистину любят,
Худо, если любовью коварство и злоба прикрыты».
«Посмотри на останки…»
Посмотри на останки, которые кладбищем серым
Средь долины кривой меж Кусабом лежат и Джарейром{129}.
Обиталищ следы замели, проносясь, облака,
Их при ветре лихом завалили наносы песка.
Будто видятся там письмена, но минувшего были
Под набегами бурь затянулись покровами пыли.
От кочевья былого теперь ненайдешь и следа —
А шумела здесь жизнь и стояла шатров череда.
Обитала здесь та, что паломницей шла между нами
И, дорогу прервав, Сатану побивала камнями.
Здесь она мне сказала, едва загорелся рассвет,—
Я тогда не смутился и дал ей достойный ответ —
Мне сказала она: «Если друг покидает подругу,
Хочешь ты, чтоб она заплатила ему за услугу»?
Я ответил: «Послушай и слушай меня до конца:
Тот, кто слух преклоняет к наветам лжеца и льстеца,
Да боится, что дружбу он дружбой лукавой погубит:
Друг, свой выхватив меч, надоедливый узел разрубит.
Что я думаю, слушай, коль это самой невдомек,—
Укоряешь меня, я терплю за упреком упрек,
Слишком долгий мы срок друг от друга вдали кочевали,
Я наказан уж тем, что при мне ты всегда в покрывале!
Ты ведь знаешь — как солнцем, твоим я лицом осиян.
Лица женщин других для меня — темнота и туман».
«Я жаждал и ждал…»
Я жаждал и ждал, но ты не пришла, лежу я без сна,
И мысль об Асма мне душу томит, как тяжесть вина.
Когда б не судьба, не стал бы я жить — не настолько я глуп —
Здесь мучит меня лихорадка моя уж целых три дня,
Едва отойдет от постели — и вновь навещает меня.
Когда бы я в дар Эдем получил с прозрачной рекой,
Добрел бы до врат, но двинуть, увы, не смог бы рукой.
Ты, желтая хворь, и братьев томишь, их стон в тишине —
Как жаворонков ослабевшая песнь в пустынной стране.
Когда бы в Сувайке{132} видела ты, как озноб мой лих,
Как тяжело мне, больному, сдержать двугорбых моих,
Ах, дрогнула б ты от любви, поняла б, что я изнемог,
Горючих слез полился б из глаз обильный поток.
Иль я не люблю любимых тобой, кого ни на есть?
Коль встречу я где собаку твою, так воздам ей честь.
Асма не придет, — для чего ж я зла и лжи избегал?
Я чист, меня перед ней язык клеветы оболгал.
Не верь же тому, кто нам желает сердечной муки,
Кто хочет, чтоб мы влеклись по бесплодным степям разлуки.
«В пути любимая наведалась ко мне…»
В пути любимая наведалась ко мне —
Всю ночь друзья мои сидели в стороне.
Хоть сон мой крепок был, я пробудился вдруг —
И вновь меня объял души моей недуг.
Румейла у меня, и пусть мелькает злость
В глазах ревнивицы, — по есть ли слаще гость!
Путь к сердцу моему Румейла раз нашла.
Совсем невдалеке тогда она жила.
А я — я в Мекке жил. Я был в нее влюблен,
Она же без любви взяла меня в полон.
Но шепот горестный я в сердце сохранил
В миг расставания: «Итак, ты изменил!»
Смертельно раненной она казалась мне
Страданием своим, но я страдал вдвойне.
Укоры горькие средь общей тишины
Я слушал, за собой не чувствуя вины:
«Своим отъездом мне ты душу истерзал,
Подругу бросил ты, разлуку в жены взял!»
В слезах — и до сих пор текут они из глаз —
Ответил я: «Бросал я женщин, и не раз,
Но утешался вмиг, не чуял тяготы,—
Но нет, меня теперь утешишь только ты!»
«Вкушу ли я от уст…»
Вкушу ли я от уст моей желанной,
Прижму ли к ним я рот горящий свой?
Дыханье уст ее благоуханно,
Как смесь вина с водою ключевой!
Грудь у нее бела, как у газели,
Питающейся сочною травой.
Ее походка дивно величава,
Стройнее стан тростинки луговой.
Бряцают ноги серебром, а руки
Влюбленных ловят петлей роковой.
Влюбился я в ряды зубов перловых,
Как бы омытых влагой заревой.
Я ранен был. Газелью исцеленный,
Теперь хожу я с гордой головой.
Я награжден за страсть, за все хваленья,
За все разлуки жизни кочевой.
К тебе любовь мне устрашает душу,
Того гляди, умрет поклонник твой.
Но с каждым днем все пуще бьется сердце,
И мучит страсть горячкой огневой.
Мне долго ль поцелуя ждать от той,
Что в мире всем прославлена молвой?
Что превзошла всех в мире красотой —
И красотой своей и добротой?
«Сторонишься, Хинд…»
Сторонишься, Хинд, и поводы хочешь найти
Для ссоры со мной. Не старайся же, нет их на деле.
Чтоб нас разлучить, чтоб меня ты сочла недостойным,
Коварные люди тебе небылицы напели.
Как нищий стою, ожидая желанного дара,
Но ты же сама мне достичь не дозволила цели.
Ты — царская дочь, о, склонись к протянувшему руку!
Я весь исстрадался, душа еле держится в теле.
В свой ларчик заветный запри клевету и упреки,
Не гневайся, вспомни всю искренность наших веселий.
Когда ж наконец без обмана свиданье назначишь?
Девичьи обманы отвратней нашептанных зелий.
Сказала: «Свиданье — в ближайшую ночь полнолунья,
Такими ночами охотники ловят газелей».
«Велела мне Нум передать…»
Велела мне Нум передать: «Приди! Скоро ночь — и я жду!»
Люблю, хоть сержусь на нее: мой гнев не похож на вражду.
Послал я ответ: «Не могу», — но листок получил от нее,
Писала, что верит опять и забыла сомненье свое.
Стремянному я приказал: «Отваги теперь наберись,—
Лишь солнце зайдет, на мою вороную кобылу садись,
Мой плащ забери и мой меч, которого славен закал,
Смотри, чтоб не сведал никто, куда я в ночи ускакал!
К Яджаджу{133}, в долину Батха, мы с тобой полетим во весь дух,
При звездах домчимся мы в Мугриб, до горной теснины Мамрух!»
И встретились мы, и она улыбнулась, любовь затая,
Как будто чуждалась меня, как будто виновен был я.
Сказала: «Как верить ты мог красноречию клеветника?
Ужели все беды мои — от злого его языка?»
Нею ночь на подушке моей желтела руки ее хна,
И уст ее влага была, как родник несмущенный, ясна.
«Атика, меня не брани…»
Атика, меня не брани, — и так я несчастен.
Ты снадобье лучше спроси для меня у врача.
Я полон той ночью, с тобой проведенной в долине,
Где славят Аллаха, в Нечистого камни меча.
Пытаюсь я скрыть от людей свои тайные муки —
Лишь умные видят, насколько их боль горяча.
О добрая девушка, знатного племени отпрыск,
За верность в любви награди своего рифмача.
«Мой друг спросил…»
Мой друг спросил: «Кому теперь ты раб?
Ты полюбил Катул, сестру Рабаб?»
Я отвечал: «Горю от страсти я,
Как при жаре в песках гортань твоя!»
Кого теперь я к Сурайе пошлю
Поведать ей, как без нее скорблю?
Меня разоблачила Умм Науфал,
Влюбленного убила наповал.
В дом к Сурайе, едва смягчился зной,
Она пришла. «Здесь Омар твой, открой!»
И полногрудых пять рабынь тотчас
Под локти госпожу ведут, шепчась,—
Так в божий храм, лишь позовет Аллах,
Паломники спешат в святых местах.
Прохладное хранит ее жилье:
Как у священных статуй, стан ее,
Перед которыми, склоняясь в прах,
Творит молитву набожный монах.
Со свежими щеками, с ясным лбом
Невольницы красуются кругом.
Меня спросили: «Правда ли, что к ней
Питаешь страсть?» — «И до скончанья дней!
Моя любовь, — сказал я, — глубока,
Как бездна звезд над бездною песка!»
Зарделась Сурайя — о, сладкий миг!
И золотым стал золотистый лик.
Она была, как белый солнца луч,
Показывающийся из-за туч.
Налюбоваться на нее нельзя —
Так вьется змейка, по песку скользя!
А ожерелий жемчуг и коралл…
Кто, видя их, от страсти не сгорал!
«Ты, отродясь умевший только врать…»
Ты, отродясь умевший только врать,
Упреки брось, советов зря не трать.
Знай, для меня ничто — твои слова.
Ушел бы ты хоть на год, хоть на два!
Советуешь, а хочешь обмануть.
Всех ненавидишь, — сгинь куда-нибудь!
Ответить я могу на клеветы.
Умею отвечать таким, как ты.
Любовь — услада одиноких дней,
Так не мешай искать отрады в ней.
Оставь Рабаб, не смей корить ее —
Она души прохладное питье.
Клянусь Аллахом, господом моим,—
А в клятвах я — клянусь — непогрешим,
Меж смертными всех суш и всех морей,
Со мной Рабаб всех ласковых щедрей.
Меня среди паломников узнав,
Решив, что я неверен и неправ,
Отворотилась, плакать стала вновь,
Но победила прежняя любовь.
А я — не ты: чтоб распрю обуздать,
Я правого умею оправдать.
«Душа стеснена размышленьем…»
Душа стеснена размышленьем о муке любовной,
О страсти к тебе, — но уж поздно, любовь отошла!
Когда б ты меня одарила, могло бы лекарство
Мой дух исцелить — и тебе подобала б хвала!
Одна ты виновна, что я, непокорный и дерзкий,
С родными порвал, хоть и не было крепче узла.
И вот я оставлен, последнею близкою брошен,
Опорою, мне никогда не желавшею зла.
Я — путник, проливший последнюю жалкую воду,
Когда его манит обманная марева мгла;
Он жаждет воды, но за маревом гонится тщетно,
Так я — за тобою, ты жаждой мне душу сожгла.
Сувайла сказала, сама между тем на сорочку,
На бледные щеки горячие слезы лила:
«О, если бы Абу-ль-Хаттаб{134}, не дождавшийся дара,
Вновь начал охоту, стрелка бы я страстно ждала.
Судьба возвратила б счастливые дни золотые,
И нашу любовь не язвила б людская хула».
Слова ее мне донесли — и всю ночь я метался,
Как будто бы тело язвила мне вражья стрела.
Сувайла! Не слаще прозрачная влага Евфрата
Для сына пустыни, сожженного жаждой дотла,
Чем губы твои, хоть и льну я к тебе издалека,
Не веря, чтоб женщина верной в разлуке была.
«Я в ней души не чаю…»
Я в ней души не чаю — и томлюсь.
И для нее любовь — нелегкий груз.
Ей угождаю, если рассердилась,
Она уважит, если рассержусь.
Знать не хочу, что думают другие,
Развеселится — я развеселюсь.
Из-за меня она с семьей в разладе,
Я для нее с родней порвал союз.
Откажет мне в глотке воды прохладной,
Когда томим я жаждой, — подчинюсь.
Нет у нее оружья боевого,
Но с ней сразись — и победит, клянусь!
«Я жалуюсь, моя изныла грудь…»
Я жалуюсь, моя изныла грудь,
Меня терзает страсть, не обессудь:
Я в девушку влюблен, она живет
В далекой Мекке, в доме рода Сод.
Осталась в Мекке, длинен путь оттуда,
Далеко Мекка от селенья Лудда{135}.
«Мой дом — твой дом», — она не скажет мне,
За страсть мою наказан я втройне.
Твои слова хранить мой будет слух,
Доколь не испущу свой бедный дух.
Прощальный помню шепот в миг, когда
Уже верблюжья звякнула узда.
Из глаз исторглась бурная струя,
Она сказала: «Пусть погибну я,
Будь рядом всякий час, не позабудь —
Увидимся опять когда-нибудь!»
«О Абда, не забуду тебя…»
О Абда, не забуду тебя никогда и нигде,
Не изменится сердце ни в счастье своем, ни в беде,
Не изгонит любви ни усердие клеветника,
Ни разлука с тобой, далека ли ты или близка.
От меня отвернулась? Другого успела найти?
При любви настоящей — для новой закрыты пути.
Я раскаялся, — если раскаянье примешь, Абда,
То меня упрекнуть не захочешь уже никогда.
Все желанья твои я исполню покорным слугой,
А попросит другая, отказом отвечу другой.
Упрекаю себя. Ты моих не желаешь услуг,
И лишь сердце, как друг, разделяет со мною недуг.
Лишь терпенье и стойкость — покоя вернейший залог,
Где же взять мне терпенья? Мой разум уже изнемог!
Абда, белая ликом, любого ты сводишь с ума,
Всех разумных и умных, но холодом дышишь сама.
На рассвете выходишь, куда-то торопишь шаги,—
А шаги у тебя не длиннее овечьей ноги…
Не забыть этот день, не забыть, как сказала она
Четырем горделивым подругам, чья кожа нежна:
«Не пойму, почему холоднее он день ото дня,—
Иль другую нашел? Иль обиду таит на меня?»
«Такие слова мне послала подруга моя…»
Такие слова мне послала подруга моя:
«Мне все рассказали, о чем не ждала и намека:
Что ты, — говорят, — изменил и покинул Рабаб.
Мой друг дорогой, заслужил ты за дело упрека!
Ты бросил Рабаб, ты Суди теперь полюбил,
Все клятвы свои растерял во мгновение ока.
Нет, жизнью клянусь, — я утешусь, другого найду,
Пускай нечестивца любви обольщает морока,—
А я из тех женщин, которых, как видно, прельстить
Умеешь обманом, — и вот дожила я до срока.
Вдобавок, ни слова не молвив, ты бросил меня,
Я вижу — ты лжец, а на свете нет хуже порока.
Где шепот ночной, уверенья и клятвы твои?
Все вышло навыворот, близкое стало далеко.
Ты клялся Рабаб, что ее полюбил навсегда,—
И что же? Отринул, покинул — и я одинока!
О брат мой! Ты втайне готовил измену свою,
Все знал наперед, поступил ты с любимой жестоко.
О, если ты снова захочешь свиданья со мной,—
Будь проклята я, коль не стану умней от урока!
Пожалуй, нашептывай клятвы, потом нарушай —
Для женского сердца от них — ни отрады, ни прока».
«Ты, девушка верхом на сером муле…»
Ты, девушка верхом на сером муле,
Иль Омара ты вздумала известь?
Сказала мне: «Умри иль исцеляйся!
Но я тебе не врач, хоть средство есть.
Я гневаюсь, и гнев мой не остынет,
За столько лет во мне созрела месть.
О, если бы твое, изменник, мясо
Могла я, не поджарив, с кровью съесть!»
«Клянусь я тем, кого паломник молит:
Моя любовь — не прихоть и не лесть.
Мои глаза туманит плач печали,
Бог весть где ты, и не доходит весть.
Твоей красы слепительное солнце
Все звезды тмит, а в небе их не счесть.
Ты на дары скупа, но я не грешен —
Свидетелями жизнь моя и честь!»
«С той, чьи руки в браслетах…»
С той, чьи руки в браслетах, мне ворон накаркал разлуку.
Злая птица разлук обрекла мое сердце на муку.
Поломались бы крылья у птицы, пророчицы горя!
Занесла б ее буря на остров пустынный средь моря!
С караваном я шел, заунывно погонщики пели,—
Наконец заглянул в паланкин черноокой газели.
Чуть раздвинулась ткань, и за узкой шатровою щелью
Я увидел глаза и точеную шею газелью.
Вдвое краше она показалась в таинственном блеске,
В полумраке сверкали жемчужины, бусы, подвески.
Я смутился, не знал, что же делать мне с сердцем горячим,
Кто меня упрекнет? Или редко от страсти мы плачем?
Мне сказали: «Терпи, должен любящий быть терпеливым,
А иначе весь век проживешь бобылем несчастливым!»
Нет прекрасней ее — так откуда же взять мне терпенье?
Как осилить себя, как умерить мне сердца кипенье?
Ее кожа бела, и налет золотистый на коже.
Сладки губы девичьи, на финик созревший похожи.
Вся — как месяц она, засиявший порою вечерней!
И когда моя страсть разгорелась еще непомерней,
Сладострастных желаний не мог я уже превозмочь,
Саблю я нацепил и ушел в непроглядную ночь.
У шатра ее долго сидел я, противясь хотенью.
И в шатер наконец проскользнул неприметною тенью.
На подушках спала она легким девическим сном,
И отец ее спал, и рабы его спали кругом,
А поодаль вповалку — его становая прислуга,
Как верблюды в степи, согревая боками друг друга.
Я коснулся ее, и она пробудилась от сна,
Но ночной тишины не смутила ни звуком она,
Губы в губы впились, испугалась она забытья,
«Кто ты?» — чуть прошептала, ответил я шепотом: «Я!»
«Честью братьев клянусь, — прошептала, — и жизнью отцовой,
В стане всех подниму, если ты не уйдешь, непутевый!»
Тут ее отпустил я — была ее клятва страшна,
А она улыбнулась — я понял: шутила она!
Обхватила мой стан — поняла: это я, не иной.
Были ногти ее и ладони окрашены хной.
И я взял ее за щеки, рот целовал я перловый,
Льнет так жаждущий путник к холодной струе родниковой.
«Тобой, Сулейма, брошен я…»
Тобой, Сулейма, брошен я, душа изранена моя.
И по плащу стекает слез неистощимая струя.
Поднялся я на плоский холм, гадал я, вспугивая птиц,
Кружили сбивчиво они, ответ желанный затая.
Лишь странный доносился шум от черных, в белых пятнах крыл:
Разлуку предвещала мне густая стая воронья.
Приятно сердцу моему, когда любимой слышу речь,
А речь из нелюбимых уст мне неприятна, как змея,
Но ненавистнее всего мне скрытность женская в любви —
Откройся же, и будем впредь — спокойна ты и счастлив я.
«Безумствую! На ком вина…»
Безумствую! На ком вина,
Что охмелел я без вина?
Кто о прекрасных вел рассказ
Тому, чей пыл едва угас?
Я у горы Сифах сказал:
«Устроим, други, здесь привал,
В том нет беды — дождемся дня:
Играя в стрелы, у меня
Соседка выиграла здесь
И душу всю, и разум весь,
Тогда-то меткая стрела
Глубоко в тело мне вошла.
Всех стрел стрела ее больней —
А лука не было при ней».
«За ветром вслед взовьется смерч…»
За ветром вслед взовьется смерч — и пропадает, откружась.
Когда б больная плоть моя на этом смерче понеслась!
Меня бы ветер подхватил и перенес, донес бы к ней,
Чтоб серая равнина впредь не разделяла страстных нас!
И были б рядом ты и я, — а как иначе рядом быть?
Жизнь отказалась от меня, сиянья дня не видит глаз.
Хоть раз бы муки ей познать, какие мучают меня!
Тоску, страдания мои почувствовать хотя бы раз!
Она — одна из молодых двоюродных моих сестер,
На горке у ее жилья полынь седая разрослась.
«Завтра наши соседи…»
Завтра наши соседи от нас далеко заночуют,
Послезавтра еще — и намного — они откочуют.
Если милая едет к ключам, где прозрачна вода,
Шесть сияющих звезд ей укажут дорогу туда.
Будут быстрых верблюдов погонщики гнать напрямик,
Если мало поводьев, поможет погонщикам крик.
Коль покинет меня, иль утешатся сердца печали,
Иль умру от тоски, что надежду верблюды умчали.
Как живет она там, без меня, затерявшись вдали?
Если б твердость и стойкость меня успокоить могли!
Шел я вслед каравану, заветные думы тая,
И сумел разузнать, в чем нуждается ревность моя,—
Где и как поступать, и к чему мне доступно стремиться,
И чего избегать, и чего подобает страшиться,—
Не приметил я: стали серебряны оба виска!
И она позвала — та, чья нежная шея гибка.
Взор ее и седых заставляет от страсти дрожать,
Учит юных тому, от чего бы им лучше бежать.
В становище их рода послал я проведать ее,
Без стрелы и кинжала убившую сердце мое.
Та, увидя, что тень проскользнула в шатер спозаранок,
Распознала одну из моих расторопных служанок
И сказала: «Ведь он на рассвете простился со мной!
Пусть же наши утехи останутся тайной ночной!»
И сказал я: «Так пусть же мои истомятся верблюды,
Пусть, гонясь за тобой, обессилены станут и худы!»
И сказал я служанке: «В их стан возвращайся тотчас
И скажи: завтра вечером будет свиданье у нас.
Знак подам я — ты этим решимость ее укрепи:
Словно голосом кто-то верблюдицу кличет в степи».
Со стремянным помчались — и с нами любовь понеслась,
Путь казала, и быстро домчали верблюдицы нас.
Тут мы лай услыхали собак, охранявших дворы,
Свет увидели, — значит, еще не погасли костры.
И отъехали мы и поодаль от их становища
Ждали, скоро ль угаснут огни и умолкнут жилища.
Был научен стремянный, пока не проснулся привал,
Прокричал он, как будто из степи верблюдицу звал.
Вышла девушка. «Солнце созвездья уже привели,—
Я сказал, — и тепло прикасается к лику земли».
И она в полумраке скользнула ко мне неприметно
И дрожала от страха, старалась, но силилась тщетно,
Чтобы слезы из глаз ее черных, чернее сурьмы,
Не струились потоком, пока в безопасности мы.
И она говорила, что страсть неуемная в ней,
Отвечал я, что страсть моя вдвое и втрое сильней.
«Ах, зачем я люблю! Мне твердят, что опасно любить,
А тебя полюбить, — говорила, — себя погубить.
Я навеки люблю, по-иракски, а ты — не навеки,
Нынче спрячешься в Неджде, а завтра укроешься в Мекке».
«Бежишь от меня…»
Бежишь от меня, хоть не ждал я укора.
Жеманство ли это иль подлинно ссора?
Того, кто изранен, утешит ли Хинд
Иль насмерть убьет продолжением спора?
Советчик мой верный, посланец ты мой,
К ней в дверь постучись, коль не будет дозора,
Скажи: «О любви его знает Аллах,
Но, кроме того, он и друг и опора.
В нем кожу да кости оставила страсть,
Иссох он, как в месяцы глада и мора».
К тебе приближаюсь — бежишь от меня.
И так уже сердце усталое хворо.
Пускай отвернуться мне гордость велит,
Смиренно молю, не страшусь я позора.
О, сжалься над тем, кто любовью сражен,
От страсти умру — и наверное, скоро.
«Называю в стихах…»
Называю в стихах я Сулеймою Айшу мою:
Я родным ее клялся, что имя ее утаю.
В дом пойди ты к Сулейме, ее поскорей извести,
Что разлука близка, что наутро я буду в пути.
Ты спроси ее: скоро ль мы встретимся с нею тайком,
Слово Омара — верно, его не затянет песком.
Клятве клятвой ответь, обо мне и себе не грусти —
Ты вернее всех жен обещанья умеешь блюсти.
Ты честнее всех честных, какими гордится народ,
Что в пустыне, в степи иль на плоском нагорье живет.
О Сулейма, тебе я не лгал, говоря, что люблю,
А теперь я терпеньем обеты любви укреплю.
Видит вечный Аллах: с той поры, как тебя я лишен,
К бедным веждам моим не слетал освежающий сон.
Злобной стаей врагов окружен в моем городе я —
Ждут лишь смерти моей, притворяясь, что будто друзья.
Лицемерам не снесть, что при всех воздается мне честь;
Их ласкательна лесть, а лелеют коварную месть.
Ты же, тайну скрывая, любовью своей сожжена,
Дни и ночи считаешь, когда остаешься одна.
Лишь родня отвернется, тревожишь рыданьями тишь,
Истомленные плачем глаза потихоньку сурьмишь,
Течь слезам не даешь, упрекаешь напрасно глаза,—
Все равно, как ни прячь, на ресницах трепещет слеза.
Белой кожи загар не коснулся, прохладен твой дом;
Никогда прогуляться не выйдешь при зное дневном.
Ты дрожала от страха, когда провожала меня,
Словно в гору влачилась, бессильное тело клоня.
Лишь до двери дошла, ей сказали служанки, дивясь:
«Что ты мучишь себя? — поглядела бы лучше на нас!»
Усадили ее и сказали невольницы: «Тот,
Кто в Сулейму влюблен, от нее никуда не уйдет!»
В час разлуки она говорила: «Куда ни пойдешь,
Будь упорен в терпенье и женских сердец не тревожь!»
О субботняя ночь! Ты дала мне для дальних дорог
Боль одну, и до смерти мне хватит забот и тревог.
«Я рвусь к Асма…»
Я рвусь к Асма, мое сердце разбито на сто кусков,
Скажу лишь: «Я исцелен!» — и вновь мой дух не здоров.
Она отошла, со мной не хочет сказать двух слов.
Немыслимого искать — удел убогих умов.
Надоедает мне ложь, ухищрения женских чар,
Надеялся я и ждал, но ее обещания — пар,
У обманщицы не хочу покупать дорогой товар.
Черноокая, знать, газель, чье пастбище в Зу-Бакар,
Глаза и шею свои принесла красавице в дар.
Осматриваясь пошла, когда я сбирался в путь,
Чтоб боль мою растравить, сильнее сердце кольнуть.
Сияла солнцем она, пожелавшим на мир взглянуть
Из тучи смольных волос, рассыпавшихся на грудь.
Смирил бы я пыл, когда б от отчаянья был доход,
Когда б, играясь, она не лишала меня щедрот.
Но жестка у нее душа — коль друг себя строго ведет,
То нечего гневаться: он лишь честь подруги блюдет.
«Когда б от Хинд…»
Когда б от Хинд я получил суленный ею дар,
Когда б она с души моей сняла томящий жар,
Когда бы управлять могла сама судьбой своей! —
Кто воли собственной не знал, всех бедняков бедней.
Она спросила у подруг полуденной порой,
Когда разделась донага, истомлена жарой:
«Скажите, такова ли я — вас да хранит Аллах,—
Какой рисует он меня, иль это бред в стихах?»
Те засмеялись, и таков ответ их дружный был:
«Все у любимой хорошо тому, кто полюбил».
Лишь зависть женская могла внушить ответ такой —
Ведь зависть испокон веков снедает род людской.
Завистницы! Ее зубов блистает ровный ряд,
Белей, чем лилий лепестки, чем белоснежный град.
И день и ночь в ее очах — и чернь и белизна.
Газели шея у нее — упруга и нежна.
А кожа у нее свежа и в летний жгучий день,
Когда неумолимый зной вонзается и в тень.
А в зиму юноше она дарит свое тепло,
Когда устал он и ступни от холода свело.
Своей любимой я сказал в один счастливый час —
А слезы струями лились из воспаленных глаз:
«Кто ты?» — и еле слышно Хинд ответила: «Я та,
Кого измучила любовь, желаний маета.
Ведь из Мина я, и врагов мы уложили тьму,
Они не могут даже месть доверить никому».
«Привет тебе, входи в мой дом, прекрасная жена!
Но как же ты зовешься?» — «Хинд…» — ответила она.
Косулей, загнанной ловцом, забилось сердце вдруг.
В шелках узорных — как копье, был стан ее упруг.
По крови родственники мы, соседствуем давно,
И люди наши племена считают за одно.
Наворожила ты, о Хинд, связала узелок,
Я страстным нашептам твоим противиться не мог.
Кричу я на крик: «О, когда ж свиданья час благой?»
Хинд усмехается в ответ: «Через денек-другой!»
«Уснули беспечные…»
Уснули беспечные, я же припал на подушку,
На звезды глядел, как больной, не смыкающий век,
Пока Близнецы, головней пламенея горящей,
В глубокое небо ночной не направили бег.
Уснули, не знавшие страсти, — и что им за дело,
Что рыщет бессонный влюбленный впотьмах человек?
В ночь, полную ужасов, черного мрака чернее,
В полуночный час я дрожал в ожидании нег.
И в дверь амаритки ударил я кованым билом,
Как будто я родич иль путник, и молвил: «Впусти!
Я жажду любви, и несчастное сердце трепещет
Изловленной птицей, что бьется бессильно в сети».
И тут амаритка в двери молодца увидала,
Который отважен и стыд не намерен блюсти.
И вспыхнула гневно, и грозно нахмурила брови,
Поняв, что я смело в покои решаюсь войти.
Потом успокоилась, гнев ее женский улегся.
А я умолял, как Аллаха в молитве ночной;
Сказал ей: «На десять ночей у тебя я останусь!»
Сказала: «Коль хочешь остаться, останься со мной».
Потом на рассвете, в последнюю ночь, прошептала:
«Скажи что-нибудь, оставайся, мне горько одной!»
«Нет, ты говори, все желанья твои мне законом,
Всевышним клянусь, до скончанья дороги земной!»
«Три камня я здесь положил…»
Три камня я здесь положил и чертою отметил дорогу,
Которой мы шли, и припомнил наш отдых на этом привале,
Друзей и поджарых коней с их очами в глубоких глазницах;
Припомнил, как вышли мы в сад и как весело там пировали.
Припомнил, как пала роса и девушку всю окропила,
В долине, где пастбища фахм — так племя соседнее звали.
Она известила меня, что наутро родня откочует,
Что нам разлученье грозит, что увидимся снова едва ли.
«Останься и жди темноты — найдем себе угол укромный,
Такой, чтоб деревья и ночь от завистников нас укрывали»,
«Мы перессорились…»
Мы перессорились. Как долго мира жду!
Хинд холодна со мной, а в чем нашла вину?
Увы мне! Я зачах, нет крепости в костях,
Под тяжестью вот-вот колени подогну.
Аллах! Безволен я, притом нетерпелив.
Аллах! Мне тяжело, как пленнику в плену.
Аллах! Люблю ее, она же прочь бежит.
Я долю горькую не попусту кляну.
Пусть мой удел не нов, — всегда любили все,
И впредь останется, как было в старину.
Но я пожертвую и тех, кого люблю,
Весь род людской отдам, всех — за нее одну!
«Возле мест, где кочевье любимой…»
Возле мест, где кочевье любимой, не зная покоя,
Поутру проезжаешь и в пору палящего зноя.
Пусть из речи твоей и немного она угадала,
Но тебя твоя речь перед нею самой оправдала.
Из-за Нум ты безумствуешь, темен в очах твоих свет.
Нет свидания с нею, и в сердце забвения нет.
Если близко она, то немного от близости прока,
Нетерпеньем измаешься, если кочует далеко.
И препятствия снова — одно или несколько разом,
Ты уже изнемог, и не в силах опомниться разум…
Если к ней приезжал я, сердито встречали меня,
Как пантеры, рычала ее племенная родня.
Злятся, если меня возле дома любимой увидят,
То вражду затаят, то и явно меня ненавидят.
Друг, привет передай ей, скажи, что я верен и честен,—
Если сам я приеду, всем будет приезд мой известен.
Я в то утро впервые увидел их племени стан
И ее невзначай повстречал у потока Акнан,
«Это он? — прошептала. — Скажи, неужели, сестрица,
Это Омар-герой, о котором везде говорится?
Ты его описала — не надобно зоркого глаза,
Чтоб героя признать, — твоего не забуду рассказа».
«Это он, — отвечала сестра, — все сомненья забудь,
Но его день и ночь изнурял продолжительный путь».
«Изменился же он с той поры, как его я знавала!
Но бегущая жизнь милосердна ни с кем не бывала…»
Он стоял перед ней, без покрова скакавший при зное,
Закаленное тело морозило время ночное.
Стал он братом скитаний, узнал все пределы земли,
Все пустыни изведал, в загаре лицо и в пыли.
Беззащитен от солнца, скакал на спине вороного,
Лишь узорчатый плащ ограждал от пожара дневного.
У нее же ограда — спокойных покоев прохлада,
Для нее и услада сырого зеленого сада.
Муж ни в чем не откажет, подарки несет ей и шлет,
И она в развлеченьях проводит всю ночь напролет…
Из-под Зу-Даварана я ночью пустился в дорогу.
Ничего не страшась, презирает влюбленный тревогу.
В становище друзей у шатров я стоял для дозора,
От разбоя берег, охранял от убийцы и вора.
А когда по шатрам засыпали они тяжело,
Все сидел и сидел я, так долго, что ноги свело.
А верблюдица вольно паслась, не следил я за нею,
И могла ее упряжь любому достаться злодею…
Сам не помня себя, я в пустыне спешил без оглядки,
Все себя вопрошал — далеко ль до желанной палатки?
Указали мне путь незабвенный ее аромат
И безумие страсти, которою был я объят.
Я бежал от друзей, лишь погасли костры за шатрами,
А ее становище лишь к ночи зардело кострами.
Наконец-то и месяц зашел за соседние горы,
Возвратились стада, замолчали в ночи разговоры.
Я дремоту стряхнул и, приход свой нежданный тая,
До земли пригибаясь, подкрался к жилью, как змея.
И сказал я: «Привет!» А она в изумленье великом
Задрожала и чуть нашу тайну не выдала криком.
«Я покрыта позором! — и пальцы, сказав, закусила.—
Ты, однако же, смел, велика твоя доблесть и сила.
Так привет же тебе! Иль таким неизвестен и страх?
Окружен ты врагами — тебе да поможет Аллах!
Но не знаю, клянусь, прискакал ты сюда потому ли,
Что ко мне поспешал? Потому ли, что люди уснули?»
Я ответил ей: «Нет! Покоряюсь желаниям страсти.
Что мне взгляды людей? Не такие видал я напасти».
И сумела она опасенье и дрожь побороть И сказала:
«Тебя да хранит всемогущий господь!»
Ночь, блаженная ночь! Отлетела дневная забота.
Услаждал я глаза, и не знали объятия счета.
Ночь медлительно шла, но казалась короткой она —
Столь короткой, клянусь, не казалась мне ночь ни одна.
Час за часом любовь упивала нас полною чашей,
И никто за всю ночь не смутил этой радости нашей.
Мускус рта я вдыхал, целовал ее влажные губы,
И за розами губ открывались точеные зубы.
Улыбнется она — то ль летающих градинок ряд,
То ль цветов лепестки белизною в багрянце горят!
В полутьме на меня ее нежные очи глядели,
Как глядят на детеныша черные очи газели.
И уже постепенно блаженная ночь убывала,
Стали звезды бледнеть, оставалось их на небе мало,
Мне сказала она: «Пробуждайся, уж ночь позади,—
Но наутро меня ты под Азвар-горой подожди!»
Вздрогнул я, услыхав чей-то голос, кричавший: «В дорогу!»
А на небе уже занималась заря понемногу.
По шатрам уже встали и начали в путь одеваться,
И она прошептала: «Что ж делать? Куда нам деваться?»
Я сказал: «Ухожу. Коль успеют меня подстеречь,—
Или мне отомстят, или пищу добудет мой меч!»
И сказала она: «Ненавистникам сами ль поможем?
Тайну в явь обратив, клевету ли их сами умножим?
Если действовать надо, то действовать надо иначе:
Скроем тайну поглубже, иначе не ждать нам удачи.
Двум сестрицам своим расскажу я про нашу беду,
Чтобы все они знали, и тотчас же к ним я пойду.
Я надеюсь, что выход найдут мои милые сестры,
На обеих надеюсь, они разумением остры».
В горе встала она, без кровинки опавшие щеки,
И отправилась, грустная, слез проливая потоки.
Две прекрасных девицы явились на сестринский зов,
На обеих узоры зеленых дамасских шелков.
Им сказала она: «Моему смельчаку помогите:
Все возможно распутать, как ни были б спутаны нити».
А они устрашились, меня увидав, но сказали:
«Не такая беда! Предаваться не надо печали!»
И меньшая сказала: «Ему покрывало отдам,
И рубашку, и плащ, — только пусть бережется и сам.
Пусть меж нами пройдет он и скроется в женской одежде,
И останется тайна такою же тайной, как прежде».
Так защитою стали мне юные девочки эти
И одна уже зрелая, в первом девичьем расцвете.
Вышли мы на простор, и вздохнули они, говоря:
«Как же ты не боишься? Уже заалела заря!»
И сказали еще: «Безрассуден же ты и бездумен!
Так и будешь ты жить? И не стыдно тебе, что безумен?
Как объявишься снова, все время смотри на другую,
Чтоб подумали люди: избрал ты ее, не иную».
И она обернулась, когда расставаться пришлось,
Показалась щека и глаза ее, полные слез.
На исходе той встречи сказал я два ласковых слова,
И верблюдица встала, в дорогу пуститься готова.
Я пустил ее бегом, была она в рыси ходка,
И упруга была, деревянного крепче бруска.
Я верблюдицу гнал, хоть и знал, что бедняга устала,
До того исхудала, что кожа от ребер отстала…
Часто умная тварь приносила меня к водопою,—
Но колодец зиял пересохшею ямой скупою:
Лишь паук-нелюдим над колодцем сплетает силок,
Сам вися в паутине, как высохший кожаный клок.
Дни и ночи тогда я не мерил привычною мерой,
Мрачный спрыгивал я с моей верной верблюдицы серой
Оскудевшие силы, измучась, она истощала,
Над отверстием знойным безумно глазами вращала
И толкала меня головой, порываясь к воде,—
Но колодец был сух, не сочилось ни капли нигде.
И когда бы не повод, что воле моей поддается,
То верблюдица в прах разнесла бы остатки колодца.
Понял я, что великий то будет урон для пустыни,
Я же был чужанин, а убежища нет на чужбине.
Яму новую рядом верблюдице выкопал я,
Но и донышко в ней обмочила б едва ли бадья.
А двугорбая все ж потянулась доверчиво к яме,
Но лишь малость воды удалось захватить ей губами.
У меня же с собой был один лишь сосудик скудельный
Я в колодцы его опускал на постромке седельной.
Стала нюхать верблюдица — гнилостью пахло питье,
Но припала к струе — и струя утолила ее.

«Она говорит, а сама…»
Она говорит, а сама, безутешная, плачет,
На нежных щеках ее слез не скудеет струя:
«Ты всех мне милей, попирающих землю ногою,
Всяк час о тебе и забота и память моя.
Ужели ж совсем я тебе не нужна, не желанна?
Залог твой — любовь — берегу добросовестно я.
Ты скоро мой прах понесешь и опустишь в могил
За что ты разгневался? Плачу, сама не своя.
Три дня приходил, а теперь уже месяц исходит —
Ни весточки! Где ж ты? В какие уехал края?»
«Мне Хинд приказала уйти…»
Мне Хинд приказала уйти от нее на рассвете.
Был рядом дозор, и мне быть не хотелось в ответе.
Расстались. Она накануне прислала гонца
С известьем, что дома и ждет на свиданье певца.
Что тот, мол, кто любит, придет под прикрытием ночи
Лишь смолкнут шатры и закроются сонные очи.
Гонцу я ответил, что гостю такому я рад,
Что верен по-прежнему, друг неизменный и брат.
Горя нетерпеньем, ее ожидал я прихода,
Лишь ночь потемнела, и месяц ушел с небосвода.
Я бодрствовал долго, с усильем дремоту гоня,
Я телом ослаб, и она одолела меня.
Но вдруг пробудили меня, распростертого сонно,
Алоэ и мускус, которыми Хинд благовонна.
Спросил я: «Кто здесь?» — и меня попрекнула она:
«Эх ты! О тебе для чего же тоскую без сна?
Как быть мне, несчастной! От горя я вся изомлела,
Я плачу и плачу — так, видно, судьба мне велела.
Тебя повстречав, полюбила, себе на беду,—
Тоскую и скоро горючей слезой изойду.
Назначишь мне встречу — а сам не придешь на свиданье;
Потом коль придешь, так найдется всему оправданье.
Смотри, если будешь и впредь мне досады чинить,—
Пожалуй, любовь оборвется, как ветхая нить.
Ничто для тебя огорченья мои и тревоги?
Иль сердце твое — словно камень с пустынной дороги?»
И смолкла. Стоял я, не мог шелохнуться, из глаз
Не слезы текли, а жемчужная россыпь лилась.
Сказал я: «Услада очей и души озаренье!
Знай, ты для меня драгоценнее слуха и зренья.
Прости же меня и упреки свои прекрати,
Дай всякому сброду от зависти сплетни плести».
Приник я к устам, и мгновенье казалось мне годом.
Как будто смесилась струя родниковая с медом,
С вином ли сирийским, краснее, чем глаз петуха…
Всю ночь мы любились, в блаженстве не видя греха.
Ее целовал я, а ночь благодатная длилась.
Но жажда души поцелуями не утолилась.
Желанья срывали плаща золотого шитье
Со стройного стана и бедер роскошных ее.
И ночь была наша, и жгла нас любовь нетерпеньем,
Пока петухи темноту не встревожили пеньем.
Она испугалась, прижалась ко мне, говоря:
«Пора расставаться, прохладой уж веет заря».
И вышла. Три девушки с нею, похожих собою
На статуи, к коим монах прибегает с мольбою.
Я слов не забуду, какими прощалась со мной,—
Как с радужной шейкой голубка на ветке лесной.
Хотел я достичь своего, но она не желала —
И молвила так: «Лишь неверному многого мало!»
«Пока тебя не знал…»
Пока тебя не знал, не знал, что иглы
Произрастают на любовном ложе.
Я шел на гибель, пристрастившись к сердцу,
Которое, хоть бьется, с камнем схоже.
Я сердце упрекал свое, но слышу:
«На рок пеняй, не на меня!» Дороже
Ты мне всех женщин, — нудно с теми, скучно.
Лишь на тебя смотрю я в сладкой дрожи.
Да, я влюблен! Кто юным обезумел,
И в старости безумцем будет тоже.
«В сердце давнишнюю страсть…»
В сердце давнишнюю страсть оживили остатки жилья,
С ветром пустынным они и с пылающим солнцем друзья.
Северный ветер здесь выл, засыхала степная трава,
Яростной бури порыв вырывал из песков дерева.
Здесь на пороге она говорила соседке тогда:
«С Омаром что-то стряслось. Неужели случилась беда?
И почему он со мной избегает обычных бесед?
Я обратилась к нему, он же брови нахмурил в ответ.
Иль он желаньем томим? — Я желанья его утолю.
Иль терпелив напоказ, — горделивца я, значит, люблю?
Иль доползли до него нарекания, полные лжи?
Хочет ли бросить менж А быть может, и бросил — скажи!
Или в невзгоде моей виновата завистника речь? —
Чтобы в могилу ему, ненавистнику злобному, лечь!
Что с ним, сестрица, стряслось, разузнать я скорее должна
Так мне и отдых не впрок, и прохлада в тени не нужна.
Знаю, недолго мне жить, умертвит меня первая страсть,
Но от любви и ему не придется ли мертвым упасть?
Если, сестрица, при мне назовут его имя подчас,
То наступившая ночь не смыкает мне дремою глаз».
Ей, изнемогшей от страсти, соседка желала добра,
Медлить не стала с ответом, поспешно сказала: «Сестра,
Если я буду жива, неожиданно вдруг не умру,
Значит, увижу сама — к твоему подойдет он шатру.
Если ж не явится он, то паломницей в путь соберись,
К черному камню рукой, вкруг него обходя, прикоснись.
Если ж в Каабе, в толпе, ты увидишь его самого,—
Чтобы желанье разжечь в неустойчивом сердце его,
Ткань от лица отведи, под которою скрыта краса,
Чтоб показалось ему, что лупа поднялась в небеса.
Ты улыбнись, покажи своих белых жемчужинок строй,
Свежих девических губ ты прохладу ему приоткрой.
Пусть он подумает: «Значит, глаза меня ввергли в беду,
Так захотела судьба, и на смерть я как смертник иду».
Только смотреть на него ты подолгу пока воздержись,
Будто застенчива ты, и гляди себе под ноги, вниз».
Доброй соседки слова отзвучали в потемках едва,
Как услыхал я ответ, и запали мне в душу слова:
«Он, говорят, из таких, что, у женщины взявши свое,
Он не нуждается в ней, — вероломец бросает ее».
Тут я воскликнул: «Тебя полюбил я навек и сполна,
В сердце на месте твоем не бывала досель ни одна!
Так одари же того, кто не лгал ни в словах, ни в делах,—
Неблагодарность же пусть покарает позором Аллах!»
«Сердцем чуешь ли ты…»
Сердцем чуешь ли ты, что подходит пора разлучиться?
Кто разлуку знавал, осторожности мог научиться.
Но неверен успех, если даже идешь осторожно,
А захочет судьба — и безумному выгадать можно.
Был я брошен друзьями; покинутый, вспомнил былое,
Превращает нам память здоровое сердце в больное.
Я любимую вспомнил, подобие легких газелей,
Ту, чьи очи как ночь, заклинаний сильнее и зелий.
Как проснулись в шатрах, на двугорбых вьюки возложили
И ее увезли — словно голову мне размозжили.
Слезы лить запрещал я глазам, но в ответ на угрозы
Лишь обильней струились из глаз опечаленных слезы.
С нею близко сойтись было горькой моей неудачей,
От родни ее вовсе погиб я в тот полдень горячий.
О Аллах, допусти, чтобы им кочевать недалече,
Чтобы знал я о ней, чтоб надеяться мог я на встречи.
Умер я, лишь исчезла вдали ее шея газелья,
Напоенные амброй жемчужные три ожерелья.
Я сказал: «Уходи, уходи, караван расставанья,
Оскорбленный, вослед повлекусь я дорогой страданья.
Та любовь, что навечной зовется у смертных, — мгновенна,
А моя, не старея, пылает в груди неизменно».
Ей сказали: «Клянемся, — следим уже более года,—
Он — дурной человек, такова же и вся их порода».
А она двум подругам, ко мне подошедшим случайно,
Говорит: «Надо мной он смеется и явно и тайно.
Я боюсь, — говорит, — он изменником будет, наверно,
Не умеет отдаривать, речь он ведет лицемерно».
Я сказал: «Сердце жизни! Не верь негодяям заклятым.
Кабой ныне клянусь, как клянется сраженный булатом.
Я же страстью сражен, за тобой волочусь я по следу;
Не встречая тебя, до могилы я скоро доеду.
Я оправдан уж тем, что тебя домогаться не смею.
Как тебе изменю? Госпожа ты над страстью моею.
Об измене твердит лишь безумца язык суесловный.
Как тебе изменить, предо мною ни в чем не виновной?
Как же мне изменить? Ведь еще не решенное дело,
Продолжать ли терпеть иль опомниться время приспело?»
И сказала она: «Коль любить, то тебя одного лишь!
Встречи жди — и еще веселиться ты сердцу дозволишь».
Я ответил: «Коль правда, что любишь, любви в оправданье
Мне под Анзар-горой ты сегодня назначишь свиданье!»
«Так да будет!» — сказала и, чуть отстранив покрывало,
Пальцев кончики мне и сверкающий глаз показала.
Содрогнулась душа, и я понял: от мук ожиданья
Я скончаюсь сегодня же, если не будет свиданья.
«…Оказавшись пустым…»
…Оказавшись пустым, обо всем ли жилье рассказало?
Или скромный шатер оказался скупым на слова?
Я же стал вспоминать, как я сам веселился, бывало,
Ведь у тех, кто горюет, лишь память одна не мертва.
Как бывало когда-то волненье счастливое сладко,
Как любимых плащом укрывал я не раз от дождя!
Из шатра среди ночи к влюбленному вышли украдкой
Две газели, к нему газеленка с собой приведя
С длинной, гибкою шеей, моложе, чем обе газели,
С черной ночью в очах, с ожерельями из жемчугов.
Оглядевшись кругом, за шатрами волшебницы сели,
Где потверже земля, где доносится запах лугов.
И была черноглазая, словно луна в полнолунье,
И юна и прекрасна, походкою плавною шла.
«Жизнь отдам за тебя!» — говорила другая колдунья
И просилась под плащ, — чужеиин бы не сглазил со зла.
И сказали все три: «Эту ночь заклинаем заклятьем:
Эта ночь — заклинаем — да будет, как годы, длинна!
Все, чтоб нам не мешать, пусть к обычным вернутся занятьям,
Над весельем бессонным всю ночь да сияет луна!»
Не приметили гостьи, что звезды бледнеть уже стали
И что проблеск зари у земного алел рубежа.
Встали гостьи мои, и следы на песке заметали
Шелком длинных одежд, — не поймали бы их сторожа.
Удаляясь, шептали: «Когда бы подобные ночи
Чаще нам позволяли на воле пожить до зари!
Не желали бы мы, чтобы делались ночи короче,—
Так бы сели в кружок — и сиди, говори до зари!»
«Ей кто‑то сказал…»
Ей кто-то сказал, что теперь человек я женатый, —
Она на меня затаила неистовый гнев.
Сказала сестре, а потом и соседке сказала:
«Пусть в жены берет хоть десяток достойнейших дев!»
Потом обратилась к подругам, толпившимся рядом,
Заветное чувство в отчаянье скрыть не сумев:
«Что с сердцем моим? Трепещет, как будто чужое;
Я никну, слабею, могилы мне видится зев.
О страшная весть! Как будто в груди разгорелся
Костер, — и в золу обратит он меня, отгорев».
«Своих и врагов я оплакал…»
{136}Своих и врагов я оплакал, сраженных войной.
Сказала она, повстречавшись недавно со мной:
«Что сталось с тобою, о Омар, ведь ты и худой и седой!»
«Я съеден тоской, оттого и седой и худой.
Я видел их гибель, с тех нор потерял я покой.
О, сколько достойных унес этот пагубный бой!
Почтеннейших старцев, что схожи с луной сединой!
Все родичи наши! По целой юдоли земной
Ты столь благородных не сыщешь, клянусь головой.
Послышатся ль вопли — на помощь поскачет любой
И первым для битвы наденет доспех боевой.
Кто в помыслах чпще, кто в мире щедрее мошной?
Кто делает благо, а зло обошел стороной?
Кому помогает, того ободрит похвалой;
Кого одаряет, потом не унизит хулой».
«Лишь засидевшихся свалил…»
Лишь засидевшихся свалил полночный сон,
Ко мне приблизилось возлюбленной виденье.
Я в сумраке ночном приветствовал ее —
Она при свете дня скупа на посещенья.
Сказал: «О, почему тобой покинут ж
Дороже был тебе и слуха я и зренья!»
Ответила: «Клянусь, обетам я верна,—
Мне появиться днем мешают украшенья».
«Красавицы прячут лицо от меня…»
Красавицы прячут лицо от меня,
Красавицы видят, что я уже старый.
Бывало, глазели сквозь каждую щель,
Бежали за мной, как овечьи отары,
Когда же вблизи не случалось чужих,
Газельих очей расточали мне чары.
Что ж? Я — из знатнейших, которых нога
На темени тех, кем гордятся минбары{137}.
«Как излечишь того…»
Как излечишь того, кто скрывает, как тайну, недуг?
Ты — недуг мой и тайна, о Зайнаб, мой чудный вожатый.
Каждый скажет, увидев ее: «Мне понятен твой жар,
Не гаси же огня, веселись и другую не сватай».
Мой недуг, мою страсть излечить уж не сможет никто,
Откажусь от врачей, не пойду к ним с доверьем и платой.
Ночь я с Зайнаб провел, и ту ночь не забуду, пока
Холм надгробный не станет для Омара вечной палатой.
Ожидал я, один, — и явилась мне Зайнаб луной,
Озарилась долина, и скрылся злодей соглядатай.
Я не мог домогаться запретных веселий, хотя,
Как чета новобрачных, мы были в одежде богатой.
Самых близких чета, мы греха не вкусили в ту ночь,
Пусть же злобой теперь захлебнется завистник проклятый!
«О молния, со стороны Курейбы…»
О молния, со стороны Курейбы
Сверкнула ты над скопом облаков,
И тучи до земли сбежали стадом,
Как стадо верблюжат бежит на зов.
А были полосаты, черно-белы…
Вмиг под дождем размяк земли покров.
Она пришла — был срок менять кочевье,
На крюк разлуки счастлив был улов.
Газелья шея промелькнула в бусах
Кораллов алых, скатных жемчугов.
Лицо луной сияло безущербной,
Как финики, блестящ был ряд зубов.
«Стеснилось сердце, и не сплю…»
Стеснилось сердце, и не сплю —
Как будто в первый раз люблю.
Смотрю я на зарниц игру,
И пламя льется по нутру.
О ночь! Уснул мой караван,
Мне одному покой не дан.
Все это, Хинд, твои дела,—
Что я разбит, сожжен дотла.
Дверь отворилась, и на миг
Мелькнул ее сиявший лик,
И рот с набором жемчугов,
Белей, чем лилии лугов.
Она, лишь тьма сменила свет,
Прислала добрый мне ответ:
От Хинд мне передали весть,
Что может ночь со мной провесть.
Нас укрывала досветла
Шатра полночного пола.
Уста, очищенные сном,
Дышали медом и вином,
И все мне чудилось, что пью,
Припав к прозрачному ручью.
«Стойте, други…»
Стойте, други, — хочу перед вами излить мою муку.
Нынче день расставанья — увидите нашу разлуку.
Не спешите же, дайте о всем рассказать, не таясь,
Сжальтесь — скорби в душе на весь век накопил я запас.
С караваном ушла, мне подбросила ворох страданья.
Не забыть, как она, в огорчении, после свиданья
Говорила служанке слова со слезой пополам:
«Знаешь ты человека, сейчас подходившего к нам?
Он в любви мне поклялся, да правду недорого ценит!
Ты сказала тогда: «Он тебе никогда не изменит!»
Говорила, не бросит, меня не покинет одну
И желанья мои все исполнит, едва намекну.
Если он совершил то, чего ожидать не могла ты,—
Вот Аллах! — он узнает, что значит дождаться расплаты!»
Все я слышал до слова — не знали, что рядом стою.
Словно угли горячие падали в душу мою.
Я коня повернул, замешал я приятеля в дело:
«Друг, она на меня или мимо меня поглядела?»
«На тебя!» И сказал я, желая его остеречь:
«К ней поди, но не верь ей, заране обдумывай речь».
Только тот подошел, заклинать она стала Аллахом:
«Чем-нибудь огорчи его, гневом помучай иль страхом!
Ты скажи вероломцу: такую беду испытав,
Сам не стал бы ты жить, сам бы кинулся в бездну стремглав!
Ей за верность в любви — ты добавь — полагается плата,
Год она прождала, целый год улетел без возврата».
Я сказал ей: «Коль любишь, мой грех позабудь и прости,
Хоть я сам за него извиненья не в силах найти».
И добавил: «В измене меня упрекаешь напрасно,
Никакая другая с тобою сравниться не властна!»
Нет, разлукою с ней я завистнику пищи не дам,
Что бы нудный советчик о нас ни твердил по углам.
Опостылели мне надоедных соседей уроки!
Уж меня от нее отвратили однажды попреки,
Клевете я доверился! Истинно кажется мне,
Что я был околдован и ей изменил, как во сне.
Не умен человек, если бросит он верного друга;
Вероломство его — ненавистникам злобным услуга.
А сегодня — ее ожидаю в ночи, без огня,—
Страшно, как бы враги не сгубили ее и меня.
«Зажегся я любовью к Нум…»
Зажегся я любовью к Нум, едва увидел лик ее
В долине той, где на холмах Ватаир лепится и Нак.
Я ради родинки ее теперь верблюдицу свою
Гоню во всю верблюжью прыть, усталую, сквозь пыль и мрак,
Я из-за родинки ее уже в долине слезы лил,
Опережавшие меня, — и слез источник не иссяк.
Не мир, а родинка виной, что мне постыло все вокруг,
Что поселился я в земле, где не растет ни плод, ни злак.
Виною родинка, что мой перемежается недуг,
Уйду — вернусь, вернусь — уйду, неверен мой безумный шаг,
Виновна родинка, что мне потайным шепотом она
Навек в свой дом замкнула дверь, недружелюбную и так.
Вблизи святыни взор ее пронзил меня своим лучом,
Еще звучат в моих ушах посулы недоступных благ.
Я многих в жизни забывал, но мне до гроба не забыть,
Как Нум в Медине меж подруг условный подала мне знак.
«Исчезни любовь на земле…»
Исчезни любовь на земле — и моя бы исчезла.
Но — видит Аллах! — исчезать не желает любовь.
Но если любви я лишусь с остальною вселенной,
На гибель свою, полюблю я, наверное, вновь.
Мне слушать отрадно тебя, хоть далеки от правды
Твои подозренья и хмуришь ты попусту бровь.
Услышу ли звук ее сладкого имени, други,
Всегда говорю себе: «Имя ее славословь!»
Увижу ль в толпе от любви потерявшего разум,
Во мне — говорю — безрассуднее бесится кровь.
Права ли она или нет? Буду ль ею отвергнут
Иль снова любим? Достоверный ответ приготовь.
«Припомнил я, что было здесь…»
Припомнил я, что было здесь,
Проснулась страстная мечта.
Однажды ночью исходил
Я эти грустные места.
Трех стройных женщин встретил я.
Одна уже вошла в лета,
Другая — с грудью молодой.
Сопровождала их чета
Красавицу, чей свет сиял,
Как солнце, встав из-за хребта.
Прекрасен был и тонкий стан,
И пышных бедер широта.
Спросил: «Кто вы? Прошу в мой дом —
Прохлада в нем и чистота!»
И уловил я беглый знак
Окрашенного хной перста:
«Останься на ночь здесь со мной —
Познай, что значит доброта!»
И ночь была щедра, всю ночь
Я целовал ее уста,
Всю ночь блистала предо мной
Упругой груди нагота.
Но наступил разлуки час,
Уже редела темнота,
И, проливая струи слез,
Мне говорила красота:
«Зачем вздыхать, себя терзать,—
Все буду горестью сыта…
Где б ни жила я, дверь в мой дом
Тебе навеки заперта.
Но мне, далеко от тебя,
И дома будет жизнь пуста.
Ведь мы — паломники: судьба
Свела нас здесь к концу поста».
А я сказал: «Люблю тебя,
Душа навек с тобой слита».
Она же: «Нет, изменчив ты,
С тобой одна лишь маета!
Каких бы ни твердил ты клятв,
Им не поверю я спроста.
Ах, если бы любовь твоя
Была не ложь, не суета!
Ты любишь ли, как я люблю?»
«В сто раз сильней, нет, больше ста!»
ПОЭЗИЯ ЭПОХИ РАСЦВЕТА
Середина VIII века — начало IX века
Башшар ибн Бурд Перевод Н. Горской
{138}«Как без любимой ночь длинна!..»
Как без любимой ночь длинна!
Весь мир скорее в вечность канет
Иль навсегда зайдет луна,
Чем милая моею станет.
На миг от боли я уйду,
Когда пригублю кубок пенный,
Когда поет в моем саду
Невольница самозабвенно.
Но как любимую забыть?
Забыть вовеки не сумею.
Когда б я мог любовь купить,
Я все бы отдал, что имею.
Я в бой пошел бы за нее
И защитил бы от печалей…
Но что ей рвение мое? —
Меня пред ней оклеветали.
В ночи бессонной я стенал,
Раздавленный ее презреньем,
«Убёйда, — тщетно я взывал,—
Пускай к тебе придет прозренье!»
Я раньше плакал перед ней —
Струились слезы, плащ прозрачный,—
И говорил: «Среди теней
Давно бы стал я тенью мрачной,
Когда б отчаялся вернуть
Твою любовь когда-нибудь!»
Избавь скорее от мучений
Того, кто праведником был
И кто в часы полночных бдений
Аллаха славил и просил
Прощенья за грехи земные,
Но дни потом пришли иные,
И к полногрудой деве страсть
Такую возымела власть,
Что я забыл про все святыни,
Про час господнего суда,
И не раскаялся поныне,
И не раскаюсь никогда!
Как горько мне — ведь я влюблен,
И нет тебя, любимой, рядом.
Мечусь — как будто скорпион
Всю кровь мою наполнил ядом.
Боюсь, в последний путь меня
Проводит с воплями родня
И не дождусь я светлых дней
Великой милости твоей.
И если плакальщиц печальных
Увидишь и задашь вопрос,
Кто спит в носилках погребальных,
Ответят: «Умерший от слез.
Он был влюблен, но не любим,
И ныне смерть пришла за ним…»
«Пускай светила совершают круг…»
Пускай светила совершают круг,
Не суетись, живи спокойно, друг,
И не гонись за благами, а жди —
Пусть на тебя прольются, как дожди.
Не сетуй, что любовь уже ушла,
Ведь Умм Мухаммад так тебя ждала!
…И вспомнил я: ты позвала меня,
И быстрый твой гонец загнал коня,
Пусть холодна сейчас она, как лед,—
Дай срок, — она сама к тебе придет…
И был привратник пьян, и муж уснул.
К тебе я дерзко руки протянул,
Но ты сказала, отстранясь слегка:
«Доильщик не получит молока,
Коль с ласковой верблюдицей он груб,
Не распускай же, мой любимый, рук!»
Как горько мне, когда взгляну назад,
Протоку Тигра вспомню и Багдад,
Моей любимой щедрые дары,
Беспечность и веселые пиры
В кругу друзей, что были так щедры…
Клянусь, я не забуду той поры!
Все минуло… Прошла любовь твоя…
Живу невдалеке от Басры я,
Но, милая, тебя со мною нет,
В песках сирийских твой затерян след,
Кочевница, забыла ты уют.
Тебя несет породистый верблюд,
И если захочу тебя найти,
Твой муж злосчастный встанет на пути,
Забвение твое, и твой отказ,
И рок всесильный, разлучивший нас…
Не сетуй, друг, на быстротечность дней,
Смирись, уймись и не тоскуй по ней,—
Что делать, коль иссяк любви родник?
Любовь являла и тебе свой лик,
И взгляд ее мерцал, как лунный блик,
И сладко пел просверленный тростник…
Аллах, любимую благослови
За счастье юных лет, за дар любви!
Жемчужина пустынь, бела, светла,
Как ты сияла, как чиста была!
Твоих одежд коснуться я не смел
И сам — пред робостью твоей — робел.
О человек! Былого не тревожь.
Надежду потеряв, не жди, чтоб ложь
Слетела с губ той женщины святой,
Которая была твоей мечтой.
«К Башшару, что любит бесценные перлы…»
К Башшару, что любит бесценные перлы,
Жемчужные слезы скатились на грудь.
Он бросил поводья в печали безмерной,
Не может с друзьями отправиться в путь.
Друзья на верблюдицах быстрых умчались
Остался Башшар — недвижим, одинок.
А слезы струились, текли, не кончались,
И плащ на Башшаре до нитки промок.
Он к месту прикован любовью и горем,
Великою силой губительных чар.
И плещутся слезы — жемчужное море,
И сердцем к любимой стремится Башшар.
Не может смежить он усталые очи,
Когда над землею сияет луна,
А если уснет, то к нему среди ночи
Во всех сновиденьях приходит она.
Та первая встреча… Мгновенное счастье…
Упал с ее плеч белоснежный бурнус,
Блестящие серьги, извивы запястья,
И губ удивительных сладостный вкус…
И стонет и шепчет Башшар исступленно:
«Приди поскорей, исцели от тоски!»
Но женщину муж караулит бессонно,
Меж ней и Башшаром пустыни пески.
Он выпил печали бездонную чашу,
С любимой ему не увидеться вновь…
По прихоти рока в спокойствие наше
Непрошеной гостьей приходит любовь.
Капризна любовь, как изменчивый ветер,
Она затевает с влюбленным игру,
И если счастливым он был на рассвете,
Несчастье ему принесет ввечеру…
Башшар… Не напрасно ли встречи он ищет?
Нашел ли он то, что упорно искал?
Пришел он однажды к ее становищу,
А страж на него, словно пес, зарычал.
Но понял Башшар, что сердиться не надо,
Вина караульного невелика —
Сожженный любовью встречает преграды
На подступах к сладкой воде родника.
Будь хитрым, Башшар, обуздай нетерпенье,
На помощь всю ловкость свою призови,
Проникни к любимой неслышною тенью
И ей, равнодушной, скажи о любви.
Скажи ей: «Взываю к тебе, словно к богу,
Любовью своей исцели мой недуг!
Ведь снадобья знахарей мне не помогут —
Умру я, несчастный, не вынесу мук.
Я в самое сердце тобою был ранен
И сдался без боя и духом ослаб.
Да где ж это видано, чтоб мусульманин
Томился в плену, как ничтожнейший раб?!
Так что же мне делать? Ответа я жду!
Помедлишь мгновенье — и мертвым паду».
«Не скорби и не сетуй, соседка моя…»
{139}Не скорби и не сетуй, соседка моя,—
Всем живым уготована чаша сия.
Мой сынок, что был ясного солнца ясней,
Он во власти могилы, он пленник камней.
Я отныне чужой в этой жизни земной —
Опочил он, и смерть породнилась со мной.
И когда б не боялся я гнева творца,
Я бы плакал над сыном моим без конца!
И, клянусь, я у смерти бы вырвал его,
Коль могло бы судьбу изменить колдовство!
Не страшусь умереть, как испить из реки,
Где мы все наполняем водой бурдюки.
Не хочу выставлять мою скорбь напоказ,
Но о сыне скорблю каждый день, каждый час.
Вопли плакальщиц юных о нем говорят,
Стоны голубя раны мои бередят.
Я молчу, застывает слеза на глазах —
Отпусти мне грехи за терпенье, Аллах!
Но позволь, о господь, попенять в тишине
На великую боль, причиненную мне.
Повинуясь призыву судьбы, он ушел —
Удивленья достоин судьбы произвол!
Я, как птица, дрожу, что попалась в силок,—
Почему был жесток и безжалостен рок,
Почему эту юную жизнь не сберег
И задолго до срока прервал ее срок?..
Он был деревцем вешним, встречавшим зарю,
И на юношей ныне я с грустью смотрю.
Он увял, мой Мухаммад, мой нежный росток,
И на старости лет я теперь одинок.
Ароматным он был, как невесты венок,
Благовонным он был, как расцветший цветок.
Благородным он был, словно чистый клинок,—
Кто его на рассвете из ножен извлек?
Ускакал он, как всадник в предутренний час,
Захватив скакуна запасного для нас.
Предстоит нам за ним на закате идти,
Ибо нету для смертных иного пути.
Мы в недобром, неправедном мире живем —
Так чего же мы ищем, чего же мы ждем
И на что мы надеемся, толпы невежд,
Переживших разлуки и гибель надежд?..
И всегда я дрожу, пораженный бедой,
Кто б ни умер — младенец иль старец седой.
«Наступила ночь, и нрав твой вздорный…»
Наступила ночь, и прав твой вздорный
Вновь низверг меня в пучину боли.
Обещанье, данное во вторник,
Оказалось ложью — и не боле…
Где я был — у врат ли Миксам в Басре
Или, может быть, в преддверье ада?
Этот взор и этот лик прекрасный,
А в речах медовых столько яда!
Я спросил: «Когда же будет встреча?»
На меня взглянула ты лукаво
И сказала: «Я ведьбезупречна,
Так зачем же мне дурная слава?»
И любовь меня схватила цепко,
Стала новой мукой и бедою.
Закружилось сердце, словно щепка,
В ливень унесенная водою.
Ты сверкнула солнцем с небосклона,
Ты ушла, как солнце на закате…
От любви умру, неисцеленный,
Без твоих врачующих объятий.
Помрачила ты мой светлый разум,
Сохранивши свой — незамутненным.
Я пошлю к тебе гонца с рассказом
Обо мне, безумном и влюбленном.
Я любовь принес тебе в подарок,
Где же щедрость, где же дар ответный?!
Но, как видно, все пропало даром —
Я в толпе остался незаметный.
В ожерелье мне приснись янтарном,
Лик яви, откинув покрывало…
Я, глупец, твоим поддался чарам,
Ты меня совсем околдовала.
Если б я свою любовь развеял,
Отдал вихрям и ветрам свободным,
Ветер бы ее опять посеял,
И она дала бы в сердце всходы.
Утоли мне жажду хоть немного,
Дай воды из чистого колодца,
А когда предстанешь перед богом,
Доброта твоя тебе зачтется.
Чем была та встреча — лишь насмешкой,
Прихотью случайной и мгновенной?..
Предо мною будь хоть трижды грешной,
Все тебе прощу я, все измены.
Я не в силах побороть томленья,
Без тебя слабею, вяну, гасну.
Ты взойдешь ли, солнце исцеленья?
Не взойдешь — умру я в день ненастный..
«Назови своей любимой имя!» —
Говорят мне близкие порою.
Я хитрю, лукавлю перед ними,
Имени любимой не открою.
Лишь наедине с собой, в пустыне,
Славлю это имя, как святыню.
«Я долго к ней страстью пылал…»
Я долго к ней страстью пылал,
Преследовал и упрекал,
Но Хинд мне лгала ежедневно,
А я, — печальный и гневный,—
Придя на свиданье, рыдал,
Напрасно ее ожидал.
Была она неуловима,
Как легкое облачко дыма.
Друзья надо мной измывались,
Над страстью моей издевались,
Над жгучей любовною жаждой.
Но другу сказал я однажды:
«Чтоб ты подавился едой,
Чтоб ты захлебнулся водой
За эти поносные речи!
Аллах пусть тебя изувечит
За глупые эти советы,
За гнусные эти наветы»!
Но Хинд сожалений не знала,
Она надо мной колдовала,
Играла моею судьбой,
Обманами и ворожбой,
Как цепью, меня приковала,
Бальзама она не давала
Тому, кто от страсти зачах,
Стеная и плача в ночах,
Кто сердце, как двери, открыл
И Хинд в эти двери впустил.
О, дайте мне лук поскорей
И стрелы, что молний острей!
Жестокой любовью палимый,
Я выстрелю в сердце любимой,
Чтоб огненной страсти стрела
Холодное сердце прожгла!
Я раб моего вожделенья,
Которому нет завершенья.
Я раб с того самого дня,
Когда она мимо меня
В душистом своем ожерелье,
В одеждах, что ярко пестрели,
Прошла, колыхаясь, как лодка,
Скользящей и плавной походкой.
Ужель позабыть ты могла
Ту ночь, когда дымная мгла
На небе луну сожрала,
Когда ты моею была,
И был я и робким и страстным,
И вдруг пред рассветом ненастным,
Исхлестанный черным дождем,
Гонец постучался в наш дом,
Явился и спас нас двоих
От родичей гневных твоих…
Отдавшись любви, как судьбе,
Забыл я о Страшном суде,
И Хинд разлюбить я не волен —
Любовью и юностью болен…
И Хинд наконец мне сказала,
Слегка приподняв покрывало:
«Как ворон, сторожкая птица,
Что глаз любопытных боится,
Проникни во тьме, в тишине
Незримо, неслышно ко мне,
Чтоб люди тебя не видали
И после судачить не стали».
И, ночи дождавшись с трудом,
Проник я к возлюбленной в дом,
Но были мы оба жестоки,
И сыпались градом упреки,
И, руки воздев к небесам,
Воскликнул я: «Стыд мне и срам
За то, что я столько терплю
От девы, что страстно люблю!»
И Хинд, зарыдав, отвечала:
«О милый, ты выпил сначала
Горчайшее в мире питье,
Но дрогнуло сердце мое,—
Тебя я избавлю от пыток
И дам тебе сладкий напиток».
«О прекрасная Абда, меня исцели…»
О прекрасная Абда, меня исцели,
Уврачуй, как бальзам, и печаль утоли!
И не слушай наветов, чернящих меня,
Ибо тот, кто, по злобе другого черня,
Хочет выставить наши грехи напоказ,
Тот и сам во грехах и пороках погряз.
Ты поверь, что коварства в душе моей нет,
Я, поклявшись в любви, не нарушу обет.
Вероломство людей удивительно мне —
После смерти лжецы пребывают в огпе.
Клятву верности я пред тобой произнес,
И омыл ее чистыми каплями слез,
И вонзил эту клятву, как нож, себе в грудь
Для того ли, чтоб ныне тебя обмануть?!
Ты суровой была, ты меня прогнала,
И печальные вздохи мои прокляла,
И не верила ты, что я чист пред тобой,
Что душа моя стала твоею рабой,
Что отныне она лишь тебе отдана
И ни в чем пред своей госпожой не грешна.
Ведь порою, когда меня гложет тоска,
Я гляжу на красавиц, одетых в шелка,
Что, как дикие лани, легки и стройны
И, как царские дочери, томно-нежны,
И проходят они, завлекая меня,
Красотою своею дразня и маня,
И подходят они и зовут за собой,
Наградить обещая наградой любой,
Но их сладостный зов не ласкает мой слух —
Я не внемлю ему, и печален и глух,
Я спокойно гляжу этим девушкам вслед,
В моем сердце желанья ответного нет,
Ибо сердцем моим завладела она,
Та, что так хороша, и робка, и скромна.
Эта девушка — ветка цветущей весны,
Ее стан — как лоза, ее бедра полны.
Восклицают соседи: «Аллаху хвала,
Что так рано и пышно она расцвела!»
Без чадры она — солнце, в чадре — как луна
Над которой струится тумана волна.
Она стала усладой и болью для глаз,
Она ходит, в девичий наряд облачась,
Опояской тугою узорный платок
По горячим холмам ее бедер пролег.
Ее шея гибка, ее поступь легка,
Она вся — словно змейка среди тростника.
Ее кожа нежна, как тончайший атлас,
И сияет она, белизною лучась.
Ее лик создавала сама красота,
Радость вешнего солнца на нем разлита.
Ее зубы — что ряд жемчугов дорогих,
Ее груди — два спелых граната тугих,
Ее пальцы, — на свете подобных им нет! —
Как травинки, впитавшие росный рассвет.
Завитки ее черных блестящих волос —
Как плоды виноградных блистающих лоз,
Ее речи — цветы, ее голос медвян —
Словно шепчется с желтым нарциссом тюльпан.
Никого не ласкала она до меня
И любовного раньше не знала огня.
Она вышла однажды — и мир засиял,
Сам Аллах мне в тот миг на нее указал.
И прошла она мимо, как серна скользя,
И я понял, что спорить с судьбою нельзя.
И любовь в моем сердце тогда родилась,
И была велика этой девушки власть.
И спросил я людей: «Вы заметили свет,
Что течет от нее?» — и услышал ответ:
«Ненавистного лик отвратительней туч,
А любимого лик — словно солнечный луч».
«Бубенцы и ожерелья рок унес…»
Бубенцы и ожерелья рок унес,
И мой плащ насквозь промок от ливня слез.
Каждый день уходят близкие от нас,
Одинокий, жду, когда пробьет мой час.
На ветру я, как больная птица, стыну
И мою предвижу горькую судьбину…
Нет друзей… Одни стяжатели вокруг,
Всех снедает лютой алчности недуг.
Люди, люди, вы цари, когда берете,
Вы презренные рабы, когда даете!
Вопрошали меня близкие с тоской:
«Неужели одинаков род людской?»
Отвечал я: «Люди — звери двух сортов,
Я делю двуногих на свиней и псов,
Отличаются одни собачьей хваткой,
А другие свинской, грязною повадкой».
Много ль скромных, чьи потребности малы,
Много ль матерей, достойных похвалы?
Где отыщешь силача и добряка,
Друга, чья душа щедра и широка?
Поиски мои — напрасные старанья,
Я скиталец, беспокойный вечный странник…
Так уйди же в тень, живи и сир и наг
И не домогайся преходящих благ!
Жаждем мы богатства в страсти неуемной
И порой теряем свой достаток скромный.
А в итоге все уйдет, в забвенье канет,
Кто нас вспомнит, добрым словом кто помянет?..
Знаю, говорят, что я умен и смел,
Говорят, я истину найти сумел.
Но простая истина у мудреца:
Бедность и богатство — все в руке творца.
Человек, ведь ты в своей судьбе не волен,
Так не суетись и малым будь доволен.
Сердце обуздай, к терпенью приучи
И разбавленным вином себя лечи.
«Сколь безмерна, повелитель, власть твоя!..»
{140}Сколь безмерна, повелитель, власть твоя!
Коль прикажешь — станем мы летать, как птицы
И поверь мне, клятвы не нарушу я:
Я ведь благороден, лгать мне не годится.
Спас меня ты, повелитель мусульман,
Как умелый врач больного лихорадкой,—
В наслажденья погружен, в туман, в дурман,
Я, бедняга, изнывал от жизни сладкой.
Добрые советы были мне не впрок,
Отличался я упрямством беспримерным,—
С материнским молоком впитав порок,
Следовал всю жизнь своим привычкам скверным
Повелитель, видел ты меня насквозь
И решил спасти поэта от напасти,
Но в итоге ухватил напасть за хвост
И не разглядел ее разверстой пасти,
Ибо ты ошибся в выборе людей
И не дураков послал ко мне с приказом —
Я же маг, певец, великий чародей,
У меня язык остер и светел разум.
Мне внимают юноши и старики
С удивлением, с восторгом небывалым,
И стихи мои журчат, как ручейки,
Жемчугами сыплются, сверкают лалом.
Людям я дарю то сладостный покой,
То волненье, то блаженное забвенье
И пред ними нескудеющей рукой
Рассыпаю драгоценные каменья.
Люди говорят: «Владыки дружат с ним,
Он прославился средь персов и арабов,
И огонь его горит, неугасим,
Вдохновляя сильных, согревая слабых.
Сочетались в нем и ум и широта —
Все ему понятно, все легко дается.
Он не сетует, когда мошна пуста,
Деньги раздобыв, над ними не трясется.
Женщины ликуют от его острот,
От серьезных слов становятся серьезней,
И к нему, премудрому, идет народ
И толпится у ворот до ночи поздней.
В годы юности он был силен и смел,
Львы пред ним дрожали и скулили в страхе.
Нас он песнями любви пленить сумел,
Но разгневался халиф, — и он — во прахе…»
Понял ты, о Махди, славный наш халиф,
В чем спасение, в чем гибель для поэта?
Впрочем, я теперь спокоен и счастлив,
Ибо без любви ни зла, ни грусти нету.
Абу Нувас
{141}«О ты, кладущий яйца куропатки…» Перевод М. Кудинова
О ты, кладущий яйца куропатки
Под курицу! Когда б твои повадки
Глазам ее открылись только раз,
За свой подлог остался б ты без глаз.
О ты, который, опыту не веря,
В солончаках решил сажать деревья,
Не видишь разве — зло царит вокруг.
О ком сказать ты можешь: «Вот мой друг»?
«Ты глыбой ненависти стал…» Перевод М. Кудинова
Ты глыбой ненависти стал,
Стоишь — не сдвинуть: крепче скал.
С тобой общаться — как на гору
Карабкаться в плохую пору.
Аллах, когда тебя лепил,
Не подсластил, не посолил.
Я разгадать тебя пытался,
Но, что ты, так и не дознался.
Смех тратить на тебя — грешно,
Воздать хвалу тебе — смешно.
Посмотришь на тебя, о боже!
Лицо с пометом птичьим схоже.
И если ночь ты пережил,
Пусть утром хлынет кровь из жил.
А если очутился в море,
Дай бог, чтоб утонул ты вскоре.
«Кубки, наши соколы…» Перевод М. Кудинова
Кубки, наши соколы,
За вином летают;
Лютни, наши луки,
Сладостно играют.
Наша дичь — газели,
Утренние зори,
А добыча — девушки
С нежностью во взоре.
С пылкими сраженьями
Наши ласки схожи,
И бои ведем мы
На любовном ложе,
Кровь не проливаем,
Без греха воюем,
Утром мы пируем,
Вечером пируем.
«О, как прекрасна эта ночь…» Перевод М. Кудинова
О, как прекрасна эта ночь и как благословенна!
Я пил с любимою моей, любви пил кубок пенный.
Я поцелуя лишь просил — она была щедрее,
От счастья я в ее отказ поверил бы скорее.
«Лицо его — словно луна…» Перевод М. Кудинова
Лицо его — словно луна, а к губам поднесенный
Сверкающий кубок похож на светильник зажженный.
Оружьем любви он увешан, и меч его взора
Дарован ему красотой для любовного спора.
Улыбка — кинжал его, брови — что выгнутый лук,
А копья-ресницы смятение сеют вокруг.
«Купил беспутство я…» Перевод М. Кудинова
Купил беспутство я, не понеся урона:
Мной благочестье было продано законно;
Я легкомыслие избрал поводырем,
Теперь уж до конца ходить мне с ним вдвоем.
Одну красотку с подведенными глазами,
С лицом как свет зари, горячую, как пламя,
Податливую христианку много раз
И в поздний час я целовал, и в ранний час.
Была красотка моему приходу рада
И знала хорошо, что ждет ее награда,
И открывала мне бутыли, где давно
Хранилось старое, но чистое вино.
Прошли пред ним века, не знавшие покоя,
Ему известен Ной и даже предки Ноя,
И я красавицу поил им, и она
Пьянела — но, клянусь, не только от вина.
«Старик отведал поутру…» Перевод М. Кудинова
Старик отведал поутру божественного зелья,
Что избавляет от забот и дарит нам веселье.
У мирозданья все цвета то зелье похищает,
И в кубке радугой горит, и взор наш восхищает.
Старик смеется и поет, и данью восхваленья
Должны стихи ему платить за этот смех и пенье.
Кувшин, и кубок, и бурдюк — для старика отрада.
За то, что он всегда хмельной, корить его не надо.
«Покуда взор мой…» Перевод М. Кудинова
Покуда взор мой полный кубок не узреет,
Нет радости ни в чем, ничто меня не греет.
Берут заботы в плен и на душе темно!
Оружья лучшего не сыщешь, чем вино!
А если бы вино ключом однажды стало,
Замки скупцов оно легко бы открывало.
Дни без него пусты и мрачны вечера,
И я пью вечером и снова пью с утра —
С вином не расстаюсь, и если ненароком
Ты укоришь меня, то в этом мало проку.
«Настало утро, и запели птицы…» Перевод М. Кудинова
Настало утро, и запели птицы.
О братья, не пора ли нам напиться?
Проспитесь же! Кувшин скорбит о том,
Что день грядет, а мы объяты сном.
Вино еще не смешано с водою,
Смешаешь их — расстанешься с бедою.
Все радостным покажется вокруг,
И станет шутником твой хмурый друг.
Урод красавцем станет, а тупица,
Вдруг поумнев, на нас не будет злиться.
Так выпьем, чтобы нам с утра опять
Блистать умом, шутить и хохотать.
«Томность глаз твоих…» Перевод М. Кудинова
Томность глаз твоих — свидетель верный,
Что провел ты ночь совсем не скверно.
Так признайся, правды не тая,
Что была блаженной ночь твоя.
Пил вино ты из большого кубка —
И вином пропитан, словно губка.
А любовь тебе дарила та,
Чье лицо прекрасно, как мечта.
Струны лютни для тебя звучали,
Струны сердца лютне отвечали.
«О лжесоветчик, расточающий упреки…» Перевод М. Кудинова
О лжесоветчик, расточающий упреки
За то, что пью вино! Слова твои жестоки.
Вино внушило мне не расставаться с ним,
Похвальное заставило считать плохим,
Оно здорового недугом заражает,
Больных в цвета здоровья обряжает.
Я расточителен, покуда есть вино,
И алчен, как скупец, когда на дне оно.
«Где в жизни что‑нибудь найдешь…» Перевод М. Кудинова
Где в жизни что-нибудь найдешь, имеющее сладость?
Все в жизни горько, как миндаль, а горечь нам не в радость.
И разве не заметил ты, что даже в самой сути
Жизнь — это горькая вода, в которой столько мути?
«Когда, увидав на лице моем…» Перевод М. Кудинова
Когда, увидав на лице моем брызги вина,
Над жизнью моей непутевой смеется она,
Я ей говорю: «Для меня ты желаннее всех,
Но ты же и всех бессердечней со мной, как на грех,
Желаньям моим дай исполниться! Жизнью клянусь
(Хоть сердишься ты, да и сам на тебя я сержусь),
Клянусь моей жизнью: пожертвовать жизнью я рад
За ласку твою, за один твой приветливый взгляд.
Я дам тебе все, даже птичьего дам молока,
Хотя с казначейством я дел не имею пока».
«С вином несмешанным…» Перевод М. Кудинова
С вином несмешанным ты кубка не бери
Из рук жеманницы, чей взгляд нежней зари.
Сильней вина тот взгляд пьянит, суля нам счастье,
И в сердце у тебя зажжет он пламя страсти.
Погибли многие от этого огня,
Газель жеманную в жестокости виня.
К ней близко подойдешь — уж на судьбу не сетуй!
Ее оружие — звенящие браслеты.
«Что за вино!..» Перевод М. Кудинова
Что за вино! Как будто в кубках пламя
Зажгло свои светильники над нами;
Как будто благовоньями полно
С водою в брак вступившее вино.
На пиршестве в нас посылая стрелы,
Оно не ранит ими наше тело,
Оно не угрожает нам бедой.
Мне юноша смешал вино с водой,
И пил из кубка я неторопливо,
Другой рукой лаская стан красивый
Газели стройной — был я как во сне
И, опьянев, она сказала мне:
«Настойчив будь, мой повелитель милый!
Заставь меня склониться перед силой».
И, погрузив мой взор в ее глаза,
«Приди ко мне на ложе», — я сказал.
И шелковый шнурок мы развязали,
И мы парчу кафтана разорвали.
«Вот юноши, чей лик…» Перевод М. Кудинова
Вот юноши, чей лик подобен звездам ночи.
Как веселы они! Заботы их не точат,
А кубок их манит… Когда ночная мгла
Свой плащ раскинула и жажду в них зажгла,
В путь тронулись они, пошел я с ними тоже,
И был хозяин винной лавки потревожен:
Я барабанил в дверь его, что было сил.
«Скажите, кто там?» — он испуганно спросил.
Ответил я: «Здесь тот, кого веленья страсти
Влекут сюда, и нет ему иного счастья».
Тогда хозяин рассмеялся и сказал:
«На пользу мне твой стук, как я теперь узнал».
И он светильником нам осветил дорогу.
Потом невесту, охраняемую строго,
Извлек на божий свет — тот лучший дар земли
Для венценосного Хосрова берегли,
А ныне юноша, украшенный серьгами,
Дар этот в кубки льет холеными руками.
Прекрасен юный лик — как солнцем озарен,
Ночь в волосах его, судьбе подобен он,
Судьбе, не терпящей согласия людского,
Судьбе, что разжигать раздоры их готова.
«Я этого глупца…» Перевод М. Кудинова
Я этого глупца в кругу друзей увидел.
Он был противен мне, его я ненавидел.
«Чего бы ты хотел?» — спросил меня глупец.
Ответил я: «Хочу, чтоб смолк ты наконец».
«Жизнь — это пир…» Перевод М. Кудинова
Жизнь — это пир, где для одних — веселье и утеха,
А для других — утехи нет, другим уж не до смеха.
Один богатством окружен — что делать с ним, не знает,
Другой, промаявшись весь день, голодным засыпает.
И так издревле повелось: одним нужна лишь малость,
А у других — желаний нет: им в жизни все досталось.
«Тому, кто знает скрытое, хвала!..» Перевод М. Кудинова
Тому, кто знает скрытое, хвала!
Превратностям и тайнам нет числа.
Немилостива к нам судьба бывает:
Она цветы надежды обрывает.
Душа моя, о, до каких же пор
К мечте пустой прикован будет взор?
Душа моя, пока ты в состоянье
Покаяться — предайся покаянью.
Проси того, кто милостив для всех,
Чтоб и тебе он отпустил твой грех.
Как налетают ветры непогоды,
Так кружат надо мной мои невзгоды.
И пусть многообразья жизнь полна,
Пусть все несхожи — смерть для всех одна.
Стремись же к благочестью всей душою:
Оно ведь благо самое большое,
Хотя на протяжении веков
Никто им не спасался от грехов.
«Если безденежье будет…» Перевод М. Кудинова
Если безденежье будет и впредь продолжаться,
Дом я покину, с родными придется расстаться,
Даже одежду придется продать, и тогда
Дом свой покинуть уж я не смогу никогда.
«О ты, в глазах которой — скорпион…» Перевод М. Кудинова
О ты, в глазах которой — скорпион,
Всех проходящих мимо жалит он.
О ты, на чьем лице рассвет алеет,
Он никогда не меркнет, не бледнеет.
О ты, что мне дала надежды свет,
Не ярок он, и радости в нем нет.
Ты отвернулась — и слова привета,
Слова мои остались без ответа.
«Бедой великой ныне я сражен…» Перевод М. Кудинова
Бедой великой ныне я сражен:
Меня забыла та, в кого влюблен.
А я из-за любви к ней и влеченья
Нешуточные вытерпел мученья.
Теперь она со мною холодна,
И писем нет — не шлет их мне она.
О, как это на истину похоже:
Кто скрылся с глаз — ушел из сердца тоже!
«Пить чистое вино…» Перевод М. Кудинова
Пить чистое вино готов я постоянно,
Газелей стройных я целую неустанно.
Пока не порвана существованья нить,
Блаженство райское должны мы все вкусить.
Так пей вино и наслаждайся созерцаньем
Лица, что привлекло своим очарованьем;
Цветы шиповника на щечках расцвели,
В глазах все волшебство и неба и земли,
А пальцы тонкие, что кубок обхватили,
В себе всю красоту земную воплотили.
То высится как холм она…» Перевод М. Кудинова
То высится как холм она, то как тростник склонилась,
Ей прелесть редкая дана, в ней юность воплотилась.
Отсюда далеко она. Но встреча с ней, поверьте,
Порой опасности полна: взглянул — и близок к смерти.
Сидит ли молча пред тобой иль говорит несмело —
Натянут лук ее тугой, неотвратимы стрелы.
О ты, что создана была из красоты и света,
Ты, у кого моя хвала осталась без ответа,—
Обремени меня грехом: мне будет в утешенье,
Что не войдут тогда в мой дом другие прегрешенья.
«Как сердце бедное мое кровоточит!..» Перевод М. Кудинова
Как сердце бедное мое кровоточит!
Газелью ранен я — был бесполезен щит.
Из-за нее я обезумел в миг единый,
Хоть в волосах моих уже блестят седины.
Проходит ночь без сна, и кажется к утру,
Что смерть моя близка, что скоро я умру:
Коль сердце ранено любви стрелою меткой,
Искусство лекаря тут помогает редко.
«Посланец мой сказал…» Перевод М. Кудинова
Посланец мой сказал: «Записку я вручил,
Но вот ответа на нее не получил».
Я у него спросил: «Она ее читала?»
«Читала», — он сказал. «О, это уж немало! —
Воскликнул я тогда. — Доволен я вполне:
Ее приход сюда ответом будет мне».
Надеждой тешусь я в моей печальной доле,
Чтоб наземь не упасть, не закричать от боли.
«Просил у нее поцелуя…» Перевод М. Кудинова
Просил у нее поцелуя, и мной он получен —
Но после отказов, которыми был я измучен.
Тогда я воскликнул: «Раздвинь милосердья границы
Нельзя ли еще на один поцелуй расщедриться?»
Она улыбнулась и мне повторила присловье,
Известное персам, и нам оно тоже не внове:
«Не надо ребенку игрушку давать дорогую:
Получит одну — и потребует сразу другую».
«Доставлю радость я тебе…» Перевод М. Кудинова
Доставлю радость я тебе — умру от горя
И замолчу навек… Случится это вскоре.
Для сердца твоего легко меня забыть,
А я храню обет — до смерти верным быть.
Все изменяется под хладною луною.
Как изменилась ты! Как холодна со мною!
Но если я теперь ничто в твоих глазах,
То истину тебе не дал узреть Аллах.
«Улыбаются розы…» Перевод М. Кудинова
Улыбаются розы, и звонкие струны звенят.
Флейта стонет и плачет, наполнился звуками сад.
Веселятся друзья, породненные дружбой сердечной,
Никого нет на свете родней, чем товарищ беспечный.
И друг друга вином угощают из кубков друзья,
От сосцов, источающих хмель, оторвать их нельзя.
Сколько раз поскользнулся хмельной — сосчитать невозможно,
Сколько раз поднимался, испачканный пылью дорожной!
«Пустыни воспевать?..» Перевод М. Кудинова
Пустыни воспевать? Но нет до них мне дела;
И девы красота душой не завладела;
Любить и воспевать другое мне дано;
От Вавилона к нам дошедшее вино.
Вода, смешавшись с ним, его не украшает,
Оно — всесильный дух, что в тело проникает.
Отведавший его на крыльях воспарит,
А глупый — как мудрец с людьми заговорит.
Однажды темною дождливою порою
С друзьями, чьи сердца не ведали покоя,
Я в лавку винную отправился… Купцы
Уж спали, мрак объял лачуги и дворцы.
Ломились в лавку мы. Купец дрожал от страха,
Он мог защиты ждать от одного Аллаха.
Он притворялся, будто спит, решив, что мы
Или ночной патруль, или исчадья тьмы.
Тут стали звать его по имени мы дружно,
И он сообразил: бояться нас не нужно.
Приход наш выгоду одну сулил, и, нам
Ответив наконец, он бросился к дверям.
И, убежденный, что никто его не тронет,
Блестя улыбкою, склонился он в поклоне.
Теперь готов он был сказать сто раз подряд:
«Добро пожаловать, входите, я вам рад».
И лампу он принес, чтоб нам пройти свободно,
И было у него все, что душе угодно.
Ему сказали мы: «Поторопись, купец,
Ночь скоро дню отдаст свой царственный венец».
И золотистое вино в расцвете силы
Принес он, и оно кипело и бурлило.
Блеск пламени его к себе манил наш взгляд,
Вдыхали ноздри наши тонкий аромат.
Флейтистка нас игрой своей увеселяла,
Склониться перед ней могли б немые скалы.
И не было ее милее и нежней,
Кто видел раз ее, стремиться будет к ней.
В кафтан одетый, виночерпий к нам явился,
От юного лица роз аромат струился.
Но благовоньями он не был умащен:
Благоухал красой и молодостью он.
И виночерпий нас поил, не уставая,
Ты чашу осушил — уже кипит другая.
Потом он песню спел, мы вторили ему:
«Грущу в чужих краях, вперяя взор во тьму».
Кто был из нас влюблен, тот слезы лил в печали,
И радости конец те слезы означали.
Но не смущал других любовный этот плач,
А в это время ночь разорвала свой плащ,
И скрылся Сириус, и означало это
Победу близкую грядущего рассвета.
«О упрекающий…» Перевод М. Кудинова
О упрекающий, в вино влюблен я страстно!
Так не брани меня: ведь брань твоя напрасна.
Без кубка пенного я не провел ни дня,
Как все запретное, вино влечет меня.
Мне перед пиршеством не жгли сомненья душу,
Не будучи глухим, упреков я не слушал.
И не был никогда товарищем скупцу:
Дружить со скупостью нам, щедрым, не к лицу.
Дарю лишь тем, кто щедр, свое расположенье,
Они внушают мне любовь и уваженье.
Вино, как девушка-плутовка, чья краса
Подобна молнии, пронзившей небеса.
Тебя душа вина сочла за совершенство
И вот зовет вкусить греховного блаженства.
Ты, как красавицей, был соблазнен вином,
Теперь все мысли и мечты твои — о нем.
Перед подругами красавица гордится,
Что всех она хитрей, а с виду — голубица.
Она внушает страсть, что всех страстей сильней,
И бубны звонкие трепещут перед ней.
И к лютне тянется она, когда по кругу
Пускают чашу и глядят в глаза друг другу.
В забавах рыцарских не уступая мне,
Из лука зверя бьет и скачет на коне.
На ней мужской кафтан, она не носит шали
И кудри коротко стрижет, чтоб не мешали.
Ей верным сыном я останусь до конца,
И от меня вино не отвратит лица.
Мне кубка жаль скупцу, тут со скупцом мы схожи,
Мне благородное вино всего дороже.
Зато таких, как сам, им щедро одарю,
Вино к нам милостиво, с ним мы как в раю.
«Я наслажденьям предаюсь…» Перевод М. Кудинова
Я наслажденьям предаюсь, отбросив всякий стыд,
И эту тайну мой язык от смертных не таит.
Ничтожество людское мне известно, и прощенья
Не собираюсь я просить за эти наслажденья.
Я знаю, время — западня и смерть там ждет меня,
Но наслажденьям предаюсь, как будто вечен я.
И на законы бытия взираю я спокойно:
Ведь с ними примирил меня наш виночерпий стройный.
Ной древний взращивал лозу, а в кубок влагу льет
Тот, кто с газелью юной схож, кто радость нам несет.
Здоровьем пышет лик его, но кажется нам томным,
Он жизнь дарует, если добр, убьет отказом скромным.
Горячих солнечных лучей глаза его полны,
А на груди как будто блеск серебряной луны.
И руки в темных рукавах напоминают очень
Сиянье радостных светил во мраке жаркой ночи.
Вино отраднее с ним пить, чем, позабыв покой,
Коня на битву снаряжать или спешить на бой.
Какая радость у людей, которым копья-руки
Подносят кубок роковой, таящий смерть и муки?
И много ли отрады в том, когда им шлет привет
Блеск машрафийского меча — и стона ждет в ответ?
«Дай волю юности!..» Перевод М. Кудинова
Дай волю юности! Седины, тусклый взор
Все наслажденья обрекают на позор.
Пусть кубок с девственным вином, идя по кругу,
Дарует хмель свой и красавице и другу.
Как бы от вечности самой утаено,
Хранилось у купца заветное вино.
Там пряталось оно в кувшине, врытом в землю,
Таилось ото всех, в своей бутыли дремля.
В двойном сосуде коротало вечера,
В сосуде, созданном искусством гончара.
Как петушиный глаз, вино во тьме сверкало,
Бахрейнским мускусом оно благоухало.
С друзьями юными не раз случалось нам
К виноторговцу в дверь стучаться по ночам.
Из тайников своих он извлекал охотно
Сосуд и в нем вино нежней, чем дух бесплотный.
И, чудо увидав, — искрящийся сосуд,—
Так восклицали мы: «Что происходит тут?»
«Откуда в час ночной сияние рассвета?»
Но кто-то возражал: «Нет, свет пожара это!»
И вот уже юнцы нам в кубки льют пожар,
Один одет в кафтан, а на другом зуннар.
Свет принесли они — и все пути открылись
Для поздних путников, что ночью заблудились.
Вино в присутствии воды как бы дрожит,
И от него вода испуганно бежит.
Вино, как некий дух, готовый скрыться в тучи
От догоняющей его звезды падучей.
Но кубок не дает ему бежать, и вот
Оно в нем плещется и через край течет.
И мы из кубка пьем вино, что с небом схоже,
Осколки тысяч лун в его таятся ложе.
Нагим пришло вино, но своего врага
Вода, смешавшись с ним, одела в жемчуга.
Хоть ожерелия они не составляют,
Но пузырьки воды искрятся и сверкают.
Живет в квартале нашем девушка, и ей
Покорны звуки струн, как госпоже своей.
Струна басовая, струна вторая, третья
Звучат на лютне самой сладостной на свете.
Великий мастер создавал ее в тиши,
Без струн она была, как тело без души.
И мастер дерево искал, чтоб дать ей тело,
Взял в роще лучшее и принялся за дело.
Хоть не замешано здесь было волшебство,
Волшебным выглядит творение его.
Как скорпиона хвост — изогнутая шея
У лютни, созданной руками чародея.
И с голосом людским струна вступает в спор,
Когда заводит песнь разноязычный хор.
Так торопись вкусить все эти наслажденья,
Ведь всепрощающий дарует нам прощенье.
«Когда любимая покинула меня…» Перевод М. Кудинова
Когда любимая покинула меня,
На небесах померкло солнце — светоч дня.
И так измучили меня воспоминанья,
Так думы черные терзали мне сознанье,
Что дьявола тогда призвал я, и ко мне
Явился он потолковать наедине.
«Ты видишь, — я сказал, — от слез опухли веки,
Я плачу, я не сплю, погублен я навеки.
И если ты свою здесь не проявишь власть,
Не сможешь мне вернуть моей любимой страсть,
То сочинять стихи я брошу непременно,
От песен откажусь, забуду кубок пенный,
Засяду за Коран, и будешь видеть ты,
Как я сижу за ним с утра до темноты.
Молиться я начну, поститься честь по чести,
И будет на уме одно лишь благочестье…»
Вот что я дьяволу сказал… Прошло три дня —
Моя любимая пришла обнять меня.
«Вперед, друзья, на славный бой…» Перевод Б. Шидфар
Вперед, друзья, на славный бой, мы — рыцари вина!
Благоуханием ночным душа услаждена.
Хмельное зелье манит нас. Приняв смиренный вид,
Оно повалит храбреца и вольного пленит.
Кувшин и кубок одолев, мы обнажили дно,
Но кратким было торжество — сразило нас вино.
От алых отблесков его горит моя ладонь,
А блеск сжигает мне глаза, как греческий огонь{142}.
Оно, как пышущий костер, внушая страх сердцам,
Потоком в глотки полилось отважным молодцам.
Умом людским повелевать познавши ремесло,
Оно у вечности седой на лоне возросло.
А поутру весна в саду покажет ясный лик,
Здесь нам подарит аромат душистый базилик.
Шурша от зависти листвой, одежды разодрав,
Нам на подушки бросит сад охапки свежих трав.
Вино уж смешано с водой, от пены поседев.
Налей, красотка, нам полней, ты краше райских дев!
Пусть наших глаз язык немой сердца соединит,
Какой мудрец неслышных слов значенье объяснит?
Моля о встрече, только я пойму ее ответ:
Мне «да» ответили глаза, промолвят губы: «Нет!»
Спроси: «Какой язык важней?» — и мой ответ таков:
Язык влюбленных на земле всех выше языков!
«Глупец укоряет меня за вино…» Перевод Б. Шидфар
Глупец укоряет меня за вино,
Ему дураком умереть суждено.
Он разве не знал: от подобных ему
Такие упреки я слышу давно!
Его ли мне слушать? Всевышний Аллах
Вино запрещает — я нью все равно.
Наполню я кубок вином на заре —
Как солнечный свет золотится оно.
Бранись, лицемер, от упреков твоих
В груди пламя жажды воззожжено.
«Смерть проникла в жилы…» Перевод Б. Шидфар
Смерть проникла в жилы, сжав меня в тиски,
Лишь глаза и мысли все еще живут
Да трепещет сердце, полное тоски…
Кто сочтет последних несколько минут?
Лишь себе послушны, как черны виски,
К богу мы взываем только в смертный час.
Где мои утехи? Их смели пески.
Где вы, дни и ночи? Как вернуть мне вас?
Поднимите бремя гробовой доски,
Чтоб наполнить кубок мне в последний раз!
«Стены и замки в степях и горах…» Перевод Б. Шидфар
Стены и замки в степях и горах
Волею судеб рассыплются в прах.
Разум бессонный о смерти твердит,
Дней быстротечность внушает нам страх.
Грусть коротка у безмолвных могил,
Кратко веселье на шумных пирах.
Жалкая доля — лишь саван да гроб —
Все достоянье в обоих мирах.
«Хвала тебе, боже!..» Перевод Б. Шидфар
Хвала тебе, боже! Могучей десницы движенье
Из небытия бросает нас в мир униженья —
Чтоб нам умолкать перед наглостью злого невежды,
Чтоб попраны были заветные сердца надежды.
Я верности, дружбы и братства уже не взыскую,
Спросить я хочу — кто познал благодарность людскую?
Добряк благодушный, ты станешь насмешек мишенью,
Людей возлюби — и не будет конца поношенью.
Друзей заведи, не жалей ни добра, ни досуга,
Любовь расточай и надейся на преданность друга,
Делись сокровенным, предайся душою и телом,
Стань духом бесплотным, что бродит в краю запустелом,
Забудь о делах, лишь исполни друзей пожеланье,
Стань жертвой покорной, что люди ведут на закланье,
Ослушаться их не посмей, ну а если невольно
Из уст твоих вырвется дерзкое слово «довольно»,—
Тебя оболгут, и вкусишь ты превратности рока,
Беспутным ославят того, кто не ведал порока.
Абу-ль-Атахия Перевод М. Курганцева
{143}«Добро и зло заключено…»
Добро и зло заключено в привычках и желаньях,
Вражда и дружба сотни раз меняются местами,
И это ведает любой, вкусивший горечь знанья,
Проникший в истинную суть того, что будет с нами.
Благоразумье нас зовет уйти с путей позора,
Но каждого сжигает жар желанья и надежды.
Кто эту ведает болезнь, да исцелится скоро,
Но нет лекарства для глупца, упрямого невежды.
Хвала Аллаху — он царит своей согласно воле.
А люди слабые бредут, куда — не знают сами.
Все сотворенное умрет, дрожа от смертной боли.
Все гибнет, остаются сны, таблички с именами.
Умершие отделены от нас, живых, стеною.
Мы их не можем осязать, не видим и не слышим.
Они ушли в небытие, отринули земное,
Они спешат на Страшный суд, назначенный всевышним.
Над жизнью собственной своей рыдай, дрожа от страха.
К чужим гробам не припадай в рыданьях безутешных.
Молю простить мои грехи всесильного Аллаха.
Он милосердием велик, а я — презренный грешник.
О, сколько раз ты уходил с путей добра и света,
О, сколько раз ты восставал душою непокорной!
Ты жил, блаженствуя. Теперь не жалуйся, не сетуй.
Плати за все. Таков удел, безвыходный и скорбный.
Не слушает бесстрастный рок твоей мольбы и плача.
Он сам решает — жить тебе иль умереть до срока.
Твое страданье и восторг, утрата и удача —
Забавы жалкие в руках безжалостного рока.
«Наше время — мгновенье…»
Наше время — мгновенье. Шатается дом.
Вся вселенная перевернулась вверх дном.
Трепещи и греховные мысли гони.
На земле наступают последние дни.
Небосвод рассыпается. Рушится твердь.
Распадается жизнь. Воцаряется смерть.
Ты высоко вознесся, враждуя с судьбой,
Но судьба твоя тенью стоит за тобой.
Ты душой к невозможному рвешься, спеша,
Но лишь смертные муки познает душа.
«Плачь, ислам! Нечестивы твои богословы…»
Плачь, ислам! Нечестивы твои богословы.
Извращают основы твои, блудословы.
Несогласных клянут и поносят они.
Свою ложь до небес превозносят они.
На кого нам надеяться ныне, скажи?
Как нам веру очистить от злобы и лжи?
«Ты, что ищешь у мудрого пищи уму…»
Ты, что ищешь у мудрого пищи уму,
Помни: знанье — огонь, разгоняющий тьму,
Знанье — корень, по каплям набравший воды,
Чтоб листва зеленела и зрели плоды.
Не завидуй чужому богатству, скорбя,
Ибо зависти бремя раздавит тебя.
Время вечное нас одурачит, обманет,
Красотою земной соблазнит и заманит,
А потом нас в могилы уложит оно,
И отцов и детей уничтожит оно.
Все людские страдания Время творит.
В мире только оно надо всеми царит.
«Безразличны собратьям страданья мои…»
Безразличны собратьям страданья мои,
Мои беды, невзгоды, рыданья мои.
Пусть клянут, попрекают любовью к тебе —
Что им горести, муки, желанья мои?
Ненасытна болезнь моя, старый недуг,
Безнадежны, пусты ожиданья мои.
Все постыло вокруг, ибо ты — далеко.
Без тебя — я в изгнании, в небытии.
Иссякает терпенье, безмерна тоска.
Возвратись, утешенье подай, не таи.
Неотступна беда, неусыпна печаль.
Возвратись и живою водой напои.
Просыпаюсь, и первые думы — тебе,
И тебе — все ночные терзанья мои.
«Закрывшись плащом, проклиная бессилье…»
Закрывшись плащом, проклиная бессилье,
Как часто я плакал в плену неудач!
Друзья укоряли, стыдили, твердили:
«Не смей раскисать, не сдавайся, не плачь!»
А я объяснял им, что слезы — от пыли,
Что я в запыленный закутался плащ.
«Могу ли бога прославлять…»
Могу ли бога прославлять, достоинство забыв,
За то, что ты, его слуга, заносчив и чванлив?
Свое ты сердце превратил в унылую тюрьму,
А годы прожитые — в дань тщеславью своему.
Зачем, безумец и гордец, идешь путями зла?
Все достояние твое — могильная зола.
Умей обуздывать себя, не поддавайся лжи.
Храни терпенье, человек, и правдой дорожи.
Воздержан будь — и от беды смирение спасет,
И будь возвышен добротой — ведь нет иных высот!
Не состязайся с дураком, что знатен и богат.
Убогий праведник-мудрец — тебе названый брат.
Желаешь временных услад — теряешь время зря.
Минутной пользы не ищи, она источник зла.
Благая, истинная цель к деянью будит нас.
Поступки взвешивает бог, когда он судит нас.
К земным богатствам не тянись, к презренной суете,—
Твоя бессмертная душа томится в нищете!
«Кто ко мне позовет обитателей тесных могил…»
Кто ко мне позовет обитателей тесных могил,
Самых близких, погибших в расцвете здоровья и сил?
Разве я их узнаю при встрече, восставших из праха,
Если б чудом неслыханным кто-нибудь их воскресил?
Кто ко мне позовет их, завернутых в саван немой?
Разве в бездну могилы доносится голос земной?
Не зовите напрасно. Никто не приходит оттуда.
Все уходят туда — не ищите дороги иной.
Эй, живой человек! Посмотри на себя — ты мертвец.
Жизнь истрачена вся. Наступает обычный конец.
Седина — твой убор головной, ослепительно-белый.
Унеслась твоя молодость, время горячих сердец.
Твои сверстники умерли — ищут обещанный рай.
Обогнали тебя, обошли. Торопись, догоняй.
На земле для тебя, старика, ничего не осталось,—
Ни надежды, ни радости. Времени зря не теряй!
Собирайся в дорогу, пора. В вековечную тьму.
Путь последний тебе предстоит. Приготовься к нему.
Все имущество брось — и воистину станешь богатым.
Презирай богача — это нищий, набивший суму.
Собирайся, не медли, не бойся отправиться в путь.
Не надейся, что будет отсрочка, об этом забудь.
Поддаваться греховным соблазнам — постыдное дело.
Обуздай свои страсти и высшее благо добудь.
Тот, кто истину ищет, найдет путеводный маяк.
О слепые сердца! Прозревайте — рассеется мрак.
Удивляет меня горемыка, отвергший спасенье,
И счастливец, на время спасенный от всех передряг.
Удивляют меня беззаботно слепые сердца,
Что поверили выдумке: жизнь не имеет конца.
Новый день приближается — всадник на лошади белой
Он спешит. Может быть, это смерть посылает гонца.
Твоя бренная жизнь — подаяние божьей руки.
Неизбежная смерть — воздаянье тебе за грехи.
Обитатель подлунного мира, вращается время,
Словно мельничное колесо под напором реки.
Сколько стен крепостных уничтожил безжалостный рок
Сколько воинов он на бесславную гибель обрек!
Где строители замков, где витязи, где полководцы?
Улыбаясь, молчат черепа у обочин дорог.
Где защитники стойкие, доблести гордой сыны,
Чье оружие сеяло смерть на равнинах войны?
Где вожди, созидатели, где повелители мира,
Властелины вселенной? Закопаны, погребены.
Где любимцы собраний — о них не смолкала молва.
Словно заповедь божью, народ принимал их слова.
Где кумиры толпы? Стали просто комочками праха,
Сквозь которые ранней весной прорастает трава.
На престоле небес восседает предвечный Аллах.
Он карает, и милует, и обращает во прах
Непокорных глупцов, и на небо возносит достойных.
Он велик. Ему равного нет в бесконечных мирах.
Для любого из смертных он выделил долю его.
Кто посмеет судить справедливую волю его?
Ограждая от гибели, от заблуждений спасая,
Нас к единственной истинной цели ведет божество.
Остаетесь глухими, беспечно живете, друзья!
Подступают последние сроки, расплатой грозя.
Позабудьте соблазны — внемлите разумному зову.
Приближается время возмездия, медлить нельзя.
Безвозвратно ушедшие в лоно могильной земли!
В этом новом жилище какое вы благо нашли?
Все теперь вы равны, и у всех одинаковы лица,
Хоть по-разному вы к завершению жизни пришли.
Обитатель могилы! Забыл ты земное жилье.
Заколочена дверь в неземное жилище твое.
Даже с мертвыми, спящими рядом с тобой, по соседству,
Ты не вправе общаться. Проклятое небытие!
Сколько братьев своих я оплакал и в гроб положил!
Сколько раз я их звал возвратиться из темных могил!
Брат мой! Нам не помогут напитки, еда и лекарства.
Жизнь уходит, по капле бежит, вытекая из жил.
Брат мой! Ни ворожба, ни заклятие, ни амулет
Не спасли от погибели, не дали помощи, нет.
Брат мой! Как тебе спится на каменном ложе подземном,
Как живется в последнем убежище? Дай мне ответ!
Я пока еще жив, еле вынес разлуку с тобой.
Я горюю один над твоей безысходной судьбой.
Ведь кончина твоя стала смертным моим приговором.
Жду последнего дня — полумертвый и полуживой.
Плачет сердце мое, разрывается сердце, дрожа.
Припадаю к могиле, едва от рыданий дыша.
Брат мой милый, навеки ушедший, единственный брат мой!
Вспоминаю тебя — каменеет от боли душа.
«Ненасытная жадность, проникшая в души…»
Ненасытная жадность, проникшая в души,
Их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
Жадный чахнет, желтеет и сохнет от муки,
Он не спит, домогаясь богатства и власти,
К недоступному тянет дрожащие руки…
Но разумный не станет рабом этой страсти.
Жадный сам себя мучит, своею рукою,
Не получит ни радости он, ни покоя,
Ибо алчность плодит пустоту и невзгоды,
Алчность хуже чумы и страшнее проказы.
Ни арабы мои, ни другие народы
Не спаслись от прилипчивой этой заразы.
Что ты землю несытыми взглядами меришь?
Не томись. Удовольствуйся тем, что имеешь.
Твой недуг — сребролюбье. Ты жадностью болен.
Эта мука тебя истерзает, изгложет.
Если ты достояньем своим недоволен,
То все золото мира тебе не поможет.
Если ты ненавидишь людей, одинокий,—
Захлебнешься, утонешь в грехе и пороке.
Ты напрасно жилище просторное ставишь.
Неизбежная смерть по-иному рассудит —
Ты убогого склепа хозяином станешь.
А добро, что копил ты, разграблено будет.
Смертный! Юность прошла, ее нет и в помине —
Да пройдут и тщеславье твое и гордыня.
Твой дворец обернется обителью плача,
Все разрушено и обесславлено будет.
Все, что ты собирал, крохоборствуя, пряча
От враждебного глаза, разграблено будет.
Понадейся на завтра — дождешься обмана,
Ибо Время изменчиво, непостоянно.
Избегай недоверья, сомнений безумных,
Поступай справедливо — отхлынут печали.
Когда смотришь на город, веселый и шумный,
Помни: кладбище это, где скорбь и молчанье.
Видел я: благородный склонялся покорно
Перед волей ничтожного. Нет, не позорна
Эта слабость, смиренное это деянье.
Но позорно стократ, если здесь, в наше время,
Отбирают хапуги твое достоянье
И живут, процветая. Презренное племя!
Избегай сребролюбца, — снаружи он кроткий.
Что гнуснее повадки его и походки?
Избавляйся от скряги! Он хуже, чем язва,
Он опасней чумы и противней чесотки.
«От жизни до смерти — один только шаг…»
От жизни до смерти — один только шаг.
Любой из живых превращается в прах.
Извечное Время — учитель жестокий.
Но пользу немногим приносят уроки.
Извечное Время — пророк, и мудрец,
И лучший наставник заблудших сердец.
По ты его слову не внемлешь, бедняга,
И долгую жизнь почитаешь за благо.
Стремясь пересилить карающий рок,
Познанья из опыта ты не извлек,
И Времени голос — разумное слово —
Не тронул тебя, безнадежно глухого.
О, если б ты выслушал Времени зов!
Он горечи полон, правдив и суров.
А ты отдаешься бездумным усладам.
Ты смерти не ждешь, а она уже рядом.
Ты истины мира сего не постиг,
Ты жаждал всего, ничего не достиг.
Живешь во дворце, ненадежном и бренном!
Готовься к нежданным дурным переменам.
Безносая скоро придет за тобой.
Найдешь ли за гробом желанный покой?
Не скрыться от гибели, смертный лукавый,—
Повсюду дозоры ее и заставы.
Зачем ты поддался обману, мой брат?
Ведь был ты умом от природы богат.
Ты знал, что подлунная жизнь мимолетна,
Но мысли об этом отверг беззаботно.
А смерть перед нами с косою своей.
Мы все — достоянье могильных червей.
Готовься к минуте последней и грозной,
Одумайся, брат мой, покуда не поздно!
Спеши, не пускай суету на порог!
Покайся — вокруг торжествует порок.
Я тоже виновен, я — грешник беспечный.
Я завтра низринусь во мрак бесконечный.
Как медленно близится гибельный миг,
Предел и вершина страданий моих!
Храни же меня перед бездной незримой,
Мой разум бесстрашный и неколебимый.
Я вспомнил далекие юные дни —
Весеннему саду подобны они.
Я все расточил. Ничего не осталось
На долю твою, горемычная старость.

«Вернись обратно, молодость!..»
Вернись обратно, молодость! Зову, горюю, плачу,
Свои седые волосы подкрашиваю, прячу,
Как дерево осеннее, стою, дрожу под ветром,
Оплакиваю прошлое, впустую годы трачу.
Приди хоть в гости, молодость! Меня и не узнаешь,
Седого, упустившего последнюю удачу.
«Я искал наслаждений, но что я нашел…»
Я искал наслаждений, но что я нашел,
Кроме бед и забот, кроме горя и зол?
Горький труженик, я ничего не добился.
Разве я хоть подобье покоя нашел?
Обратился я к вере, отшельником стал.
Мимолетные блага ценить перестал.
Суеты и страстей сторонюсь, как заразы.
Прозевал свое счастье, удачу проспал.
Я мираж догонял, выбивался из сил.
Я за каждую радость печалью платил.
От услады любой я испытывал горечь —
Видно, в детстве еще я отраву вкусил.
Что мне дружба — усталое сердце болит,
Даже друг одиночества не отдалит.
Полюбившие жизнь! Кроме гибели скорой,
Вам безжалостный рок ничего не сулит.
Я гляжу в глубину моей горькой души,
Постигаю себя в одинокой тиши.
Что дороже смирения и бескорыстья?
Эти блага бесценны, всегда хороши.
Удовольствуюсь малым — таков мой удел.
Удаляюсь от всех человеческих дел.
Воздержание — вот добродетель и разум.
Очищение душ — обуздание тел.
Жизнь изведав, соблазны давно одолев,
Укротив даже зверя по имени Гнев,
Предпочел я пустыню шумливому рынку,
Все живое отринув, забыв и презрев.
«Долго я веселился в неведенье сладком…»
Долго я веселился в неведенье сладком
И гордился удачей своей и достатком.
Долго я веселился. Мне все были рады,
И желанья мои не встречали преграды.
Долго я веселился. Мне жизнь улыбалась.
Все прошло без следа. Ничего не осталось.
Ты, что строишь дворцы и высокие башни,
Хочешь небо ладонью потрогать, бесстрашный,
Ты игрушка в руках бессердечного рока.
Он велит — и приходит погибель до срока,
И дворцы твоей славы руинами станут,
И дела твоей жизни в забвение канут.
Неужели ты думаешь: все обойдется,
Смерть пропустит тебя, пощадит, отвернется?
Оглянись же вокруг! Этот мир наслаждений —
Только жалкий мираж, вереница видений,
Только зыбкое марево, сгусток тумана…
Неужели, слепец, ты не видишь обмана?
Разгорается смерти несытое пламя —
Этот огненный зев насыщается нами.
Это наше грядущее… Нет исключений.
Впереди — ничего, кроме смертных мучений.
Обещаньям блаженства — бесчестным рассказам
Не внимай никогда, если жив еще разум.
Ты упорствуешь, ты прегрешения множишь,
От безумств молодых отказаться не можешь,
Воздвигаешь дворцы ради суетной славы,
Тратишь силу свою на пустые забавы.
Воздавая ничтожеству славу и почесть,
Ты достойного мужа теснишь и порочишь.
Но в покои твои, пламенея от гнева,
Смерть внезапно сойдет, словно молния с неба.
Перед нею в последней тоске, в исступленье
Ты раскаешься, ты упадешь на колени,
И поймешь, полумертвый, от страха дрожащий:
Все ничтожно, все временно, все преходяще.
Что сулят человеку грядущие годы?
Ничего. Только муки, обиды, невзгоды.
Не теряя надежды, живешь понемногу,
Но приходит пора собираться в дорогу.
Кто из смертных сумел избежать этой доли?
Смерть не шутит сама и шутить не позволит.
Назови государство — их было немало,—
Что не гибло, не рушилось, прахом не стало.
Кто из мертвых воскрес, кто сподобился чуда?
Где загробная жизнь? Кто вернулся оттуда?
Никого. Только голос из бездны зовет:
«Для последней кочевки седлайте верблюда!»
«Спешу, отбрасывая страх и не боясь беды…»
{144}Спешу, отбрасывая страх и не боясь беды,
Через пустыню, где песок сметает все следы.
Меня верблюдица несет, проворна и крепка,
Не зная отдыха и сна, не требуя воды.
Она стремительней, быстрей рассветного луча,
Она спешит, не нужно ей ни плети, ни узды.
Неси, послушная, меня, к халифу торопись,
К его богатому дворцу, в тенистые сады.
Халифа щедро одарил достоинством Аллах
И доброй славой увенчал высокие труды.
Двойной короной наградил избранника господь,
Величье и Смиренье в ней — две яркие звезды.
Когда ярится ураган, халифа голос тверд:
«Со мною, ветер, не борись, не заводи вражды!»
Ему подобных не найду. Родители его
И благородством выше всех, и отпрыском горды.
«Прожита жизнь. Я не видел счастливого дня…»
Прожита жизнь. Я не видел счастливого дня.
Нет ничего, кроме бед, — у тебя, у меня.
Что будет завтра, не знаю. Сегодняшний день
Празднуй, довольствуясь малым, смиренье храня.
Смерть приготовила стрелы в колчане своем,
Цели для них выбирает в молчанье глухом.
Мы — обреченные. Нет избавленья от стрел.
Зря суетимся, напрасно по свету снуем.
Завтра, быть может, в Ничто откочую, мой друг.
Так для чего ж на верблюда наваливать вьюк?
Стоит ли деньги копить, выбиваясь из сил,
Стоит ли гнуться под грузом позора и мук?
Те, для кого надрывался без устали я,
Кто они? Дети и внуки, родные, семья.
В землю отца положили — и дело с концом.
Что им, беспечным, печаль и забота мож
Все, что для них накопил ты за множество лет,
То ли на пользу пойдет, то ли будет во вред —
Ты не узнаешь. Так празднуй сегодняшний день.
Время уйдет, и назад не вернешь его, нет.
Правит всевышний мирами по воле своей.
Смертный, смиряйся. Избегнешь ли доли своей?
Бог наделяет удачей одних дураков,
А мудрецы изнывают в юдоли скорбей.
«Терпи беду любую…»
Терпи беду любую, крепись — недолог век.
Никто из нас не вечен. Ничтожен человек.
Несчастья в этом мире бесчисленней песка.
Везде людская доля бесславна и горька.
Да можно ли на свете счастливого найти?
Таких, как мы, без счета на горестном пути.
Тоска и униженье — удел земных дорог.
Найду ли утешенье в тебе, единый бог?
«О Рашид! Справедливы твои повеленья…»
{145}О Рашид! Справедливы твои повеленья.
Благородный, спаси меня, жду избавленья.
Да не знаешь ты козней завистников злобных!
Ты великий, тебе я не видел подобных.
Помоги! Я в темнице, в объятиях страха.
Помоги! Я молю тебя, словно Аллаха.
Каждый день в заточенье меня убивает,
А свобода — то рядом, то прочь убегает.
День за днем безнадежно уносятся годы.
Я, наверно, умру, не дождавшись свободы.
«Я ночи провожу без сна…»
Я ночи провожу без сна, меня подушка обжигает.
Душа изнывшая моя лишь от рыданий оживает.
Сюда бессонница пришла — незваный, нежеланный гость,
Сидит у ложа и меня ежевечерне ожидает.
Невольник, расплатился я за горькую любовь к тебе.
Найду ль кого-нибудь еще, кто этой доли пожелает?
«Ей, не верящей мне, скажи…»
Ей, не верящей мне, скажи:
Мое сердце в огне, скажи.
То не бог испытал меня,
Злобный рок истерзал меня.
Разум мой охватила тьма.
Исцели, не своди с ума!
Исстрадаюсь, отчаюсь я,
За себя не ручаюсь я!
«Живи, пока живется…»
{146}Живи, пока живется, вкушай покой блаженный.
Твоим дворцам высоким нет равных во вселенной.
Едва проснешься утром — отказа не встречаешь
Желанию любому иль прихоти мгновенной.
Но в час, когда охватит тебя предсмертный холод
И затрепещет сердце под оболочкой бренной,
Внезапно ты прозреешь, и вся земная радость
Покажется ничтожной, бесплодной и презренной.
«Бывало, вспомню о тебе…»
{147}Бывало, вспомню о тебе — и на душе светло.
Теперь в печали и тоске рыдаю, вспоминая.
Бывало, радостно спешил к тебе я во дворец.
Теперь к могиле прихожу, где прах и пыль земная.
Я жаждал только одного — чтоб ты подольше жил,
Меня доверьем одарял, наветы отвергая.
Я приходил к тебе в нужде, спасенье обретал,
Я был ростком, а ты росой меня живил, сверкая.
Ты был отрадой для друзей, неудержимо щедр,
Как дождь, который туча шлет, густая, грозовая.
Ты укрывал от зноя нас, светил во тьме ночной,
И в час беды мы шли к тебе, о помощи взывая.
Ты помогал. Ты был высок — и саном и душой.
Теперь тебя покоит бог в высоком круге рая.
Ты — смертный, и тебя настиг неотвратимый рок,
От тела душу отделил, шутя извлек, играя.
Не помогли тебе ни двор, ни войско, ни друзья,
Ни стража, ни валы, ни рвы, ни мощь твоя иная,
И вот перенесли тебя из пышного дворца
В жилище новое, где тлен, и прах, и пыль земная,
И дверь, забитая землей, — ни сдвинуть, ни раскрыть,—
Застыла, Страшного суда недвижно ожидая,
И опустели навсегда дворцы, что ты возвел,
И в яме поселился ты, где затхлость нежилая.
Ты ложе мягкое свое на саван променял,
Забыв о мускусе, застыл, могильный смрад вбирая.
Ты навсегда ушел в страну, откуда нет вестей.
Ты здесь чужак, хоть и лежишь в земле родного края
Прощай, наш доблестный эмир, защитник рубежей.
Ты мчался в битву, ураган беспечно обгоняя.
Прощай! Найдется ли когда подобная твоей
Отвага, дерзкая в бою, и ярость огневая.
Прощай! Не в силах мы тебя достойно восхвалить —
Нет лучшей славы на земле, чем жизнь твоя благая.
Ты нас за гробом ожидай. Ведь следом за тобой
Мы скоро двинемся, хвалу предвечному слагая.
«О господь, где твоя справедливость хранится?..»
{148}О господь, где твоя справедливость хранится?
Неужели удел Ибрахима — темница?
Ведь отравлена жизнь и утрачено счастье
Для меня, если он в подземелье томится.
Он в оковах, в тюрьме, разлученный с друзьями,
Их сердца безутешны, нахмурены лица.
Нашу радость низвергли во мрак заточенья.
Чем забыться, утешиться, развеселиться?
«Хвала скупцу за добрые дела…»
{149}Хвала скупцу за добрые дела —
Не грабит он, не причиняет зла.
Он всех засыпал щедрыми дарами —
За широту души ему хвала..
Мне, недостойному, такие блага
Его рука радушная дала!
Какая честь мне выпала на долю —
Мне подали еду с его стола!
А он об этом не подозревает,
Великодушный, скромный, как пчела.
«Любимая в цвете своей красоты!..»
Любимая в цвете своей красоты!
Языческих статуй прекраснее ты.
С тобой позабуду сокровища рая,
Эдемского сада плоды и цветы.
«Сколько дней я повсюду собрата искал…»
Сколько дней я повсюду собрата искал,
Человека с утра до заката искал!
Вместо дружбы нашел я одно вероломство,
Вместо доброй улыбки — звериный оскал.
О моих недостатках крича и трубя,
Себялюбцы безгрешными числят себя.
Лицемеры в глаза улыбаются сладко,
Отвернешься, — как змеи, ужалят, шипя.
Полон мир нечестивых, спесивых людей.
Не ищи, не найдешь справедливых людей.
Только истину должно искать в этом мире,
Только правде будь верен, склонись перед ней
IX век
Абу Таммам Перевод Я. Козловского
{150}«О ездок, что мчался вскачь…»
{151}О ездок, что мчался вскачь на верблюдице весь день
И весь вечер и всю ночь продолжал свой трудный путь!
У предгорья Арафат поклонись святым местам —
Ты от Халида, чей нрав добродетельным слывет,
Их приветствуй, дорогой, и с печалью расскажи,
Что, исполненной щедрот, был он, как поток речной,
Но жестокий, словно рок, отстранил его халиф.
Если б Халид власть имел, то в долине Мекки всей
Благоденствия пора наступила бы теперь,
И немало бы людей расселились на пустых
Горных склонах, и судьба их завидпою была.
А в Медине бы земля два покрова обрела —
С процветаньем заодно плодородия покров.
Избежите ли вы зла, люди городов святых,
Если пал защитник ваш, как падучая звезда?
Кто желает, чтобы я вел о Халиде рассказ? —
Схож с колодцем стану вмиг, чтобы черпать из меня
Мог бы каждый в этот час без веревки и ведра
Достоверные слова, жажду утоляя впрок.
Я поведаю о том, как, отвагой знаменит,
Халид покорял мечом земли девственные стран,
Как, не сеявший обид, он при помощи даров
Умудрялся побеждать самых яростных врагов.
Сколько крепостных пред ним пало стен в бою — не счесть,
Хоть противник охранял их ревниво, словно муж
Охраняет зорко честь обольстительной жены,
Караульным наказав глаз ночами не смыкать.
Но звезда халифов всех, грозный, словно рок, халиф
Халиду отставку дал, власти Халида лишив,
И, лица не омрачив, это Халид перенес,
Как летящий с высоты огнеликий метеор.
Что мне радость под луной, если Халид, славный муж,
Стал безвластным и ему для паломничества путь
Из страны закрыт к тому ж!.. Вот награда за труды!
Враг злорадствует, а друг озабоченно скорбит.
Халид, праведный эмир, если нас покинешь ты,
Сердце болью изойдет и увянут моего
Красноречия цветы. А как править станешь вновь,
Радость мир заполнит весь от земли и до небес.
«Когда бы судьба мне давала ответ…»
{154}Когда бы судьба мне давала ответ,
Я к ней обратил бы укора слова
За то, что разрушены ордами лет
Зайнаб и Рабаб, как становища два.
Подобны двум лунам ущербным они
В ярчайшем кругу полногрудых подруг
Иль тех антилоп золотых, что во дни
Забав непорочных резвятся вокруг.
Из рода Шихаба красотка одна
Безумством укоров меня разожгла.
Как будто письмо разорвала она,
А после отдельные строчки прочла.
Клянусь, не приметила дева, что бог
Черты благородные мне даровал.
Род древний аттаб тем прославиться смог,
Что каждый мужчина в нем щедр и удал.
И если из этого рода мужи,
Взметая мечи, понукают коней,
То вынужден недруг сдавать рубежи:
Атак не бывает сильней и грозней.
О Малик, наследственный отпрыск царей,
Сородичей не огорчая своих,
Всех грозных грозней ты, всех добрых добрей
Властителей славных в пределах земных.
К толпе, что стоит в ожиданье щедрот,
Надежды на милость твою не тая,—
Идешь ты, и служит ключом для ворот
Лишь великодушная щедрость твоя.
Есть люди, которым не мил твой успех,
Но сам убедиться воочью ты смог,
Как грозно карал твоих недругов всех
Похожий на тигра взъяренного рок.
Ты будь милосердным, достигший верхов,
На путь благочестия падших верни,
Усамы весь род, отпущеньем грехов
Ты расположить к себе не премини.
Когда-то пред битвою предки его
На помощь твоим в день Куляба{155} пришли:
С водой бурдюки они до одного
В тылу у врага продырявить смогли.
Из рода Усамы умельцев не счесть,
И стрелы твои оперили они,
На Хариса поднял во славу и честь
Ты лучников смелых, Аллах их храни!
А всадники рода для конных атак
Тебе пригоняли поджарых коней.
Ты вспомни, властитель, Сарсар и Хашшак,
И храп скакунов в полумраке ночей.
Но жаль, что Усамы род нынче не тот:
Где верность присяге, где верность мечу?
Юнцами теперь возглавляется род,
А эта забота им не по плечу.
И хоть благородства в крови еще след
Хранят они, словно наследственный знак,
Присущей арабам в них выдержки нет,
И каждый их шаг — опрометчивый шаг.
Ты будь снисходителен к ним, как пророк,
Создатель прославленной книги из книг.
Хочу, чтоб пророка великий урок
Сегодня в душе твоей снова возник.
Людей, что корыстно примкнули к нему,
Внял просьбам пророк в стародавние дни,
И неправоверным вернул потому
Все то, что в боях потеряли они.
Джафар ибн Киляба предавшие род
Решили в чужие податься места,
Но беды обрушил на них небосвод,
И ринулись вспять беглецы неспроста.
Мечом укротивший рычание льва,
Деянием — разума славь торжество:
Повинно склонившаяся голова
Пускай не падет от меча твоего.
И давние распри к чему вспоминать
Тебе, доказавшему силу в бою,
Ты родичей грешных прости и опять
Возьми, государь, под защиту твою!
Чем больше притоков, тем в мире славней
Поток, преисполненный царственных вод,
Чем острой стрелы оперенье плотней,
Тем дальше ее поднебесный полет.
О Малик, засватать мою похвалу,
Явив благородство, сумел ты один,
Хоть эта невеста любую скалу
Затмит неприступностью в царстве вершин.
Мое восхваление — мысли дите,
А мысль шлифовалась мной, словно янтарь.
Как девушку в девственном блеске ее,
Касыду мою ты прими, государь!
Родит тебе славу, как дочку, она,
Плененных дарует тебе без войны.
И Юной пребудет во все времена,
И, как новолунье, полна новизны.
«Прекратите подавать, если вправду вы друзья…»
{156}Прекратите подавать, если вправду вы друзья,
Укоризны воду мне, меру всякую забыв.
Окружен любовью я, а влюбленным искони
Слаще меда горечь слез.
Ночь клубила облака, приспустив, как флаги, их,
Молнии пронзали тьму, чтобы утренней порой
Мускусом благоухал каждый плод в садах густых
И восточный ветерок свежесть камфарную нес.
Распустили небеса, словно нитяной клубок,
Тучу каждую затем, чтоб расшить луга окрест,
Как велит весенний срок, яркой радугой цветов,
Йеменским плащам под стать.
Нынче утром молодым пью я старое вино,
И чистосердечен круг собутыльников моих.
Я заздравно в кубки их лью желания на дно,
Власть даруя заодно над весельем и слезой.
Кубок всаднику под стать, оседлавшему ладонь,
Вдаль из сердца пусть печаль этот всадник увезет,
Только был бы верен конь и достоин всадник был
Строк, рожденных в честь него.
Отрезвляющей водой постарались неспроста
Грозный норов мы смирить стародавнего вина.
Добродушным став, вино, чья искрится чистота,
Кружит головы нам всласть, красноречьем наделив.
Может разумом людским управлять в похмельный час
Пузырьков шипучий ток, как властительный глагол
Именами всякий раз управляет, чтоб придать
Им винительный падеж.
Хоть степенною водой мы ослабили вино,
Осторожно все равно с ним, друзья, общаться след.
Волю дашь ему — оно может, улучая миг,
Нас мертвецки уложить даже у чужих ворот.
Утверждает мудрый Джахм{157}, что вино старей, чем плоть,
Что по возрасту оно ровня духа под луной
И основой всех основ до скончанья века вплоть
Представляться будет нам.
Полный кубок наклонив, ты вино из кубка пьешь,
Излучает кубок свет, огненно прильнув к губам.
Впрямь с жемчужиной он схож — раковиной, что бела
И беременна опять красным яхонтом притом.
Я привязанность пронес к другу сквозь гряду годов,
Для меня разлука с ним нестерпима и горька.
И пространство одолеть ради дружбы я готов,
Как пустыню караван.
И к тебе, друг Ибн Хассан, проникаюсь все сильней
Я любовью и твои славлю добрые дела.
Благосклонностью своей вдохновляешь ты меня,
Птиц надежды даровав небесам моей судьбы.
Эти птицы поднялись до созвездия Плеяд,
Хоть убежища ищу я в подножии горы.
И за милости тебя пусть сады благословят
Красноречья моего.
Грянут добрые дела пусть словам твоим вослед,
Словно за помолвкой весь оговоренный калым.
И тебе я, как поэт, шлю, Мухаммед ибн Хассан,
Первому свои стихи, что, как знамя, поднял я.
«Весть, которую принес…»
{158}Весть, которую принес
Победитель на мече,
Достовернее, чем весть,
Что начертана пером.
Лезвие меча бело
И быстрее черных букв
Может, истине служа,
Все сомнения отсечь.
Об искусстве побеждать
Смелых копий острия
Могут людям рассказать
Больше, нежели слова.
Что предания? Они
Вымысел досужих уст.
Кто начнет их проверять,
В этом убедится сам.
И когда звезда с хвостом
Появилась в небесах,
Стали бедами пугать
Предсказатели народ.
Нам астрологи твердят,
Что судьба людей и царств
Всякий раз зависит лишь
От расположенья звезд.
Если вправду это так,
Значит, звезды в небесах
Знали, что возьмешь, халиф,
С боем град Аморий ты.
Значит, ведали они —
И заранее притом,—
Что перед тобою ниц
В храмах идолы падут.
Ты победу одержал!
Как же не венчать ее
Ожерелием стихов
Или речью золотой?
Благодатный дождь, грядя,
Рассыпая серебро,
В честь победы обрядил
Землю в новую парчу.
С боем град Аморий взяв,
Славой венчанный халиф,
Ты наполнил в эти дни
Нас надеждою благой.
Так сладчайшим молоком
Вымя наполняет луг
У верблюдицы, когда
Зацветает все окрест.
Ты звезда халифов всех,
Потому что был тобой
Укреплен в бою ислам,
На беду его врагов.
Для неверных этот град —
Самый близкий родич их.
Чтобы выкупить его,
Отдали бы матерей.
Город с девою был схож,
Что невинность берегла,
Овладеть им потому
Сам Хосров бы не сумел.
Абу Кариб вслед за ним
Был отвергнут, словно впрямь
Длань судьбы, щиту под стать,
Заслоняла этот град.
Бог языческий хранил
Град Аморий сотни лет,
Этот город под луной
Сделав сливками веков.
Град Аморий, увидав
Гибель собственной сестры,
Заразился страхом вдруг,
Как смертельною чумой.
Рыжекудрых и лихих
Видит всадников вдали —
Кровью крашены у них
Кудри, как персидской хной.
О владыка мусульман,
Этот город ты вложил
В пасть огня. И мрак ночной
Прочь от зарева бежал.
Солнце всходит из огня,
Словно в тучах грозовых,
Хоть оно давным-давно
Закатилось вдалеке.
Пламень в аспидном дыму,
Словно солнце скрылось вдруг,
Хоть по времени еще
До заката далеко.
В день, когда был город взят,
Среди всех его мужчин
Не нашлось ни одного,
Кто бы с женщиною лег.
В день, когда был город взят,
Не нашлось ни одного
Мусульманина, чтоб он
С пленной женщиной не лег.
Край, который пел Гайлан{161},
Где жила красотка Мей,
Мерк для нас пред торжеством
Разрушенья и огня.
И превратная судьба
Повернулася спиной
К иноверцам, чтобы нам
Лик сиятельный явить.
Переменчивость ее
В нашу пользу неспроста
Мы лелеяли среди
Копий и прямых мечей.
И Аллаха самого
Исполнитель воли ты,
Аль-Мутасим — славный вождь
Правоверных храбрецов.
Ты победами вскормил
Копья войска своего.
Впереди твоих бойцов
Страх несется на врага.
И когда бы не Аллах —
Покровитель мусульман,
Крепостные степы ты
Не сровнял с землей, халиф!
Лишь Аллах вручает ключ
Верным подданным своим
От могучих крепостей
Иноверной стороны.
Грозный византийский царь —
Страж Амория — сказал:
«Не найдет халиф вблизи
Водопоя и лугов!»
Но оружьем опроверг
Ты надменные слова,
К пастбищам и родникам
Проложив мечами путь.
Ради крепости основ
Государства своего
Позабыл в кругу друзей
Кубок пиршественный ты.
И возлюбленных уста
Позабыл, как сладкий сон
Забывают в дни тревог
И походов боевых.
Слову, доблестный халиф,
Ты деянье предпочел,
Чем опору подрубил
Под шатром неверья ты.
Не стяжатель — мститель шел,
Он, как будто грозный шторм,
В содроганье приводил
Стан языческих дружин.
Отступивший Теофил
Потерял дар речи вдруг:
Страх молчания взнуздал
У язычника язык.
Бегства оседлав коня,
Чьи позорны стремена,
Он спасался, откупясь
Войска своего ценой.
И числом в сто тыщ почти
Войско полегло во прах,
Словно паданцы-плоды,
Зрелость смоквы обогнав.
И от грешных, бренных тел
Души их освободясь,
Почему-то никакой
Радостью не пронялись.
Сколько белые мечи
Гнева утолить смогли
В душах мстителей, что ты
За собою вел, халиф!
Сколько девушек в бою
Воины смогли добыть,
Яснолицых, как луна,
Чернокосых, словно ночь!
А индийских лезвий сталь
Сколько крови пролила,
Чтобы стражей сокрушить
Возле девичьих дверей.
Воины твои, халиф,
Поспешили, распалясь,
Из покровов, как один,
Верные клинки извлечь.
И достойными они
Были тех румийских жен,
Что особую красу
Под одеждами хранят.
И наместником небес,
Аль-Мутасим, ты прослыл,
Выше прежнего подняв
Знамя, что вручил пророк.
Ты искал к покою путь
И нашел его в трудах,
По мосту тревог пройдя,
Через грозный непокой.
Если вправду под луной
Существует связь времен,
То при Бедере успех{164} —
Старший брат твоих побед.
Аль-Бухтури Перевод Т. Стрешневой
{166}«Я горько плачу…»
Я горько плачу, а тебе глядеть на боль мою смешно.
Тебе единой исцелить и погубить меня дано.
Я появился перед ней с глазами, полными тоски,
Когда разлука порвала надежды ветхое рядно.
Я тщетно руки простирал, об утешенье умолял,
Я заклинал, но повстречал в ответ бездушие одно.
Она спросила: «Кто тебя заставил слезы проливать?»
Ответил: «Та, кого люблю». Она: «Мне это все равно!»
«Зачем я зеркало свое…»
Зачем я зеркало свое с таким стараньем начищал?
Остался тусклым бы металл и беспощадно не сиял.
Я не увидел бы тогда той вероломной белизны,
Что проступила на висках, как будто первый снег упал
О горе! Молодость моя, неужто ты навек ушла?
Где ты цвела, там враг седой неумолимым стражем встал
Я поседел, и не найти предела горю моему,
Я в этой ранней седине посланца смерти увидал.
Недолог нашей жизни срок, неотвратим ее конец,
На что бессмертие души, ведь я холодным трупом стал.
«С тех пор как молодость ушла…»
С тех пор как молодость ушла, я, и согбенный и седой,
Неужто снова заслужу любовь у девы молодой?
Ты, седина, недобрый гость, никто тебя сюда не звал!
В глазах красавицы моей я равнодушье прочитал.
Стоят развалины жилья, там навсегда погас очаг.
Не возродят его мольбы и слезы в меркнущих очах.
Я долго пребывал один, среди развалин, в тишине.
Не в силах был умерить страсть, опять возникшую во мне.
Ее порывы, словно шквал, упорно возвращались вспять,
В своем упрямстве плоть мою не соглашаясь отпускать.
И если я внушал себе: «С любовью кончил я земной»,—
Меня охватывала страсть, чуть вспоминал я образ твой,
И он томленьем одарял, блаженство тайное суля,—
Так и близка и далека обетованная земля.
«Отчего, когда на землю…»
Отчего, когда на землю мрак спускается ночной,
Неотступно возникает образ Зейнаб предо мной?
Из сирийского предгорья он дремотою влеком.
Так настой лугов цветущих вдруг доносит ветерком.
И когда она приходит, я опять горю в огне.
Говорю: «Какое счастье, ты явилась снова мне!»
Славься, ночь, ты помогла мне воскресить на склоне дней
Ту, что шла походкой томной в цвете юности своей,
Ту, что месяц затмевала, серебрящий лоно вод,
А когда луна устала, озаряла небосвод.
Если б это правдой было: въяве ты ко мне пришла,—
Ты б раба освободила, цепи с рук моих сняла.
В чудеса не верю ныне, я живу, добра не ждя.
Ты, как облако в пустыне, не сулящее дождя.
Если даже быстрым взглядом, словно молнией, ожжешь,
На измученную землю не прольется светлый дождь.
В предстоящую разлуку я не верил никогда,
Я не знал, что может сердце быть бесчувственнее льда.
Горе мне! Доколе буду я надеяться и ждать,
Верить той, что изменила, виноватую прощать?
И хотел бы разлюбить я, оскорбленный столько раз,
Но измученное сердце не исполнит мой приказ.
«О ты, холодная, как лед…»
О ты, холодная, как лед, огонь таящая в груди,
Чтоб наше чувство не прошло, ко мне почаще приходи.
В соседстве близком мы живем, но ты настолько далека,
Как будто разделила нас Джейхан{167}, широкая река.
Как будто в Руме ты живешь, тебя я встретить не могу,
Но соглядатаев твоих на каждом вижу я шагу.
…Она сперва дала вкусить блаженного свиданья миг,
Вдруг, как пантера разъярясь, свой гневный мне явила лик.
Она уверилась, что я ей предан до скончанья дней,
И отдалилась от меня, едва приблизился я к ней.
О, если б хоть издалека надежды брезжил огонек,
Я б столько слез не проливал, свое несчастье превозмог.
Я сокрушаюсь, что прожил в надежде тщетной столько лет.
Иль я Аллаха прогневил, наруша верности обет?
О, если б испытала ты, что пережил я в те года,
Ты б приняла мою любовь, не зная горя никогда.
Без боя холодность твоя любую крепость в плен берет.
Я побежден, и сердце мне недуг неведомый гнетет.
«О, дайте мне счастье…»
О, дайте мне счастье обильные слезы излить, —
Любовь я утратил, меня перестали любить.
Из глаз истомленных, соленые, хлыньте, ручьи.
Рыдать прикажи мне, страданье мое облегчи!
Умм Талиб, гляди, я в любовном сгораю огне,
Ее умоли, приведи ее тайно ко мне.
Меня покидают, хоть я не нарушил обет, —
Правдивей и преданней в мире влюбленного нет.
Коль холодность эта жеманным притворством была,
То — слава Аллаху! — такому притворству хвала.
И коль меня, Альва, врагам удалось оболгать,—
Спроси меня прежде, а после решайся карать.
Меня очернили — отвергни наветы лжеца,
Помедли с разрывом, во всем испытай до конца.
Тебя я не вижу — земля мне тогда не мила,—
Черней скорпиона, исполнена мрачного зла.
Я семьдесят раз бы хотел тебя видеть на дню.
Птенец я несчастный, зачем угодил в западню!
Охваченный страстью, рыдаю всю ночь напролет,
Гляжу неотрывно на звездный слепой хоровод.
Восток пунцовеет, и тени уходят назад,
Слежу я за солнцем, покуда не хлынет закат.
Все радости мира ушли неприметной тропой,
Я пасынок жизни, отверженный злою судьбой.
О, как я терзаюсь, свое проклиная житье,
Когда вспоминаю медвяную кожу ее!
Сперва истомила мучительной жаждой она
И сделала вид, что любовь ей скучна и смешна.
Другую позвать бы! — Но мой непокорный язык
Любимое имя твердить непрестанно привык.
Я ртом пересохшим шепчу еле слышно укор,
А сердце — как пленник, которого ждет приговор.
Порой разгорится, как факел, желание в нем —
Так факел монаха исходит тяжелым огнем…
О, если бы сердце вело этот грустный рассказ,
Оно бы поведало все безо всяких прикрас.
В бесчисленных письмах излил я любовный порыв —
Писец утомился, на что уже был терпелив.
Неужто Аллаха осмелишься ты прогневить,
Того убивая, кто стал словно тонкая нить?
Клянусь, если б ты мою кротость увидела вдруг,
Блуждающий взгляд мой, что ищет напрасно вокруг,
Когда б увидала, что я у друзей и родни
Сочувствия вздохи теперь порождаю одни,—
Тебя это зрелище так бы тогда проняло,
Заплакала б ты, будто в этом нашла ремесло.
И вестник любви появился б неслышно средь нас,
Сомненья развеяв, меня от мучения спас.
И я с полуслова его, с полувзгляда пойму.
Он нужен мне так же, как я теперь нужен ему.
«Едва не умер я…»
Едва не умер я, когда моя любимая ушла,
Хоть неприступно холодна она всегда со мной была.
Когда я жаловался ей, тоской измученный вконец,
Она, не глядя на меня, с усмешкой говорила: «Лжец!»
О, если б эту боль мою умерил благостный Аллах,
Приблизив будущее к нам хотя бы на единый шаг!
Когда не вижу я тебя, то и в кругу семьи большой
Не замечаю никого, как будто всем давно чужой.
Никто не знает, сколько я страданий тайно перенес,
Ведь сердце бедное мое орошено потоком слез.
Возвысь меня иль унижай — тебе клянусь я жизнью всей:
Моей единственной любви я верен до скончанья дней.
«В долине Минаджа глухой…»
В долине Минаджа глухой я у развалин молча встал.
В живых не стало никого из тех, кто делал здесь привал.
Темнеют рытвины одни там, где когда-то цвел шатер,
Полынь седая проросла сквозь мусор рухнувших опор.
Величья смутного полны останки прежнего жилья —
Так вдруг на рубище сверкнет полоска дивного шитья.
Воспоминанье прежних дней, ты душу мне не береди,
Ведь ту умолкнувшую страсть ничто не возродит в груди.
Неужто здесь когда-то жизнь дарила радостью меня,
Своим сияющим плащом и обольщая и маня?
Вплоть до отъезда моего туда, в предел чужих земель,
Разлука помешала мне любить прелестную газель.
Я помню: в горы не спеша шла паланкинов череда,—
И видел смутно, как в одном сияла юная звезда.
О, этот белый паланкин, непрочный, будто скорлупа,
Его далеко увлекла верблюжья древняя тропа.
Я тоже поднял караван, его заставил второпях
Идти в тот край, куда меня влекли надежда, боль и страх.
«Собутыльник дорогой…»
Собутыльник дорогой мне Аллахом послан в дар,
Как чудесный, золотой, неистраченный динар.
Из кувшина я ему неприметно подливал
До поры, пока он мог удержать в руке бокал.
Я сказал: «Абд аль-Азиз, за тебя я Жизнь отдам!»
Он ответил: «Я твой раб!» Говорю: «Я в рабстве сам!»
«Выпей, друг!» Он молвил: «Что ж, выпью, если поднесешь!»
Покачнулся и заснул. Много ль с пьяного возьмешь?
«Любовь ходила среди всех…»
Любовь ходила среди всех созданий страждущих, земных,
Ко мне приблизилась она, остановись на краткий миг.
А мне почудилось, что смерть ко мне неслышно подошла,
Хор плакальщиц услышал я, которым не было числа.
Я умираю от любви, тебя не видя никогда.
Меня сломила эта страсть, она — несчастье и беда.
Я сердцу своему дивлюсь, что держит верности обет,
Не видя склонности твоей на протяженье долгих лет.
«О всадники битвы…»
О всадники битвы, сраженья сыны,
Для гневного сердца кольчуги тесны.
Ослепшая ярость, став вашей судьбой,
Своими руками вас двигала в бой.
И, видя, что смерти родных предала,
Кровавые капли стирала с чела.
«В дворцовый пруд издалека…»
В дворцовый пруд издалека спешат посланцы бурных вод,
И каждый мчится, как скакун, как будто крепкий повод рвет.
Но все равно его вода и непорочна и светла,
Как будто слитки серебра в ней затонули без числа.
Порою солнце подмигнет, пунцовой бровью поведя,
Порой оплачут лоно вод слезинки робкого дождя.
Когда же звезды заблестят, второе небо видишь ты,
Оно блистает в глубине в оправе зыбкой черноты.
Необозримая вода, ей будто края нет совсем,
Так расстоянье велико меж этим берегом и тем.
Лишь рыба быстро промелькнет, сверкнув павлиньим плавником, —
Так птица утренней порой несома синим ветерком,—
И снова канет в глубину, и где-то там пойдет игра,
А на поверхности круги, разгон слепого серебра.
«Громадой высится дворец…»
Громадой высится дворец, пространство все заполоня.
Льнут к грозным башням облака в свеченье влажного огня.
Тигр полноводный окружил уступы стен со всех сторон,
На глади царственной его весь мир зеленый повторен —
Лужайка, полная цветов, дворцовый сад и тихий двор,
Где южный ветер на заре ведет с листвою разговор.
«Путник маревом влеком…»
Путник маревом влеком в безвозвратно долгий путь,
Камень сердца твоего не дает мне век сомкнуть.
Боль разлуки, радость встреч совместила ты в одно —
Звенья счастья и беды сплетены в одно звено.
Миг свидания с тобой расставанием чреват,
От невыплаканных слез затуманился мой взгляд.
В нем и нежность и укор разделившей нас судьбе,
Долог он, как ночь без сна в размышленьях о тебе.
«К тебе приблизилась весна…»
К тебе приблизилась весна, улыбкой солнечной даря,
Она любуется тобой, о первом счастье говоря.
Новруза возвещая день, зажегся ранний небосклон,
Ночные розы пробудил и светом их наполнил он.
Бутон прохладой напоен, трепещет в розовом огне,
Как будто тайну он явил, что прежде прятал в глубине.
Весна деревьям и цветам вернула праздничный наряд,
Весь в пестротканое шитье себя легко закутал сад.
Как нежно ветер шевельнул листок молоденький куста —
Иль это тронул тихий вздох влюбленных робкие уста?
«Мало мне короткой встречи…»
Мало мне короткой встречи, я в разлуке, как в аду,
И до нового свиданья я тоскою изойду.
И понять мне невозможно, что трудней для чувств моих:
Расставания объятья или встречи краткий миг?
Но когда я попытался навсегда расстаться с ней,
Удивленный и тревожный встретил взгляд из-под бровей.
И она вдруг зарыдала, захватив меня врасплох,
Я увидел эти слезы, разорвал мне сердце вздох.
Знай, о том, что мы расстались, я жалею до сих пор.
За жестокое решенье душу гложет мне укор.
А теперь настало время от скитаний отдохнуть.
Мне наскучил путь в пустыне, одинокий, длинный путь.
«Дворец Хосрова посети…»
Дворец Хосрова посети, великий памятник времен,
Здесь пир беспечный отшумел, настало время похорон.
Пред взором мысленным твоим вновь оживет румийцев стан,
И снова воинов своих ведет на бой Ануширван.
Ведет он стройные ряды под сенью взвихренных знамен,
Где каждый воин в желтый плащ или в зеленый облачен.
В багряно-огненном плаще персидский вождь непобедим,
Но удивили бы тебя бойцы, что стали перед ним:
Изображенный на стене, здесь каждый воин молчалив,
Бесстрастный камень навсегда запечатлеть сумел порыв,
Оружья сдерживает звон и тот, кто поднял круглый щит,
И тот, кто, преклонив копье, жизнь сохранить свою спешит.
По древним фрескам на стене перебегает быстрый свет,
Как будто движутся войска, молчанья давшие обет.
Так убеждают нас они своей причастностью к живым,
Что робко тянется рука, желая прикоснуться к ним.
Дворец величие хранит, он силы духа торжество,
Хотя и время и судьба шли в наступленье на него.
Лишь одного нельзя постичь: кто создал царственный чертог —
Трудились люди для богов иль смертных осчастливил бог.
«Ты двинул на приступ…»
Ты двинул на приступ могучий отряд,
Противника смяв атакующий ряд.
Восторгом сраженья наполнена грудь,
Твой меч прорубает безжалостный путь.
Дороги обратной беглец не найдет,
Пусть адское пламя трусливого ждет.
На всадников вражьих дорогой борьбы
Неслись ураганом посланцы судьбы.
Сражаясь и днем, и во мраке ночей,
Свой путь озаряя сверканьем мечей.

«Сгущаются сумерки…»
Сгущаются сумерки, запад темня,
Но утром Восток оседлает коня.
А я для Востока — что солнца восход,
И Запад меня, словно вечера, ждет.
Я — всадник ночной — возвещаю рассвет,
Скачу я по небу дорогой комет.
«Далеко мы друг от друга…»
Далеко мы друг от друга, я в разлуке изнемог.
Я любимую не видел бесконечно долгий срок.
Одиноко и тоскливо я живу вдали от всех,
Путь к любимой равен счастью и надежде на успех.
«Она похожа на газель…»
Она похожа на газель пугливым светом темных глаз.
Желал приблизиться я к ней, но ледяной встречал отказ.
Сулит блаженную любовь мгновенный взгляд ее очей,
Но тем мучительней душе мечтать во тьме пустых ночей.
Так юноша стареет вдруг, неверием подточен весь.
Он жив, но молодость его увяла, не успев расцвесть.
«Плутает ветер среди стен…»
Плутает ветер среди стен необозримого дворца
И спотыкается, устав, не долетая до конца.
Дворец потоком окаймлен, его сравнил бы я с клинком,
Но поднимается со дна там пузырек за пузырьком.
Когда несильною струей впадает он в дворцовый пруд,
Сдается — это не ручей, а растворенный изумруд.
И ты уже с морской волной его сравнить совсем готов.
Обман очей — в ручье течет вода летучих облаков.
В ней стены белые дрожат и окна царского дворца,
Сверкая звездами в ночи, которым в небе нет конца.
Великолепье это все с трудом постигнуть можешь ты,
Оно — как праведника сон, как воплощение мечты.
Ибн ар-Руми Перевод А. Сендыка
{168}«Брось упреки, ты зло творишь…»
Брось упреки, ты зло творишь, даже если добра хотел,
Можно дружески пожурить, но и тут надо знать предел.
Терпит бедствия не всегда тот, кто бросил скитаний путь,
А меж путников не любой достигает чего-нибудь.
Знаю истину я одну, но уж это наверняка:
«Жизнь не стоит менять на то, чего нету в руках пока».
Из сокровищ земных, поверь, долголетье ценней всего,
И не стоит любой доход мук, что терпят из-за него.
Ты толкаешь меня на смерть, заводя об удачах речь,—
Лучше было б тебе меня от скитаний предостеречь.
Сжалься, доблестный, я собой рисковать уже не хочу,
Но оплакиваю барыш, тот, который не получу.
Натерпевшийся от шипов отойти от куста готов,
Но, поверь, никогда в душе не откажется отплодов.
Я в скитаньях был рад платить за богатство любой ценой,
Но оно, обольстив меня, повернулось ко мне спиной.
И соблазнов его теперь избегаю я, как аскет,
Хоть недавно еще считал, что достойнее цели нет.
Вожделею к чужому я, но тянуться за ним страшусь,—
Видит око, да зуб неймет. Кто несчастней, чем алчный трус?
Он еще не отвык желать, но бояться уже привык,
Для таких нищета всегда тяжелее любых вериг.
И когда властелин меня стал одаривать наперед,—
Ибо даром стыдился пить даже песен душистый мед,—
Страх и алчность в моей душе, как обычно, вступили в бой;
И не мог обуздать я их, слыша топот бед за собой.
Трусость делала шаг назад, жадность делала шаг вперед,
Не решившийся — не возьмет, остерегшийся — не умрет.
Я собой рисковать боюсь, но удачу добыть хочу.
Прячет будущее Аллах за семи покрывал парчу,
И нельзя заглянуть туда, чтоб идти или не идти,
Узнаем мы, лишь кончив путь, что нас ждало в конце пути.
Из-за бед, что всю жизнь мою шли ко мне одна за другой,
Я в тревоге всегда: а вдруг твердь разверзнется под ногой.
С нищетою смирился я, ибо легче смириться с ней,
Чем опять попасться в капкан обольщений минувших дней.
Я на суше изведал все: жажду, голод, мороз и зной.
А на море — и борода и виски пошли сединой.
Был я ливнем напоен всласть, вымыт волнами добела,
И от ненависти к воде стала засуха мне мила.
Но спасения нет от зла, что приходит само собой,
И в пустыню заброшен был я насмешливою судьбой…
Знает разве один Аллах, как мне тяжко под грузом бед,
Через силу свой груз несу я с тех пор, как увидел свет.
Как бы солнечен ни был день, чуть решал я пуститься в путь,
Призывала судьба дожди, злобным ветрам велела дуть.
И земля обращалась в грязь под копытами скакуна,
И от ливней путь раскисал, словно пьяница от вина.
Чтобы ногу коню сломать и от цели отвлечь меня,
Мир шатался, дожди порой шли без роздыха по три дня.
И на ветхий заезжий двор славный путь я менял тогда,
И усталость валила с ног, и с одежды текла вода.
Но в домишке, где я мечтал отдохнуть от дорожных бед,
Говорили: «Очаг погас, нет еды и постелей нет».
Страх и голод в углу сыром коротали со мною ночь,
До утра я не мог ни встать, ни бессонницы превозмочь.
Крыша дождь пропускала так, что, ей-богу, я был бы рад
Из-под крова уйти и лечь под какой-нибудь водопад.
Кто не знает, что скрип стропил на кузнечика скрип похож,—
Но порою и тихий звук человека бросает в дрожь.
Ведь в заезжих домах не раз — все базары о том кричат —
Крыши рушились на гостей, словно соколы на крольчат…
Но и ясных морозных дней я забыть не смогу вовек,
Продували меня ветра и слепил белизною снег.
Путь по суше всегда суров, он походит на палача.
Помни, едущий, дождь и снег — два любимых его бича.
Иногда от ударов их можно скрыться куда-нибудь,
По арканами пыльных бурь неуступчивых душит путь.
Тем, о чем я сказать успел, сухопутье грозит зимой.
Лето в тысячу раз страшней, лето злейший гонитель мой.
Сколько раз я испечься мог! В желтом мареве летних дней,
Как жаровня, чадила степь, жаркий воздух дрожал над ней.
А холмы и отроги гор, словно вздумав сгореть живьем,
Окунались в слепящий зной, будто в огненный водоем.
Для боящихся плыть водой ехать сушей плохой резон,
Не расхваливай этот путь — знаю я, чего стоит он.
Можно летом коней седлать, можно вьючить зимой вьюки,
Но ни то, ни другое мне, что поделаешь, не с руки.
Страшен белого солнца жар, когда сохнет слюна во рту,
А когда все дороги — топь, дождь со снегом невмоготу.
Жаждет зной иссушить тебя, когда сух, как пустыня, ты,
Дождь стремится тебя полить, когда весь ты — кувшин воды.
Если жаждой гортань горит, не получишь ты ни глотка,
Если ливнями путь размыт, щедрость выкажут облака.
Завлекает и лжет земля, шлет миражи, вперед маня,
А в мечтах у нее одно — повернее сгубить меня.
То разбойник с нагим мечом мне встречается поутру,
То под вечер трясет озноб, превращая в мороз жару.
Всемогущ и велик Аллах, нет нигде для него препон,
И меня от дорожных мук милосердно избавил он.
Ускользнул я от мух и львов, миновала меня беда,
Но вторично сухим путем не поеду я никуда.
А уж водных путей пытать и подавно не стану я,
Исстрадался на них мой дух, обессилела плоть моя.
Сотни бед я назвать бы мог и над каждой вздохнуть бедой,
Но, увы, цепенеет ум из-за страха перед водой.
Если с борта швырнуть меня и тяжелый мешок с песком,
Погружусь я скорей его, буду первым на дне морском.
Превосходно ныряю я, но выныривать не могу
И, признаться, боюсь воды, даже стоя на берегу.
Лишь в кувшины ее разлив, мы смиряем ее чуть-чуть,
Но возможно и тут подчас захлебнуться, решив хлебнуть.
Что ж могу я сказать о тех, кто решается плыть по ней?..
Всплески рыбин — взблески мечей, клочья пены — гривы коней.
Чуть качнет гребешком волна, чуть обрызжет ее закат,—
Как мерещатся мне бойцы в чешуе обагренных лат.
Каждый гонит свою волну и верхом на лихой волне,
Потрясая мечом кривым, с грозным ревом летит ко мне.
Можешь ты возразить, сказав: «И за море плывет иной,
А в сравнении с морем Тигр — так, речушечка в шаг длиной»
Но, мой друг, этот довод слаб для того, кого гложет страх
Извиненье у робких есть в волнах яростных и ветрах.
Опровергнуть тебя легко, красноречье мое не спит,
Возражений моих рекой будет довод любой размыт:
Тигр — обманщик, моря — и те простодушней его в борьбе,
Притворяется кротким он, ярость бури тая в себе.
Лижет ласково он борта, недоверье преодолев,
А потом от игры ветров в исступленный приходит гнев.
Камни, скрытые под водой, — вот предательств его залог!
Нет на свете такого зла, что бы Тигр совершить не мог.
И когда тихоструйный ток превращается в пенный ад,
Наши утлые челноки перед яростью волн дрожат.
И сбивает нас качка с ног, и окатывает вода,
Хоть у мачты свяжись узлом, хоть зубами вцепись в борта.
И возносят нас волны ввысь, и обрушивают в провал,
Чтобы днище прогрызть могли злые зубы подводных скал..
И море больше простора есть, и глубины там больше, но
Море бед или море вод, это путнику все равно.
Там ужасен разгул ветров, там встают до небес валы,
И тугие удары их сокрушающе тяжелы.
Страшно с берега посмотреть, даже если песчаный он,
Даже если он острых скал и подводных камней лишен.
А в открытое море глянь! Нет у буйных стихий стыда,
Любит жертвою поиграть и натешиться всласть вода,
Но пощады не стоит ждать от бездонных ее пучин,
Если только спасет кого добрый сын глубины — дельфин.
У дельфинов обычай есть — помогать морякам в беде
И на спины себе сажать тех, кто держится на воде.
Выплывают на них верхом утопающие порой,
Чтоб на берег без сил упасть и песок целовать сырой.
Лишь не вздумай пытаться плыть на куске судовой доски,
Море вырвет ее из рук и со зла искрошит в куски.
Но довольно! Морским путем ты меня соблазняешь зря,—
Не по сердцу мне рев ветров и бушующие моря.
Душу я приоткрыл тебе, не неволь же теперь меня,
Ты прибежище тайн моих, ты мне ближе, чем вся родня.
От рожденья судьба ко мне снисходительной не была,
И испытывать вновь ее можно, только возжаждав зла.
Все родились и все умрут, но любой, пока он живет,
Пока носит его земля, — пленник горестей и невзгод.
Каждый юность свою терял, каждый скорбно смотрел ей вслед…
Хватит этой беды с лихвой избежавшим всех прочих бед.
Для тебя на холмах окрест…»
Для тебя на холмах окрест созревают любви плоды,
Персик, яблоко и гранат стать добычей твоей горды.
Прогибая беседки лоз, наливается виноград,
Грозди ягод черны, как ночь, или розовы, как закат,
Или изжелта-зелены, или красным соком полны,
Словно кровью хмельной сердца, что без памяти влюблены.
Наши девушки — ветви ив, но созрели на них плоды,
До сих пор плодоносных ив не видали ничьи сады.
Вот нарцисс, в лепестках его отсвет прячется золотой,
Вот кувшинка, она — как снег над задумчивою водой.
Все прекрасное счастья ищет, властелином тебя избрав,
Тонок трепетный аромат восхищенных цветов и трав.
Что ни девушка — дивный плод, но не стоит судить на взгляд:
Их отведав, узнаешь ты, сколько злого они таят.
Ты сегодня поклясться рад, что сладки они, словно мед,
Но какая-нибудь в свой час желчи в душу тебе нальет.
Если б мог я вернуть покой истомленному сердцу! Но
Там, где «если б» закралось в речь, об удаче мечтать смешно.
Я несчастен, но я хочу хоть понять, для чего сюда
Все обличья свои несут и искусство и красота.
Чудо-дерево, к нам склонясь, тянет руки ветвей своих,
И свиданья на них цветут, и разлуки зреют на них,
Рядом с радостью грусть видна, близ веселья видна печаль,—
Повисают у губ плоды, не отведать которых жаль.
Может быть, этот сад Аллах для того и явил на свет,
Чтобы, всех испытав, узнать, в ком покорности должной нет.
Испытанье задумал он не затем, чтобы мучить нас,
Но затем, чтоб на книгу тайн мы поднять не дерзали глаз.
Нет, он хочет, чтоб впавший в грех нес прощенья его печать,
Ибо благостен и привык от начала веков прощать.
Много он сотворил чудес, испытуя нас так и сяк,
Между ними и слабый пол: слабый пол — это сильный враг.
Там, где стрелы любви свистят, не спасает броня от ран,
Перед женщинами — ничто даже те, кого вел Хакан.
Не родила земля того, кто поспорить бы с ними мог,
И мудрейшие из людей прах целуют у стройных ног.
Как бороться, когда одна может взглядом убить отряд,
А другая взять войско в плен, и за это их не корят.
Может женщина страсть взрастить, в грудь, как пику, вогнать ее,
Может раненому потом дать и радость и забытье.
Лишь одно недоступно ей — верность слову, и, рад не рад,
С этим должен смириться ты. Понимаешь, она — как сад,
Что плодами порой богат, а порою плодов лишен,
Что порою в листву одет, а порою и обнажен.
Не ругают за это сад, но и женщина такова,—
Изменяются что ни миг и дела ее и слова.
Все, что было, она предаст, все, что будет, предаст она,—
Ведь предательство слил в одно с любострастием Сатана.
«Твой друг может стать…»
Твой друг может стать оружьем врага могучим,
Избытка друзей не зря избегать мы учим.
Излишества тут, почти как во всем, опасны,
Ведь в горле еда встать может комком колючим.
Сегодняшний друг врагом обернется завтра,
Меняются чувства зыбким подобно тучам.
Иной говорит: «Друзей заводи побольше,
Ведь большее мы всегда почитаем лучшим».
Но слушай, ведь тот, кто много друзей имеет,
Рискует подчас со змеем сойтись ползучим.
Толпы избегай! Открой для немногих душу —
Меж многих легко застрять, как в песке сыпучем.
Ведь жажду твою моря утолить не могут —
Но может ручей, что робко журчит по кручам.
«Он стихи мои к Ахфашу…»
Он стихи мои к Ахфашу{169} снес и к тому же
Мне сказал, что стихов тот не видывал хуже.
Я ответил: «Как смел ты творенье святое
Дать тому, кто прославлен своей слепотою.
Не слагал он стихов и в душе не имел их,
Не лиса и не лев он для мудрых и смелых.
Помнит он кое-что, но, Всевышнего ради,
Текст, что списан в тетрадь, не заслуга тетради.
Ты, возможно, хотел, чтоб пришла ко мне слава,
Но ее раздавать нет у Ахфаша права.
Ты, возможно, хотел мне большого позора,
Но ведь Ахфаша брань забывается скоро.
Или сделать его ты пытался умнее,
Но ведь я для глухих говорить не умею.
Он изрек приговор, но не понял, в чем дело,—
Ложь с невежеством в дружбу вступить захотела.
Стих мой — истинный стих, что признали бы судьи,
Если б судьями были достойные люди,
А не он, нечестивец без божьего страха,
Чувства слова лишенный по воле Аллаха.
Я не царь Сулейман, не подвластны мне духи,{170}
Рыбы, птицы и звери к стихам моим глухи,
Список бедствий мне жизнь приготовила длинный,
Но пока не велела писать для скотины;
И коль мне обезьяна завидовать стала,
В этом радости много, а горести мало.
О Аллах! Пусть растут в ней бессилье и злоба,
Пусть за мной днем и ночью следит она в оба;
Пусть я стану соринкой в глазу ее злобном,—
Если ты почитаешь такое удобным».
«Когда бы ходить обучен…»
{171}Когда бы ходить обучен был дивный дворец Хосроя,
К тебе он сбежал бы тайно, грезится мне порою.
Обидно ему без празднеств, без пышных пиров до света
Но что говорить об этом, когда невозможно это.
А знаешь, дворец прекрасен и требовать он достоин,
Чтоб жил в нем его хозяин — великий мудрец и воин.
Достоинства зданья спорят с достоинствами эмира,
Хоть тот и слывет славнейшим среди властелинов мира.
Промчавшихся дней величья не могут забыть палаты,—
Повсюду шаги гремели и говор порхал крылатый.
Дворец несравненный этот, сияньем слепящий очи,
Не зря и чертил и строил достойный восторга зодчий.
Творенье свое готовым он счесть не посмел, покуда
Простые кирпич и камень не преобразились в чудо.
И ввысь вознеслись колонны, и вспыхнули в залах фрески, —
Надменно глядели сверху жрецы в первозданном блеске
И витязи лет минувших в роскошном убранстве бранном
Любой из бойцов считался на родине марзубаном{172},
Любой из них хмурил брови, как будто вел речь с врагами
Отбросив свой щит, на меч опираясь двумя руками.
А в центре дворца, на троне, стоящем в парадной зале
Был тот, на кого не часто глаза поднимать дерзали.
Хоть светел он был и ясен, как месяц во мраке ночи,
Величье его, как солнце, слепило возведших очи.
К тому же, чего таиться, постельничий, стоя рядом,
К прекрасному властелину мешал прикоснуться взглядом
Всегда при своем эмире он был неотлучней тени,
И видом, величья полным, знатнейшим внушал почтенье
Поодаль стояли слуги, нарядные, словно маки,
Лицо опустив, касался груди подбородком всякий,
Но души их пребывали не в зле, не в страхе великом,
А в сладостном восхищенье пред солнцеподобным ликом
Хвалу властелину пели на ста языках вассалы,
Но лести, что лжи подобна, не слышали стены залы,—
Владела умами всеми, и душами, и сердцами
Действительность, достоверно описанная писцами.
Свой слух насыщал словами медлительно солнцеликий,
А после дары и дани слагали у ног владыки.
А после он шел к фонтанам, наперсникам и кувшинам,
Чтоб всласть подышать прохладой и ароматом винным.
Едва ли вино запретно, хоть в нем и таится пламя,
Как в угольях, ненароком не залитых поварами.
А если и было прежде в злодействе оно повинно,
То грех искупили годы в подземной тюрьме кувшина.
Игрою с огнем поспорить напиток сей может смело,
Он может огня быстрее и душу обжечь и тело.
Из грез или сочных гроздей готовятся вина наши, —
Не знаю! Вино прозрачней тончайшей стеклянной чаши.
По цвету оно — как пурпур, которого нет дороже,
На пламя вино похоже, но пламя тусклее все же…
Младенцев к нему приносят красавицы, и любая
Кротка и нежна, как кормящей матери подобает,
Движений плода под сердцем не ведали девы эти,
Их груди не набухали, но вскормлены ими дети.
Две девочки, «Флейта» с «Лютней», и ласковы и забавны,
Но радостней и печальнее «Бубен» — мальчонка славный.
Хоть мать его бьет нередко, зато и ласкает тоже,
Чтоб песня могла любая морозом пройти по коже.
Речист и красив с рожденья, с младенчества мудр и светел
Он словно Иса, сын Марьям{173}, что бога в пустыне встретил
В любом из его напевов сладчайшая скрыта тайна,
А голос его и четок и звонок необычайно.
Великою мукой мучат нередко друг друга люди,
А он исцеляет души, а он заживляет груди.
Он жизнь возвращает мертвым, он светлые мысли множит
Но вдруг разбудить и горе в душе задремавшей может.
Меж тех, кто внимает песням с тревогой в горящем взоре,
Иного ласкает радость, иного терзает горе.
Вот тут-то, с напевом сына свой голос легко сплетая,
Берется эмира славить и женщина молодая.
Покорны ее желаниям голоса переливы,
Как ласке ночного ветра упругие ветви ивы.
Он льется, как солнце грея и золото рассыпая,—
Сладчайшей не выбрать ноты, так дивно звучит любая.
Чуть глухо поет певица, но в голосе стон газели,
И трепетной лютни шепот, и флейты певучей трели.
Порой он тревожит лаской, величьем пьянит порою,
Пресытиться невозможно, следя за его игрою.
Он в каждое сердце входит без стука, без разрешенья,
Как вождь-победитель в город, не смевший принять сраженья.
Не нужно колдунье юной искусно скрывать дыханье,
Такое дыханье впору лишь мчащейся в гору лани.
Красавица в напряженье, как мальчик-бегун у цели,
Что рвется вперед, осилив соперника еле-еле.
Без голоса жить веками мелодия не могла бы,
Напев подыскали новый для песни чужой арабы.
Бог весть, когда эта песня пришла сюда из Ирана,
Рассказы о ней восходят к седым временам Аднана{174}.
«Хрусталь не блещет ярче винограда…»
Хрусталь не блещет ярче винограда,
О спелый виноград, приманка взгляда!
Блеск кожицы твоей из солнца соткан,
А сок твой — полдня лучшая услада.
Будь ягоды потверже — и рубины
Вставлять в сережки было бы не надо.
Ты слаще меда, ты тревожишь ноздри
Благоуханьем мускуса и сада.
Твой сок под шкуркой — как вино в кувшине,
Приятна нёбу терпкая прохлада.
Когда к тебе пришел я, спали птицы,
Но было сердце пробудиться радо.
С собой привел я сыновей Мансура{175},
При них луна тускнеет, как лампада.
В сторожку мы украдкой заглянули,
Ведь ранний нас веселью не преграда.
И сторож встал, проворный, словно сокол,
И дал понять, что не нужна осада.
Нам не пришлось ни в чем его неволить,
Досталась всем сладчайшая награда.
Сверкал ручей клинком бесценной сабли,
Искрился жемчугами звездопада
И, словно змей, скрывался в ближней чаще,
Блиставшей свежей зеленью наряда.
Вблизи прозрачных струй мы пировали,
И не было с весельем нашим слада…
Но счастье — лишь залог невзгод грядущих.
Проходит все. От рая шаг до ада.
Ибн аль-Мутазз
{176}«Тоска. Вином излечится она…» Перевод Е. Винокурова
Тоска. Вином излечится она.
Ты свет воды смешай с огнем вина.
Вино старо? Но новых сил полно!
В земле хранилось много лет оно.
Его лишь чище делали года,
В нем тонок вкус, в нем сила молода.
Сейчас в кувшине только чистый свет!
Осела муть, и ни соринки нет.
Оно горит средь ночи смоляной,
Как Марс горит средь темноты ночной.
Как золото, бежит его струя
Или, точней, как желтая змея.
Вон пробка запечатала сосуд,—
Как яблочко, ее сейчас сорвут!
Об утреннем питье не говори,
Дай кубок мне под вечер, в час зари!
Ты, соглядатай, ум топя в вине,
Друг с другом оставляй наедине
Влюбленных. Душной ночь тогда была.
Сплетались их горячие тела.
Они расстались с проблеском луча,
Стеная, плача, жалуясь, крича…
А нас всю ночь тревожило одно:
Блестевшее в глазах друзей вино!
«Та звезда, что во мраке…» Перевод Е. Винокурова
Та звезда, что во мраке — как глаз, ожидает: вот-вот
Соглядатай устанет следить и покойно уснет.
А рассвет, что тихонько во тьме уже начал вставать,—
Как клочок седины, проступившей сквозь черную прядь.
«О глаза мои…» Перевод Е. Винокурова
О глаза мои, вы мое сердце предали страстям!
Плоть иссохла моя, так что кожа пристала к костям.
Стан ее — как тростник, что возрос на откосе крутом,
Он склонился под ветром любви, но поднялся потом.
Пожалей же влюбленного, — я ведь опять ослеплен,
Хоть кричат обо мне: «Он спасется! Опомнится он!»
Написала слеза на щеке моей: «Видите, вот,
Это пленник любви, — он под гнетом страданий живет!»
Ничего не достиг я, лишь вздрогнул случайно — едва
Мой коснулся рукав дорогого ее рукава.
«Я твоей красотою…» Перевод Е. Винокурова
Я твоей красотою, безумец, оправдан вполне.
Равнодушье других — не твое! — даже нравится мне.
Дай свидание мне — за тебя готов душу закласть!
До предела уже довела, меня, бедного, страсть.
«Вот и юности нашей…» Перевод Е. Винокурова
Вот и юности нашей уж добрая четверть прошла.
Что нам плакать о ней?! Ну, подумаешь, право, дела!
Как светильники, светит уже на висках седина.
Пусть! Вот зрелость. Смотри: впереди ожидает она.
«Не пугайся греха…» Перевод Е. Винокурова
Не пугайся греха, я б хотел, чтоб ты в жизни прошел
Не как тот, кто идет, подбирая брезгливо подол.
Не чурайся же малого — здание строят из плит,
И из камешков мелких большая гора состоит.
«Уязвляет меня, как змея…» Перевод Е. Винокурова
Уязвляет меня, как змея, переменчивый рок.
Изменили мечты. Я мечты растерял, не сберег…
Человек наслаждался, он с жизнью всегда был в ладу
За свои наслажденья — прощал ей любую беду.
Но в мгновение то, когда пьющий питье смаковал,
Жизнь толкнула его, не жалея, в бездонный провал.
«Люди, вы выполняли…» Перевод Е. Винокурова
Люди, вы выполняли приказы, вы слушались, люди, меня
Возле стремени шли вы, сопровождая коня.
Я скрывался от вас, исчезал, ожидая подчас:
Кто поднимет завесу, — да есть ли смельчак среди вас?
Жизнь меня оставляла в покое, но лишь иногда,
Для того лишь, чтоб снова, как пес, меня грызла беда.
Я оставлю в наследство одну лишь большую беду.
Вместе с жизнью, приевшейся мне, — я навеки уйду.
«Ночью молнию видел…» Перевод Е. Винокурова
Ночью молнию видел, блеснувшую вдруг из-за гор,
Словно сердца удар, словно быстрый влюбленного взор.
А потом ее ветер смелей подогнал, и тогда
Засияла вся ночь, как летящая в небе звезда.
Блещет молния смехом, а полночь грустит, исходя
Бесконечными, злыми слезами дождя.
И потоки дождя — как столбы в этом небе ночном.
Словно шумных два спорщика: полночь и гром,
Из которых один все кричит и кричит, а другой
Все рыдает — с терзающей душу тоской.
Полночь, важно явившись, сурово глаза подвела,
Но от слез нескончаемых полночь вдруг стала бела.
В свете молнии полночь нежданно напомнит змею,
Что ползет по бархану и греет утробу свою.
А лишь снова сверкнет среди облачных клубов густых,
Ночь предстанет как груда прекрасных цепей золотых.
Вот и ночь присмирела, звезду кто-то в небе зажег.
Утро, спрятав лицо, собирается сделать прыжок.
Оно встало пред ночью с полоской зари впереди,
Словно конь белоснежный, с полоской ремня на груди.
О души моей думы…» Перевод Е. Винокурова
О души моей думы, поведайте мне: неспроста
Погибает любовь и меня оплела клевета?
Нет, клянусь высшей волей, наславшей несчастья на нас:
Я-то клятвы не предал и в мыслях своих ни на час.
О, когда бы посланец, что гнал, обезумев, коня,
Передал бы мой взгляд вместе с тайным письмом от меня
Мой бы взгляд рассказал, сколько я пережил в эти дни!.
Излечи же меня и прошедшую радость верни.
«Тонкий лотос долины…» Перевод Е. Винокурова
Тонкий лотос долины у чистого родника,
Напоит тебя вьюга и мертвого сердца тоска.
Я бы был недостоин любви, если б здесь я не побыл чуть-чуть
Обижаясь на страсть, — хоть к друзьям и не близок мой путь
Здесь какое-то время я побыл под утро, когда
Начал сумрак редеть и на отдых клонилась звезда.
«О, когда ты, душа…» Перевод Е. Винокурова
О, когда ты, душа, образумиться сможешь, когда?
Отвечала на это душа мне вот так: «Без труда
Только юноша в силах со страстью поладить своей.
Говорят, то любовь, а ведь это уж смерть у дверей!»
«Я проверил друзей…» Перевод Е. Винокурова
Я проверил друзей, я любимых друзей испытал.
Стал от них я скрываться, от встреч я увиливать стал..
Если ж их испытать — то нельзя подавать им руки…
Ведь в глаза все — друзья, за глаза все — враги.
«О душа, ужаснись и живи…» Перевод Е. Винокурова
О душа, ужаснись и живи, вечный ужас неся.
Опасайся людей, сторонись, о душа, всех и вся!
Разве люди они? В мире — хищников нету лютей.
Это звери, надевшие платья людей.
«За тягу к наслаждению…» Перевод Е. Винокурова
За тягу к наслаждению не порицай меня.
К чему мне слушать проповедь твою день изо дня!
Ты все бранишься, сетуешь и все клянешь вино.
Занятие тяжелое, бессмысленно оно!
Бывали ведь советчики! И каждый был неправ.
Им ли понять достоинство и благородный прав?
Вино — отдохновение от бедствий и труда.
Я рядом с виночерпием уже с утра всегда.
И из кувшина тянется, прозрачна и темна,
Как бы цепочка жемчуга, святая нить вина.
Но в кубок наливается потом еще вода —
И пузыречки жемчуга со дна встают тогда!
И люди хвалят господа тогда на все лады,
Огонь вина смешавшие с огнем простой воды.
Вино старо, и кажется, что то густой туман:
То ль существует истинно, а то ль простой обман?..
В кувшине закупоренном, во мраке погребка,
На боль в ногах не сетуя, оно стоит века.
Такое одинокое, оно ведь неспроста
Средь нынешнего времени стоит, как сирота.
В нем мудрое раздумие, и шутка в нем. Лишь тот
Серьезным будет истинно, кто шуткою живет.
«С утра играет мелкою резьбою…» Перевод Е. Винокурова
С утра играет мелкою резьбою тихий пруд.
Ему покоя ветры не дают.
То с севера, а то подует с юга.
И пруд под солнцем блещет, как кольчуга.
«Вот зрелый апельсин…» Перевод Е. Винокурова
Вот зрелый апельсин: раскалена
Одна щека, а рядом желтизна,
Как лик у той, что страстно влюблена:
То вдруг красна, то вдруг бледна она.
«Как тяжек путь туда…» Перевод Е. Винокурова
Как тяжек путь туда, откуда нет возврата,
Как тяжко потерять товарища иль брата,
Как тяжко ложе тех, кто одинок,—
На нем шипы, и камни, и песок.
«Развлеките меня…» Перевод Е. Винокурова
Развлеките меня, еще смерть не пришла ведь за мной,
Еще дом не построен для тела, чтоб в мир отправляться
Утешайте меня! Сколько раз утешаем я был,
Не добившись свидания с той, что любил…
Так утешьте меня, так утешьте, прошу еще раз,
Когда знаю, что смерти ничем не отсрочится час.
Погубило меня то, что губит, быть может, весь свет:
Смена алчных желаний, погоня за тем, чего нет.
Я дружил с хитрецом, что в груди своей злобу таил,
Что вредил мне, насколько хватало коварства и сил.
Только другом моим становился он день ото дня,
Хоть когда-то он злобствовал и ненавидел меня.
Много раз в своей жизни я добрые делал дела,
Много раз сторонился позорных деяний и зла.
«Я видел, как они…» Перевод Е. Винокурова
{179}Я видел, как они за дичью мчались мимо,
Как будто дикий ветр, влекли неудержимо,
И захотелось мне принять участье в лове,
И захотелось мне отведать тоже крови.
«Могила красотой пестрела небывалой…» Перевод Е. Винокурова
Могила красотой пестрела небывалой:
Тюльпан и мак сплетались с розой алой!
Спросил я: «Кто лежит?» Земля заговорила:
«Поплачь — перед тобой влюбленного могила».
Будь глупцом иль невеждой прикинься…» Перевод Е. Винокурова
Будь глупцом иль невеждой прикинься — и будешь спасен,
Ведь на этой земле предназначен лишь глупому трон.
Смотрит разум обиженный в этой юдоли земной,
Как с тоской на наследника смотрит смертельно больной.
Коль завидует враг…» Перевод Е. Винокурова
Коль завидует враг, то терпи что есть силы, и вот
Терпеливость твоя непременно злодея убьет.
Так огонь пожирает себя с дикой алчностью. Вдруг
Он себя истребит, не найдя себе пищи вокруг.
«Любишь ли ночь…» Перевод Е. Винокурова
Любишь ли ночь, озаренную ликом луны,
И небеса, что серебряным светом полны?
Любишь вино, что дает благодатный покой,
Кубки с которым — как будто бы с пеной морской?
«О газель…» Перевод Е. Винокурова
О газель, искусившая душу газель,
Я поклялся, я был ведь спокоен досель!
Но явилась без спросу она и как в бой
Красоты своей войско ведет за собой.
Жизнь и смерть моя в том получили ответ:
Состоится ль свидание с ней или нет?
Мечет стрелы смертельные прямо в упор,
Как стрелок авангарда, безжалостный взор.
А над нею стоят, и святы и чисты,
Золотые знамена ее красоты.
Слева желтый цветок оттенил ее лоб,
Справа родинка черная, как эфиоп.
Как легко ты идешь, приносящая смерть! —
Надо бегством спастись благочестью успеть
Добродетель от ужаса вмиг умерла!
Это дьявол явился, исчадие зла!
Раньше я сомневался — сейчас убежден:
Пусть не дьявол она, но послал ее он!
Дьявол мне говорит, что нельзя обороть
Вожделений своих. Все прощает господь!
«Ты греха не страшись! И дела и слова —
Всё в руке милосердного божества!»
«Невольником страстей…» Перевод Е. Винокурова
Невольником страстей мой разум стал.
Я, полюбив, ложь истиной считал.
Охотник, я попал в силки газели.
Вся жизнь моя лишь выкуп? Неужели?
Она уже познала в мире страсть:
Во взоре обещание и власть.
Себе простил безумство, но со зла
Любовь я проклял, — лишь она ушла.
«Только ночью встречайся с любимой…» Перевод Е. Винокурова
Только ночью встречайся с любимой. Когда же с высот
Смотрит солнце, не надо встречаться: оно донесет!
Все влюбленные мира встречаются ведь неспроста
Только ночью, когда все уснут и вокруг темнота.
«Ты, скупец, ради денег…» Перевод Е. Винокурова
Ты, скупец, ради денег себя обокрал, но поверь,
Что готова судьба за тобой затворить уже дверь.
Ты собрал много золота. Видишь: близка уже смерть!
Но собрал ли ты дни, чтобы деньги потратитьуспеть?
«Слаще кубка с вином…» Перевод Е. Винокурова
Слаще кубка с вином и приятнее, чем аромат
Миртов, роз и гвоздик, и милее, уверен, в сто крат
Безнадежно любимой, которой попался ты в сети, —
Скрыть лицо свое, быть одиноким на свете.
«Хохотала красавица…» Перевод Е. Винокурова
Хохотала красавица, видя, что я в седине.
«Черный дуб в серебре», — так сказала она обо мне.
Я сказал: «Нет, я молод! Еще ведь не старый я, нет!»
«То поддельная молодость», — резкий услышал ответ.
Ну так что же, ведь юностью я насладиться успел,
Был когда-то я радости полон и смел!
Был с хаттийским копьем{180} схож мой стан, и тогда
На щеках у меня не росла борода.
«Вот я плачу и плачу…» Перевод Е. Винокурова
Вот я плачу и плачу, и облако плачет со мной.
Я-то плачу от страсти, а облако — шар водяной.
Мы не схожи друг с другом, но внешне как будто одно.
Туча скоро иссякнет, а мне перестать не дано.
Плачешь ты просто так, а меня заставляет беда.
Словно кровь, мои слезы, а слезы твои — как вода.
Ты пройдешь над страною, поля своей влагой поя,
А моими слезами напьется могила моя.
«Дьявол душу мою покорил…» Перевод Е. Винокурова
Дьявол душу мою покорил — и безумствовать стала она,—
Люди дьяволу преданы издавна.
Стал бы я добродетельным — но не позволит вино:
Красотою своей на павлина похоже оно!
Сохранилось вино с той поры, когда жил еще Ной.
А кувшин этот — мрак, свет в котором хранится дневной.
Открывают гяуры другие кувшины, а тут
Сохраняют вино, как невесту, его берегут.
То святое питье, о котором заботится всяк —
И священник, и все прихожане, и дьяк.
Дикий огнепоклонник вино называет огнем,
«Это кровь Иисуса!» — твердят христиане о нем.
А по-моему, это ни то, ни другое — оно
Просто чистое счастье, которое людям дано.
Загляни-ка в кувшин — он тебя поразит красотой.
Поразит красотой тебя пенистый кубок простой!
Так налейте, друзья, этот кубок, пусть пенится он.
Уже утро настало, стоит колокольный трезвон.
Так налейте же в кубок скорей золотого вина,
Чтобы вверх пузырьки поднимались, как жемчуг со дна
«Ночь хорошей была…» Перевод Е. Винокурова
Ночь хорошей была, лишь одно мне не нравилось в ней
Что была коротка, — я б хотел, чтоб была подлинней.
Я ее оживлял, убивая, как плащ, я на руку мотал…
Рядом с кругом луны, вижу, солнечный круг заблистал
Это длилось недолго — мелькнула секунда одна:
Словно чаша воды, словно кубок вина.
«О богатые люди…» Перевод Е. Винокурова
О богатые люди, о гордая, мощная знать,
Вам дано измываться, приказывать, жечь и карать.
Вы, наверное, черти, принявшие облик людской,
Вы рабы своей похоти, полные скверны мирской.
Погодите — на небе восторжествует закон.
Мир уже подготовлен: отмщеньем беременен он.
«С воинами из дерева…» Перевод Е. Винокурова
С воинами из дерева бьются воины из огня,
Искрами рассыпается на поленьях броня.
Но вот поленья упали, путь открывая врагам,—
Так вот падает платье девичье к ногам.
«Мы свернули на луг…» Перевод Е. Винокурова
Мы свернули на луг, на лугу же блестела роса,
Вдалеке среди мрака светилась зари полоса.
В полутьме вдруг нарцисс предо мною возник,
Как жемчужная трубочка, а посреди сердолик.
И на этом нарциссе глазам показалась роса
Вдруг слезой, увлажнившей подсурьмленные глаза.
Я антилоп увидел пред собой,
Что к озеру сошлись на водопой…
Они стремглав промчались в стороне,
Да быстро так, что показались мне
Полоской черною издалека,
Начертанной пером из тростника.
«Это рыцарь!..» Перевод Е. Винокурова
Это рыцарь! Из славных богатырей
Он, быть может, всех лучше — щедрей и храбрей.
Всем приносит богатства. И все-таки страх
Он вселяет на родине в маленьких птах.
Он вгоняет их в воду, слегка лишь пугнув!
Кровью жертвы окрашены когти и клюв.
Птахи бились, поняв, что спасения нет…
Мы скакали всю ночь — подымался рассвет.
«Мучительница велела…» Перевод А. Голембы
Мучительница велела замолкнуть устам поэта,
Но сладостность искушенья еще возросла от запрета.
Безумствует шалое сердце, любя развлеченья и плутни,
Кощунствуя в лавке винной под возгласы флейты и лютни.
Оно возлюбило голос, который нежней свирели,
Волшебный голос певуньи, глазастой сонной газели.
Края своей белой одежды влачит чаровница устало,
Как солнце, что распустило жемчужные покрывала.
Браслетов ее перезвоны, как звоны обители горной,
Которые господа славят, взмывая в простор животворный.
И вся она благоухает, как те благовонные вина,
Что зреют в смолистой утробе закупоренного кувшина!
То вина тех вертоградов, в прозрачную зелень воздетых,
Где зреют темные гроздья, в тени свисающих веток.
То сладкие лозы Евфрата, где струи, гибкие станом,
Таинственно и дремотно змеятся в русле песчаном.
Вокруг этих лоз заветных бродил в раздумье глубоком
Старик с неусыпным сердцем, с недремлющим чутким оком.
К ручью он спешил с лопатой, чтоб, гибкость лоз орошая,
К ним путь обрела окольный живая вода большая.
Вернулся он в августе к лозам сбирать это злато земное,
И стали сборщика руки как будто окрашены хною.
Потом на гроздьях чудесных, былые забыв печали,
С жестокостью немилосердной давильщики заплясали.
Потом успокоилось сусло в блаженной прохладе кувшинной,
От яростных солнечных взоров укрыто надежною глиной.
И это веселое сусло угрюмая ночь охладила,
И зябкая рань — мимолетной прозрачной росой остудила.
И осень звенящую глину дождем поутру окропляла,
Чтоб сусло в недрах кувшина ни в чем ущерба не знало!
Вином этим — томный, как будто оправившись от недуга,—
Поит тебя виночерпий со станом, затянутым туго.
Вино тебе всех ароматов и всех благовоний дороже,
Ты пьешь его, растянувшись на благостном розовом ложе.
Смешав пития, улыбнулся младой виночерпий толковый:
Так льют на золота слиток — сребро воды родниковой!
О друг мой, пожалуй, твоей я набожности не нарушу:
Любовь к вину заронили в мою надменную душу!
Ах, как хорош виночерпий, чей лик, в темноте играя,
Подобен луне взошедшей, чуть-чуть потемневшей с края!
Лицом с полнолуньем схожий, глядит виночерпий кротко,
Румянец его оттеняет юношеская бородка:
Она с белизною в раздоре и, утомившись в споре,
Грозится укрыть его щеки, красе молодой на горе!
Темнеет щек его мрамор, все больше он сходен с агатом,
Вели ж белизну оплакать всем плакальщикам тороватым!
О, если б мне дьявол позволил, мои взоры не отвлекая,
Оплакивать эти щеки: была ж белизна такая!
Ах, вижу я: в благочестье многие преуспели,
Над ними не властен дьявол, меня ж он уводит от цели!
Как мне побороть искушенья — несчетные — сердцем гордым,
Как мне — греховному в жизни — пребыть в раскаянье твердым?!
«Я столько кубков осушил…» Перевод А. Голембы
Я столько кубков осушил, похожих на небес пыланье,
С лобзаньем чередуя их или с мольбою о свиданье:
В их озаренье просветлел судьбы моей постылый жребий,
Они, как солнышка куски, упали из отверстий в небе.
Наполнив кубок до краев, укрыть попробуй покрывалом:
Сквозь ткань игристое вино проступит пламенным кораллом!
«Виночерпий в одеждах из шелка…» Перевод А. Голембы
Виночерпий в одеждах из шелка, я вино уподоблю огню
Или с яхонтом в белой жемчужине этот горний напиток сравню,
А луну на небесном своде в сходстве явственном уличу
Я с дирхемом{181} серебряным, брошенным на лазоревую парчу.
Сколько раз побывал виночерпий в моем доме, кутя и смеясь
Не страшась завистников злобных, соглядатаев не боясь;
Сколько раз я, бывало, подталкивал, улыбаясь душой заодно
Друга юного с тонким станом, чьи уста сковало вино!
Я будил его: «Просыпайся, Собутыльников Торжество!»
Сонный, он изъяснялся жестами; трудно было понять его.
Ах, как будто внезапно заикой этот добрый юноша стал,
Отвечал он мне с болью великой, преневнятно он бормотал:
«Понимаю все, что толкуешь, все, что ты мне велишь, отец,
Но вина последние капли доконали меня вконец!
Дай уж мне очнуться от хмеля, я от вин золотистых ослаб,
Завтра вновь я служить тебе стану, как покорный и верный раб!
«Когда забрезжил…» Перевод А. Голембы
Когда забрезжил робкий свет вдали
(Как бы уста улыбкой расцвели!)
И сумрак выцвел, поседел… Когда
Вздремнуть ночная вздумала звезда,
Мы все напасти мстительной земли
К трепещущим газелям принесли.
Мы к ним послали черную стрелу,
Как скорпион язвящую иглу,—
Что тоньше оторочки бахромы,
Прямей, чем строчки, что выводим мы.
Она, обрызгав травы на лугу,
Добычу поражает на бегу,
А вслед за ней, гудящей, как оса,
Проворноногого мы вышлем пса;
Он скор, похож на быстрый метеор,
Науськан, разумеет разговор,
Свисают уши у него, легки,
Как лилии прозрачной лепестки.
Когтями, что острей сапожных шил,
И зреньем — никогда он не грешил:
Глаза его ясней воды живой,
Струящейся в пустыне огневой,
Воды — она, змеясь, ползет в простор
Между миражем и подножьем гор.
Мы пса — а он поджар и узколоб —
Науськали на стаю антилоп.
Там, на лугу, как бы плывущем ввысь,
С детенышами — робкие — паслись.
Тот луг — в цветах, расцветших широко,
Темно-зеленый, как змеи брюшко.
В лугах цветы — как желтых змеек зной,
Как косы, тронутые сединой.
Играючи, наш пес, не тратя сил,
Нам пятьдесят газелей изловил.
Добычу разделили пополам:
Ведь мясо их за кровь он продал нам!
«Прелестной, встреченной во сне…» Перевод А. Голембы
Прелестной, встреченной во сне, я говорю: «Добро пожаловать!» —
Когда б она решилась мне миг благосклонности пожаловать!
В ней все — до зубочистки вплоть — влечет, прекрасное и сонное,
Благоухающая плоть, души дыханье благовонное!
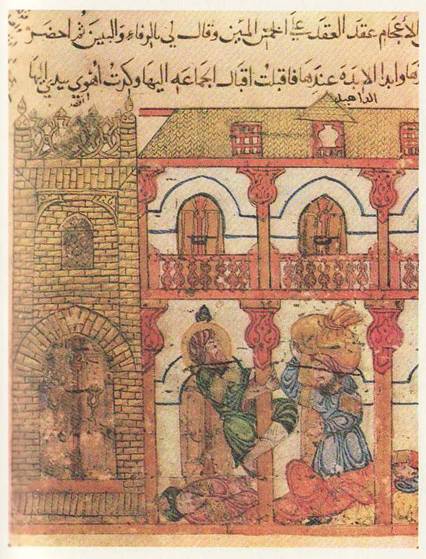
«Кто горькие слезы…» Перевод А. Голембы
Кто горькие слезы унять мне поможет?
Шурейра, увы, мои горести множит!
Недоброй душою судьбину кляня,
Шурейра решила покинуть меня.
Но воле судьбы, подчинения ради,
Она под замком очутилась в Багдаде;
Ведь нашей судьбой, как стрелой — тетива,
Превратности рока играли сперва!
Теперь она занята чуждой судьбою,
Теперь ее чувства в разладе со мною.
Ведь ловчего с яростной сворою псов
Газель не боится в чащобе лесов.
Вот эта газель среди листьев крылатых
Похожа на деву в роскошных палатах:
Куда как трудней мне Шурейру вернуть,
Чем эту газель приманить-обмануть!
Подобны мечам языки человечьи,
Мы гибель обрящем в своем красноречьи!
Душа человека — коварный тиран,
Ты этой душе не давайся в обман!
На недруга беды надвинулись тучей —
Тебе повезло! Не проспи этот случай!
И если ты в дверь не успеешь скользнуть,
Твой враг непременно найдет этот путь.
Пускай убавляется юная смелость,
Зато приращаются мудрость и зрелость.
Сбираюсь в пустыню отправиться я,
Ну что же! Седлайте верблюдов, друзья!
Иль, может, с утра я копя оседлаю,
Стремительных стрел обогнавшего стаю,
Иль, въявь оседлав кобылицу мою,
Пощады сопернику я не даю.
Бегут, потрясая единою гривой,
Конь, гордый как черт, с кобылицей игривой;
Бегут вороные, бегут, не устав,
Косматые гривы с рассветом схлестав!
И ей и ему тяжело в поединке,
Так ножниц сближаются две половинки!
Летят они рядом, в мелькании дней:
На ком же верхом я, на нем иль на ней?
Увидев их, вздумаешь в облаке гула,
Что тайну коню кобылица шепнула!
В сомненье повергла нас гонка в чаду,
Ристалище храбрых, себе на беду;
Твердили одни: «Он подругу обставит!»
Другие: «Она его сзади оставит!»
«Средь войска…» Перевод А. Голембы
Средь войска в лучах рассвета они увидели нас
Сверкающими, как злато, выставленное напоказ.
Был этот, всю землю заливший, рассвет яростно обнажен:
Ибо это блеснули наши клинки, выхваченные из ножон!
Непременно станут наши клинки причиной гибели их,
Ибо мы щеголяем в ярких шелках, затмевая всех щеголих, —
И спускаем с беснующейся тетивы тучи стрел, беспощадных притом,
А они от сечи укрытье найдут в холодке — за бегства щитом!
«Мне сердце из огня…» Перевод А. Голембы
Мне сердце из огня извлечь какой наукой?
Изменница меня пытает смертной мукой!
Разлукою полны, увы, ее деянья,
Посланья ж влюблены — и в них обет свиданья!
Язычнице, господь ей страсть ко многим выдал,
Она же мой один, мой неизменный идол,—
О нет, не презирай любви моей блаженной,
Коварно не играй с моей душою пленной!
«О ночь моя в Кархе…» Перевод А. Голембы
О ночь моя в Кархе{182}, останься такой, останься такой навсегда!
Но смей никуда уходить от меня, не смей уходить никогда!
Мнился посланец и мне возвестил, что, после разлуки и ссор,
Он непременно войдет в мой покой, внесет свой сияющий взор.
Войдя, она яблоко в смуглой руке надушенное держала,
Зубы ее были дивно остры, как скорпионовы жала!
«Чтоб успокоить угрызений пламя…» Перевод А. Голембы
Чтоб успокоить угрызений пламя,
Сей список, испещренный письменами,
Она мне примирительно вручила…
О, ежели б свернуть мне поручила!
Чтобы и я, в своей бесславной славе,
Поцеловать бы оказался вправе,
По праву исстрадавшихся в разлуке,
Писца очаровательного руки!
«Душа моя исстрадалась…» Перевод А. Голембы
Душа моя исстрадалась по той, что не отвечает мне,
Эта мука из мук все муки мои превосходит вдвойне и втройне.
Я только сказал ей: «Ответь мне», — и вот она молвила мне в ответ:
«Ответ мой: нет, и ответа не жду от тебя на него, мой свет!»
«О ты, надменная…» Перевод А. Голембы
О ты, надменная, на меня ты больно гневаться стала,
Будь мною довольна, ведь я теперь раскаиваюсь устало.
«Разлука с тобою убила меня», — сказал я, а ты рассердилась,
Но, если вернешься, невольный лжец, я сдамся тебе на милость!
«Был счастья день…» Перевод А. Голембы
Был счастья день, когда судьба моя забыла покарать меня жестоко,
Когда смежились веки бытия, когда ослепли очи злого рока;
Был день, когда, едва лишь пожелав, обрел я, усмирив души мятежность,
Вино, охапки благовонных трав, певуньи голос и любимой нежность!
Она, желанна для очей моих, подобно ясным звездам всеучастья,
Несла мне наслажденья краткий миг и обаянье истинного счастья.
Увы, мы были не наедине, был вежливый посредник между нами,
Словами он высказывал все то, что не могли мы выразить очами,
И мы решили встретиться опять, когда уснет свидетель нашей встречи
И снова будет ночь торжествовать, пришедшая к любимым издалече!
«Распрощался я с вами…» Перевод А. Голембы
Распрощался я с вами, безмерно и скорбно печалясь,
Что ж, со мною с тех пор очень многие люди встречались,
Проклинали легко, восхваляли же несколько туго,
А плясали они на груди закадычного друга!
«Собутыльника‑друга я разбудил…» Перевод А. Голембы
Собутыльника-друга я разбудил — и он на ложе привстал,
И на пламенный мой он откликнулся зов: к развеселому кубку припал!
Гибкость стана хмельного его спорит в дремоте мирской
С веткой зеленой в весеннем чаду, согнутой ветра рукой.
Дрема и одурь еще до сих пор валят его с ног,
Изо всех сил от него их гоню и уже почти изнемог!
Я напоил его терпким вином из кубка пьяных времен,
Дабы развеять похмелье его, — и не отказался он.
Макушка ночи еще черна, но — внимательней посмотри —
Уже пробивается на висках седина молодой зари!
«Седина взойдет, как дурная трава…» Перевод А. Голембы
Седина взойдет, как дурная трава: не сокрыть ее в жизни земной,
Ты прости — побелела моя голова, хоть она и окрашена хной.
Промелькнула юность мимо меня, хоть пошел я навстречу ей,
И господь мне оставил от всех щедрот лишь терпенье взамен страстей!
Право, если б не терпкость земного вина и сладчайших бесед распев,
Я простился бы, юность развеяв мою, с наслажденьями, отгорев.
Так не разбавляй же вино водой: оставляй его так, как есть,
Виноградному соку и суслу его мы охотно окажем честь!
На невесту монарха похоже вино — все в венце из жемчужных пен,
В исполинском кувшине томилось оно, забродив меж глиняных стен.
Милый друг, в Кутраббуле{183} нас посети, если хочешь обрадовать нас,
Хорошо там будет тебе и нам, если в ханжестве ты не погряз!
Ах, по кругу, по кругу будет ходить непрестанно хмельной кувшин,
Все заботы изгонишь в единый миг, вечных радостей властелин!
Чтобы после вернуться к любимой, когда жизнь, презревшая винную муть,
Благочестьем представит тебе миг услад, выдаст блуд за истинный путь!
Впрочем, как же тебе устоять, дружок, если с чашею круговой
Нынче девственно юная ходит газель и кивает тебе головой?
Ах, из кубка первой она отпила и остатком тебя поит,
На плече ее шаль шелестит, как плащ, лоб притворно хмур, не сердит!
Льет в прозрачные кубки струю вина, щедро льет, прикрывшись платком:
Сделай жадный глоток — и по жилам твоим тот глоток пролетит огоньком!
Ты зачем отворачиваешься и бежишь, разве я с тобой не хорош?
Тот, кто скажет, что я другую люблю, тот заведомо скажет ложь!
«Кто защитит и спасет…» Перевод А. Голембы
Кто защитит и спасет пораженного горем жестоко,
Если его растерзали превратности скорбного рока?
Ежели радости дни наяву испытавший вначале,
Нынче повергнут он в бездну глухой и безмерной печали?
Коль незнакома ему жизни любовная милость
И у тревожных судеб явно попал он в немилость?
Стал он желаний рабом, суетных, лживых и мнимых,
Много налгавших ему и по-прежнему — неисполнимых!
Вечно неласковы с ним даже прежние добрые братья,
Дышат забвением их вялые рукопожатья!
Их от него отвлекли дела человеческой доли:
Алчущим, хочется им урвать себе в жизни поболе!
Даже любовь их прошла, как проходит, развеявшись, каждый
Образ миражный — в краю истомленных безводьем и жаждой.
Многие также из тех, кем ты, мое время, блистаешь,
Из сотрясавших скамью в разгаре пиров и ристалищ,
Расположились в земле, в темных могилах забыты,
Хоть имена их досель испещряют могильные плиты.
Горестно вспомнить других, уязвленных стрелой смертоносной,
Юных когда-то, теперь — сединой убеленных несносной.
Некогда были они благородных деяний зерцалом,
Искренней дружбе верны были в великом и малом.
Зная пришедших им вслед, я убеждаюсь, что, право,
Это — в обличье людском — хищники волчьего нрава.
Те, что ушли от живых с любовью и верностью вместе,
Гордо не ведали лжи, низкопоклонства и лести!
Щедрыми были они, давали не зря обещанья,
Лишняя щедрость была причиною их обнищанья!
Ужели с просьбой какой приставали к ним, добрым владыкам,
Просьбу встречали они с ясным и доблестным ликом.
Пусть же, обилен и свеж, из туч, нависающих низко,
Ливень, щедрей моих слез, омоет гранит обелиска!
Воины были средь них и военачальники были,
Скал сокрушенную мощь в бархат они превратили.
Миру земному скажи: «Ты победил меня в схватке,
Делай что хочешь со мной, свои прививай мне ухватки!»
Пусть же безумствует мир, как невежда, объятый экстазом:
Эти безумства стерпеть поможет мне вдумчивый разум!
Сколько внезапных тревог, приносимых судьбою угрюмой,
Опыт мой смог одолеть, ублажить всесмиряющей думой!
Не подноси же мне, друг, кубка с вином темно-красным:
Спросит отчета душа в каждом деянье напрасном!
Темя сребрит седина, — что мне в младости, что мне в крылатой
Если ругатель замолк и опочил соглядатай?
Что ж я сошел со стези, где владычат Любовь и Досада?
Бросил безумствовать я — и признался: «Раскаяться надо!»
«Была нам небом ночь дарована…» Перевод А. Голембы
Была нам небом ночь дарована, и мы уверовали в шалость
Решили мы, что это — золото, но это ложью оказалось.
Ведь эта ночь, где звезды блещут, совсем как золотая сбруя:
Я в эту ночь еще раскаюсь, потом… А прежде — согрешу я!
«Я пробудился. Ночь была…» Перевод А. Голембы
Я пробудился. Ночь была черней вороньего крыла,
Вся в темных тканях покрывал, густых и липких, как смола
Задернув занавеси все, надежно запиралась Ночь,
Но Утро все ее замки сумело гневно превозмочь —
Как стая ловчих молодых с проворноногим белым псом,
Как пестрый зной, как метеор, и не ударив в грязь лицом!
Вслед за падучею звездой — чуть видного мерцанья след:
О, скольким вороным ночей рассвет переломил хребет!
Зубасто Утро — и оно вонзило белость в черный круп,
Коням угрюмым помешав опять замкнуть небесный круг!
«Годы меня отрешили от веселья…» Перевод А. Голембы
Годы меня отрешили от веселья, любви и вина,
Былую пылкую юность похитила седина,
На лице моем буйная свежесть начертала красы урок,
Только сам я стер в Книге Жизни самый след этих ярких строк!
«Жизнь прошла и отвернулась…» Перевод А. Голембы
Жизнь прошла и отвернулась, я забыл, что знался с лаской,
И седин моих сверканье никакой не скроешь краской,—
Ненавистен стал мне дурень с бородою белоснежной…
Как же этакого старца полюбить красотке нежной?
«Время больше ждать не в силах…» Перевод А. Голембы
Время больше ждать не в силах, ты ж, заботам вопреки,
Бремя жизни золотое разменял на медяки,—
Сколько раз твердил: «Уж завтра я возьмусь за ум, друзья!»
Только с каждым днем все ближе вечный миг небытия!
«Заклинаю тебя своей жизнью…» Перевод А. Голембы
Заклинаю тебя своей жизнью, жизнь моя, мой друг дорогой,
Осуши этот сладостный кубок и немедля подай мне другой!
Изменять мне не смей — заклинаю, чтобы ты мне верность берег,
Прежде чем разлукой и смертью поразит нас безжалостный рок.
Пусть умру я, не изменяй мне, в миг, когда от людей унесу
И мир иной из этого мира всех достоинств своих красу.
Помни, что лишь того сочту я всем обетам верным вполне,
Кто и после моей кончины ни за что не изменит мне!
«Как прекрасна сонная вода…» Перевод А. Голембы
Как прекрасна сонная вода:
Лотос на поверхности пруда!
День, расширив влажные зрачки,
Смотрит на тугие лепестки,
А на стебле каждом, как закон,
Благородный яхонт вознесен.
«Сколько храбрых юношей…» Перевод А. Голембы
Сколько храбрых юношей, чьи души никогда не ведали сомнений,
Что могли б решимости решимость научить без всяческих смятений,
Сдержанною рысью подвигались на конях средь сумрака ночного
В миг, когда созвездья погружались в предрассветный сумрак вновь и снова.
И заря своим дыханьем свежим войско Ночи в бегство обратила:
Зарумянившись от упоенья, воздымаются ее ветрила!
Крыльями захлопал ранний кочет, он охрип от горя и досады,
Кажется, он ночь оплакать хочет, будто просит для нее пощады!
По-петушьи он взывает трубно, захмелев от сновидений черных,
Словно бы карабкаясь по бубну, заплясавшему в руках проворных!
Так сломи ж, сломи ж печать, которой горлышко кувшина знаменито, —
Где вино, наследье давних предков, век хранимо и почти забыто!
Знаешь, от одной такой бутыли сколько горя и отрады, если,
Отхлебнув, живые опочили, ну а полумертвые — воскресли!
Как насущного прошу я хлеба у всемилостивого Аллаха
О любви газелеокой девы, чье кокетство гибельно, как плаха!
Есть любовь в моей безмерной боли и в слезами ослепленном взоре,
Так, дружок, не спрашивай же боле, что со мной стряслось, какое горе…
«Напои меня прохладой…» Перевод А. Голембы
Напои меня прохладой золотистого вина.
Полоса на небосклоне влажной мглой обрамлена.
А созвездия похожи в дивном сумраке нетленном
На серебряные бусы, окаймленные эбеном!
«Паланкином на спине верблюдицы…» Перевод А. Голембы
Паланкином на спине верблюдицы кажется созвездие Плеяд,
А за ними мне погонщик чудится, их на запад гонит наугад.
А они блестят, мерцает пыль их; а они так светятся хитро,
Будто в переполненных бутылях вьется ртуть — живое серебро!
«Я жаждал, я ждал…» Перевод А. Голембы
Я жаждал, я ждал — и в конце концов постиг, что был глуп, как дитя.
А ты всерьез обманула меня, мне дав обещанье шутя.
Увы, бесконечной была моя ночь, как ты и хотела вчера, —
Ведь ты поскупилась, не разрешив этой ночи дойти до утра!
«Прочь этого ахового певца…» Перевод А. Голембы
Прочь этого ахового певца и других, подобных ему,
Бок о бок с ними существовать, по-моему, ни к чему!
Когда он вопит изо всех своих сил, но с музыкою не в лад,
Мне кажется — это безумствует кот, которого холостят!
«До первых петухов…» Перевод А. Голембы
До первых петухов я кубок осушил,
Дремотою хмельной печали утишил —
Сверкает Сириус, Плеяды спят крылато,
Как острие копья над головой солдата.
«Мы нынче пьем с утра…» Перевод А. Голембы
Мы нынче пьем с утра: дом ходит ходуном,
Прочь воду, кроме той, что смешана с вином!
Хмелейте поскорей, смакуя сласть живую,
Тяжелый кубок наш пускайте вкруговую!
Струите ток вина, струите слов ручей:
Ах, кроме похвальбы, не надобно речей,—
Верней всего ведут к спасению во благе
Святые имена сладчайшей винной влаги!
«Нас обносит любимая…» Перевод А. Голембы
Нас обносит любимая родниковой водой и вином,
Ароматы смешав в благовонном дыханье одном.
Вся она — совершенство, вся — свежести нежной намек,
Спелых яблок румянец сквозит в смуглоте ее щек!
«Тем, чего уж не достанешь…» Перевод А. Голембы
Тем, чего уж не достанешь, тщетно душу не тревожь:
Выпей трижды — и от мыслей утешенье обретешь!
Если спросят мое мненье о хулителях моих,
Я скажу: «Каким-то чудом я избавился от них!»
«Сетует она…» Перевод А. Голембы
Сетует она, а слезы — зримый след душевных смут,—
Слезы, смешанные с кровью, но щекам ее текут:
«До каких же пор украдкой мы встречаться будем, друг?
Где найдем мы избавленье от безмерных наших мук?»
«Старуха молодится…» Перевод А. Голембы
Старуха молодится, уверяя, что дивно свеж ее лица овал,
Но век прошел с тех пор, как за распутство ее хозяин по щекам бивал.
Вот семенит она под покрывалом: шажочки спотыкливо-неверны,
А жалкие крысиные косицы, должно быть, из мочала сплетены!
О вино в стеклянном платье…» Перевод А. Голембы
О вино в стеклянном платье, о блаженно-молодое,
Нынче ты сыграло свадьбу с родникового водою!
Было ты — как яхонт алый, а едва с водой смешалось,
В буйную розовощекость превратилась эта алость!
«О темнокожая девушка…» Перевод А. Голембы
О темнокожая девушка, я страстью к тебе сражен,
Тобой ослеплен я, единственной из множества дев и жен:
Кокетливо растягиваемые, пленительные слова,
Эбеновый торс, эбеновые плечи и голова!
«Ах, друзья, вы не внимайте…» Перевод А. Голембы
Ах, друзья, вы не внимайте повеленьям благочестья,
А, восстав от сна, смешайте душу с винным духом вместе.
На траве святое утро плащ рассвета расстелило,
И росой отяготились вихрей влажные ветрила.
Пробил час — и перед кубком преклонил кувшин колени,
А петух вскричал: «Пируйте поутру, не зная лени!»
Громко флейта застонала от желания и страсти,
Ну, а ей красноречиво вторят струны сладострастья.
Что вся жизнь, весь мир подлунный, кроме этого мгновенья?
Что милей, чем виночерпий в миг покорного служенья?
«Туча, чреватая ливнем…» Перевод А. Голембы
Туча, чреватая ливнем, свинец вечеров распоров,
Пришла, шатаясь от тяжести, опираясь на плечи ветров.
Она внесла в мою темень дождей журавлиный стан
И ярость воды, изливающейся, как кровь из отверстых ран.
И небо в ту ночь, когда туча рассеялась наконец,
И звезды, ближе к рассвету, сплелись в единый венец,
Внезапно похоже стало на росных фиалок луг,
Где венчики белых лилий пораскрывались вдруг!
«Седины отца я отдам…» Перевод А. Голембы
Седины отца я отдам за твой, скрытый гробницей, прах.
Благостны память, и тело твое, и вихрь на могильных холмах!
Кем был для меня ты, я знаю один; жаль, душен твой смертный кров,
О, если б я умер, о, если б ты остался жив и здоров!
Когда ж я с могилы твоей уйду, рыдая, казнясь и любя,
Мой разум и благородство мое оплакивать станут тебя.
«На моих висках страстотерпца…» Перевод А. Голембы
На моих висках страстотерпца — украшенья сребристых седин,
Но доныне упорствует сердце в заблужденьях былых годин.
Безобразны седые пятна, но душою потребно пасть,
Чтоб гнедого коня безвозвратно перекрасить в другую масть!
Это будет поддельная младость, и подлога ничем не скрыть,
Ведь утрачена прежняя радость, порастеряна прежняя прыть!
«Душу твою чаруют…» Перевод А. Голембы
Душу твою чаруют прекрасных очей дары,
Влекут твое сердце ночные и утренние пиры,
Гибкой ветви подобный тебя привлекает стан
И щеки, похожие дивно на спелых яблок дурман.
Ты в сорок лет не мудрее, чем двадцатилетний юнец,
Скажи мне, приятель, когда ж ты образумишься наконец!
«Каюсь, друзья мои…» Перевод А. Голембы
Каюсь, друзья мои, я поступил повеленьям ума вопреки,
Поработил меня кубок, воссев на престоле моей руки!
Я встретил бродягу по кличке «Вино» и нападки его отражал,
Только прямо в мятежное сердце мое он вонзил свой острый кинжал!
Ей-богу, не знаю — единственный раз свершил я молитву вину
Или дважды кковарному кубку прильнул — и трижды, пожалуй, прильну?!
«О ветер отчего края…» Перевод А. Голембы
О ветер отчего края, родных пустынь и урочищ,
Уж лучше забудь меня, если моих дум развеять не хочешь!
Ведь нынче я свое ложе в ночи разделяю с тоскою,
Мне очи бессонница на ночь подкрашивает сурьмою.
Лишь страсть мне повелевает — угрюмо, властно и строго,
Я жалуюсь только богу — и никому, кроме бога,—
Подобно тому, кто томится, живьем от любви сгорая,
И больше не ждет ни покоя, ни дремы, ни вечного рая.
«Как ночь для спящего коротка…» Перевод А. Голембы
Как ночь для спящего коротка — проснулся и все забыл!
Как ничтожен чужой недуг для того, кто болящего посетил!
Та частица жизни, которую ты оставить во мне смогла,
Будь залогом счастия твоего: благодарность моя светла!
В ночь свиданья казалось мне, что лежу я в обнимку с душистой травой,
Источающей благоуханья волну в эту тьму, в этот холод живой.
И когда б облаченными в сумрака плащ нас кто-то увидеть успел,
Он одним бы единственным телом нас счел, хоть сплетенным из двух наших тел!
«Сколько я ночей без сна проводил…» Перевод А. Голембы
Сколько я ночей без сна проводил, а по постелям
Собутыльники мои полегли, убиты хмелем!
И под их блаженный храп о любви святой и пылкой
С флейтой вел беседу я да с хохочущей бутылкой.
Лютня пела о любви, ну а ночь во тьме витала
И огни падучих звезд гневно мне в лицо метала!
Бросила в меня она рой осколков мирозданья
С возгласом: «Ты Сатана, дух мятежный отрицанья!»
«Флейте привет и лютне привет…» Перевод А. Голембы
Флейте привет и лютне привет, привет воркованью голубок,
И тонкому станом, как гибкая ветвь, юнцу, подносящему кубок!
Привет виночерпию неспроста и месяцу молодому,
Собой отменившему власть поста, возвестившего радость дому!
«Приятно охлажденное питье…» Перевод А. Голембы
Приятно охлажденное питье, а отчего — и сам я не пойму,
О да, друзья, я сомневался в нем, но нынче возвращаюсь я к нему.
Любому возвращению — хвала, подайте ж мне — в сорочке из стекла —
То зелье, что, как яхонт алый, спит в жемчужине, сгорающей дотла!
Вино, вливаясь в кубок, неспроста сребристую решетку чертит в нем,
Где ледяных колечек суета, то одиноких, то — вдвоем, втроем.
И кажется порой, что в кубке том поет нам дева абиссинских стран,
На ней шальвары из воды с вином, а их окрасил праздничный шафран!
Как разостлалась поверху вода, сносящая обиды уж давно,
А под водой бушует, как всегда, бунтарское тревожное вино.
Мы орошали жажду в сто глотков, и таяла прохлада пузырька,
Когда беспечных этих пузырьков касалась виночерпия рука!
«Под сенью виноградных лоз…» Перевод А. Голембы
Под сенью виноградных лоз мы напивались допьяна,
Лицо возлюбленной моей во тьме мерцало, как луна,
Любая зреющая гроздь преображалась на глазах
В скопления жемчужных звезд на изумрудных небесах!
«О судьба…» Перевод А. Голембы
О судьба, в жизни ты не оставила мне ничего, кроме горя с бедой,
И от горестных дум я к могиле бегу, к расточенью души молодой!
О судьба, ты дотла мои слезы сожгла, ты в глазах угнездилась моих;
Хватит, горестей ты мне сверх меры дала, сбереги их для многих других!
«О, эта ночь…» Перевод А. Голембы
О, эта ночь, судьбы подарок, благодеянье горних сил,
Чей образ — он душист и ярок — я ныне в сердце воскресил!
О, ночь воспоминаний странных, та ночь, когда взнуздал я их,
Ту пару лошадей буланых, ту пару кубков золотых!
Те кони, устали не зная, свершали путь во мраке свой,
Их огревали, подгоняя, бичи погоды дождевой.
Рысцой бежали кони эти, пока не оказался я,
Хмелея, в пряном лунном свете — на луговине бытия.
Ах, там играла тонким станом пугливоглазая газель,
Косилась, воду уносила и приносила лунный хмель,
Она влекла созвездий реки к шатрам небесной вышины,
Блаженно трепетали веки, не чарами ль насурьмлены…
Сродни эбену, благовонии, но неподвластные живым,
Блаженно кудри-скорпионы к щекам прильнули восковым!
Те скорпионы были с нами, кусая щеки, плечи, лбы,—
О, ночь, украденная нами у роковой моей судьбы!
Та ночь в моем существованье была лишь проблеском огня,
Меня влечет ее дыханье, медовой свежестью маня.
Вино и мед, вино и мука, и скорпионов круговерть…
Смерть — это попросту Разлука, Разлука — это просто Смерть!
«Долгой бессонной ночью…» Перевод А. Голембы
Долгой бессонной ночью моя тайна раскрылась глазам,
И зрачки воззвали на помощь, боясь покориться слезам.
В пучину тоски и волнений, неведомую досель,
Меня погрузила печали не знающая газель.
Она припадает к кубку, совсем подобна, смотри,
Месяцу молодому, что тает в багрянце зари!
«Трезвым не будь…» Перевод А. Голембы
Трезвым не будь, поскольку пьянство всего примерней,
Утреннюю попойку соединяй с вечерней.
Трезвенник пусть горланит, словно кимвал бряцая,
Слух легковерных ранит, радость твою порицая!
Пусть сей ничтожный малый, плоше щербатой крынки,
Вздорным своим благочестьем торгует на вшивом рынке!
Выбрав себе дорогу, занятье или забаву,
Делай лишь то, что по сердцу, что по душе иль нраву!
В этом я твердо уверен, не испытываю сомненья,
Это мое правдивое и справедливое мненье!
Выдержанные вина щедро пускай вкруговую
И, осушивши чашу, бери немедля другую!
Не пей ничего (о благе взывают наши напевы),
Кроме вина и влаги уст возлюбленной девы!
Разве не слышишь, как утром гудят облака блестящие:
«Эй, протирайте очи! Эй, пробуждайтесь, спящие!»
«В кубок по уши влюбленный…» Перевод А. Голембы
В кубок по уши влюбленный и коленопреклоненный,
Горлышко кувшин распялил, раб из глины обожженной!
И струна послала нынче флейте нежное посланье,
И они слились в едином развеселом колыханье.
Благородные особы нынче пьют, вину доверясь:
Трезвым быть в денек подобный — непростительная ересь!
«Развлеките меня…» Перевод А. Голембы
Развлеките меня, ведь в жизни все — развлеченье, живем пока!
Жизнь, после которой приходит смерть, — отчаянно коротка.
Берите услады у времени, нам отпущенного взаймы,
Удары судьбы не медлят: пройдем и исчезнем мы.
Так дайте у этого мира мне взять все отрады его!
Когда я его покину, мне будет не до того.
«Мою молодость отняло время…» Перевод А. Голембы
Мою молодость отняло время, я теперь седой человек,
Юность лик от меня отвратила, я простился с нею навек.
Образумился я на диво после вешней былой суеты:
Стали помыслы благочестивы, целомудренны сны и мечты.
Приказав позабыть о кубке, запретил мне дурить имам,
И вино от меня вернулось к виночерпиям — просто срам!
Поневоле я стал воздержан, ведь имам этот между мной
И усладами краткой жизни нерушимою встал стеной!
«Я наконец опомнился…» Перевод А. Голембы
Я наконец опомнился, но после каких безумств настали хлад и грусть.
Так не ищи любви на том погосте, куда я больше в жизни не вернусь!
Я нынче охладелый седоглавец, и юноши зовут меня: «Отец!» —
Мне нынче места нет в очах красавиц и в теплоте строптивых их сердец.
Я развлекаюсь, сам себе переча, почти лишен душевного огня.
Подумать только! Никакая встреча совсем уже не радует меня!
Я всеми позабыт в домах соседних — в своем привычном дружеском кругу,
Но, впрочем, есть веселый собеседник, на шалости его я разожгу!
Да есть еще хозяйка винной лавки, она исправно верует в Христа{184},
И постучался к ней, едва зарделась рассветная густая теплота.
Она услышала, кто к ней явился, узнала забулдыгу по шагам,
Того, которого не любят деньги, да и за что любить меня деньгам!
Потом она покинула лежанку, с кувшинов сбила хрупкую печать,—
Так сон дурной оставил христианку, ей веки перестал отягощать.
Ночь распустила крылья в блеске винном, вспорхнула, чтоб лететь в свои шатры,
Медь меж большой бутылью и кувшином был солнца луч припрятан до поры!
И вот хозяйка принесла мне в кубке такого золотистого вина,
Зрачки которого блестели, хрупки, ресницами не скрыты допьяна!
Вино хранилось бережно в подвале, и тень его гнала полдневный зной,
Когда чертоги дня торжествовали и душный день кипел голубизной.
Бутыль, увита в мягкость полотенец, стоит со сверстницами заодно,
А в ней, как созревающий младенец, крепчает вдохновенное вино.
Так будь подобен утреннему свету, и мрак гони, и пальцы растопырь,
Еще не пробужденный, не воспетый, дух винограда, мальчик-богатырь!
И подал мне мое вино с улыбкой, как чудо-ветвь сгибая тонкий стан,
Неумолимый виночерпий, гибкий и облаченный в шелковый кафтан.
И мускус цвел на лбу его широком, и виночерпий был, как солнце, юн,
А на виске его свернулся локон, как полукруг волшебной буквы «нун»!
«Весна вселяет в нас…» Перевод А. Голембы
Весна вселяет в нас безумий череду,
Но это лучшее из всех времен в году.
Отраду и любовь весна тебе дает,
Как бы в залог своих улыбчивых щедрот!
В проснувшемся лесу щебечет птичий хор,
На зелени лугов — веселых песен спор,
Лужаек островки расхохотались вдруг:
То благодатный дождь все оросил вокруг!
«Загорится зорька…» Перевод А. Голембы
Загорится зорька пламенем-пожаром,
Выеду я утром на коне поджаром;
Выеду я утром по привольной сини,
На коне буланом с вызвездью на лбине.
Лихо мы скакали (спали звери в норах).
Нам земля раскрылась в лентах и узорах
И в цветах — незрячих и еще несмелых:
Вся в бутонах алых, желтых или белых!
Лепестки бутонов, нежные дремотно,
На уста похожи, сомкнутые плотно.
А иной — в соцветьях — распустился, зыбкий,
И глядит с опаской иль с полуулыбкой,
А пруды — прозрачны, луговины — немы,
И, дождем омыты, — блещут, как дирхемы!
И слезой, что чутко спит в глазу влюбленном,
Кажется нам солнце в воздухе зеленом.
А потом большими, жадными глотками
Мы вино хлебали, жаркое, как пламя.
Лишь взглянув на это дьявольское зелье,
Захмелеть возможно, начудить с похмелья!
Завертела дева смуглою ладошкой —
Взмыл в полет за дичью лунный сокол дошлый!
Заблистали перья, как кольчуги звенья,
А в очах вдруг вспыхнул светоч нетерпенья!
Клюв его кинжальный остротою страшен
И порою словно пурпуром окрашен.
Голова похожа на округлый камень,
И пестреет грудка буквами-значками,
Будто бы пергамент с тайною крамолой…
Ну, а хвост отточен, как палаш тяжелый.
Он подвижен злобно, как змея без кожи,
А кривые когти с письменами схожи.
Крыльев чернь, повыше рукавицы алой,
Оторочкой темной кажется, пожалуй…
«Мы попали под дождь…» Перевод А. Голембы
Мы попали под дождь, утонули в пучине морской.
Нет, не я умолял, чтоб ниспослан был ливень такой!
Приближаясь к закату, взирая на нас из-за туч,
Солнце шлет нам последний, вечерний, болезненный луч,
Но не может прорвать облаков непроглядный свинец,
Как бессильный старик, что пошел с молодой под венец.
«Платье желтое надела…» Перевод А. Голембы
Платье желтое надела — и очаровала нас,
И пленила, покорила множество сердец и глаз,
Словно солнце на закате, волоча по нивам пряным
Драгоценные покровы, что окрашены шафраном!
«Меня взволновала молния…» Перевод А. Голембы
Меня взволновала молния, блеснувшая в туче алой,
Когда закатное солнце посылало нам взгляд усталый.
Свет молнии то показывался, то шастал по дальним нивам,
Как будто скупец какой-то зажигает костер огнивом.
«Красавице Хинд что‑то не по душе…» Перевод А. Голембы
Красавице Хинд что-то не по душе густая моя седина:
Мою голову, как плотной чалмой, окутывает она.
О красавица Хинд, это вовсе не мне скоро так побелеть довелось,
Побелели пока лишь пряди одни, лишь пряди моих волос!
«Любовь к тебе, о соседка…» Перевод А. Голембы
Любовь к тебе, о соседка, бессмысленною была,
От нее отвлекали другие помыслы и дела,—
И узнал я то, во что прежде молодой душой не проник,—
Поседел я, и седина мне подсказала, что я старик.
Созидающий замки зодчий, собирайся в далекий путь,
Человек, до богатств охочий, распроститься с ним не забудь!
«Жил я в мире поневоле…» Перевод А. Голембы
Жил я в мире поневоле, будто кто меня заставил,
Я не прилагал стараний, ни хитрил и не лукавил.
Все изведав, знаю — нечем веселить мне сердце боле,
Жизнь — сосуд, где угнездились страсти, горести и боли!
Жизнь кляня, уйду однажды в царство вечного ночлега,
Не оставив ни отростка, ни ствола и ни побега!
«О друг мой, разве не веришь ты…» Перевод А. Голембы
О друг мой, разве не веришь ты, сколь чудесны мирские дела,
Зиждителю мира, его творцу — благодарность и похвала!
Та жизнь, которую вижу я, заставит влюбиться в смерть:
Завидна мне участь того, над кем уже помрачилась твердь!
Твердым-тверда глухая скала, и гладки ее края,
По которым скользит дождевая капель и ноженьки муравья,
Но и эта скала — в миг большой беды — не терпимей меня отнюдь.
Эти боли порой заставляют меня к пряной горечи рта прильнуть.
Ну так кто ж из объятий рока когда выходил невредим и дел,
Даже если он в жизни отрады знал и годами жизни владел!
Жизнь унизит его. Он, что был велик, униженье воспримет вдруг.
Поневоле меч власти придется ему уронить из безвольных рук.
Беспечный, в пучине невежества ты купаешься, душу губя,—
Так бойся судьбы — я вещаю тебе, предостерегаю тебя!
«Одинокие люди в доме тоски…» Перевод А. Голембы
Одинокие люди в доме тоски, ваши кельи невысоки,
И друг с другом не общаетесь вы, хоть друг к другу вы так близки!
Будто глиняные печати вас запятнали силой огня,
И ничья рука не взломает их, вплоть до самого Судного дня!
«Предоставь врага его судьбе…» Перевод А. Голембы
Предоставь врага его судьбе, чье неотвратимо торжество,
И тебя от недруга спасут все превратности судьбы его.
Ежели ты обещанье дал, выполни его, пока не стар:
Ведь посулы лживые всегда умаляют сердца щедрый дар.
Щедрый человек живет в веках, мы щедроты судим по делам,
Ибо подвиг есть в его судьбе, и она — благодеянье нам!
«Сердце, ты на седину не сетуй…» Перевод А. Голембы
Сердце, ты на седину не сетуй, в ней обман, задуманный хитро:
Ведь нельзя платить такой монетой, бесполезно это серебро!
Я седого не хочу рассвета, страшен мне его угрюмый шаг:
Нет ему привета, нет ответа, враг ты мне, хоть светоносный враг!
Младость предала меня до срока, пегой сделалась волос река,
Вороненка пестрая сорока прогнала с крутого чердака!
«Часто случалось…» Перевод А. Голембы
Часто случалось, что щедрые люди нищали
И перед ближними уничижались в печали.
Так завяжи кошелек и не ссужай разгильдяям:
Знай, чем просить у скупца, лучше прослыть скупердяем!
«Обрадованному большой удачей…» Перевод А. Голембы
Обрадованному большой удачей
Медь горестей еще послужит сдачей.
Надменный с униженьем незнаком,
Но он к нему все ближе с каждым днем!
Для скупердяя щедрый — вора гаже,
Что удивительней, чем скупость даже!
«Я думал, что судьба моя…» Перевод А. Голембы
Я думал, что судьба моя — блаженных развлечений шум,
Но убедился в том, что жизнь — чреда из горестей и дум.
Теперь я счастьем пренебрег и отодвинул винный чан,
Теперь без стрел оставил я любви пленительный колчан!
Спросил я душу: «Что? Настал твоих безумств последний миг?»
Она в ответ мне: «Да, ведь я вошла в познания тайник!»
Перемежая свет и тьму, я с каждым часом все больней,
Вселился в плоть мою недуг до самого скончанья дней.
На одр болезни брошен я, чего хотел завистник мой,—
Иссох я — и моя душа влекома замогильной тьмой!
Последний воздуха глоток я сделал — такова судьба.
Над телом горестным моим власть жизни призрачно слаба!
Я стойкостью внушил врагам, что я еще вполне здоров,—
Но знаю, сколько ран укрыл терпенья моего покров!
«О душа, человеческая душа…» Перевод А. Голембы
О душа, человеческая душа, к гибели ты близка,
Но все еще питает тебя упований нетленных рука.
Человек лелеет надежды свои, и душа расстилает их впрок,
Только вскорости успевает свернуть их злосчастный, безжалостный рок!
«Ловчего рука копья не мечет…» Перевод А. Голембы
Ловчего рука копья не мечет:
У него на рукавице — кречет.
Знает пусть беглец, что эта птица
К ловчему с добычей возвратится!
Выучен для кровожадной битвы,
Он спешит, летя на зов ловитвы.
Нет пороков у него нисколько,
Кроме жажды убивать — и только!
«Солнышко прогнало поутру…» Перевод А. Голембы
Солнышко прогнало поутру под воспламененным небосводом
Ночи тьму, подобную шатру с приоткрытым озаренным входом.
И звезда пылала на заре, украшая лик ее блестящий,
Как светильник в жарком серебре, пламенем томленья исходящий.
В этот самый миг над головой, словно бы померкнув от досады,
Знаменем, одетым синевой, корчились печальные Плеяды.
Мы травили дичь в часы погонь; сбруею поскрипывал потливой
Крепконогий и мохнатый конь, мой игрун, красавец густогривый!
Рысью он пускается подчас иль кичится, на дыбы взвиваясь,
Красоте, утехе наших глаз, в этот чудный миг уподобляясь.
Так бывают девы хороши, так бывают девы разодеты,
Те, на чьих запястьях не гроши, а неповторимые браслеты!
Крепок круп у моего копя, грива же в траву струится длинно,
Ребра у него в пылу огня стали как ободья паланкина!
Крепко связан у него костяк, и пускай дорога вся изрыта,
А над ней в неведомых краях реют бирюзовые копыта!
В длительном пути являет прыть этот благородный иноходец:
Если надо, может сам отрыть, сам пробить копытами колодец!
Но в укор ему любая быль; нравный, не смирив своей гордыни,
Тучами он поднимает пыль, что клубится, как песок пустыни.
Выезжаю с соколом сам-друг, нас теперь влечет ловитвы тропка,
Крылья так изогнуты, как лук, что привык держать чесальщик хлопка!
Сокол, сокол! Он, как некий царь, тонкою короною увенчан,
Глаз его — сверкающий янтарь — ярок и на диво переменчив.
Ах, как сокол дерзок и отважен, ах, как веки глаз его легки!
День и ночь на неусыпной страже неподвижные его зрачки.
Тонок хищный клюв его, как бровь, бровь дугой красотки знаменитой,
Крылья его щедро изнутри пятнышками белыми покрыты.
Как похож сей окрыленный стан, стан, охвостьем завершенный длинно,
На расшитый золотом кафтан счастьем взысканного властелина!
Сокол на перчатке у меня, быстрый, он на привязи пирует,
Возвращается быстрей огня и нередко пищу нам дарует!
X–XII века
Аль-Мутанабби
{185}«Доколе, живя в нищете… Перевод С. Северцева
Доколе, живя в нищете, бесславную долю
Ты будешь покорно сносить, — доколе, доколе?
Ведь если ты честь обрести не сможешь в сраженье —
То, чести не обретя, умрешь в униженье.
Так, веруя в бога, лети с оружьем в руках:
Для гордого гибель в бою — как мед на устах!
«О, сколько вас…» Перевод С. Северцева
О, сколько вас, подобно мне, израненных, убитых
Девичьей шеи белизной, румянцем на ланитах
И блеском этих глаз, больших, как у степных коров,—
Вконец измучен, из-за них погибнуть я готов.
Чудесна юность, славно Ячить, пока ты молод, витязь,—
О дни в Дар-Асла{186}, дни любви, вернитесь, возвратитесь!
Пусть жизнь твою продлит Аллах, — пока ты бодр и юн,
Немало в бусах и платках встречаешь гордых лун.
Вонзая острия ресниц, на стаи стрел похожи,
Их взоры ранят нам сердца, хоть и не ранят кожи.
Тягучими глотками пьют они из губ твоих,
И слаще фиников уста красавиц молодых.
Они стройны, нежней вина, но в них и сила скрыта:
Их своенравные сердца — из крепкого гранита.
А волны их волос черней вороньего крыла,
И ни морщинки на лице судьба не провела.
О, запах девичьих волос, — как бы в одном настое
В нем с маслом розовым слились и амбра и алоэ.
Улыбку дарит нам она прохладным тонким ртом,
И мускус локоны струят, играя с ветерком.
Давно, красавица, с тоской сдружила ты Ахмада{187},
С бессонницей — его глаза, а тело — с мукой ада.
Тебе — все естество мое, тебе — и сон и явь,
Твори, что хочешь: боль мою убавь или прибавь.
Не может не страдать герой, добычей став твоею:
Я — пленник локонов твоих и этой гибкой шеи.
Пить не грешно хмельную кровь из виноградных
Так напои того, кто в дар любовь тебе принес.
Явился я в расцвете сил — и все, чем я владею,
Всего себя отдам тебе, от страсти пламенея.
К сединам ранним приглядись, к слезам и к худобе:
Они — свидетели любви, моей любви к тебе.
Коль ты порадуешь меня хоть кратким единеньем,
Три дня отказа я снесу с безропотным терпеньем.
В цветущем Нахле{188} жизнь моя сурова и мрачна,
Как в Иудее — жизнь Христа в былые времена.
Моя подушка — круп коня, зато крепка, упруга
Рубахой служащая мне отменная кольчуга.
Она красива и прочна, блестит, глаза слепит,
Как будто кольца сплел ее когда-то сам Давид{189}.
Добьюсь ли превосходства я, склонившись перед властью
Судьбы, что за несчастьем шлет лишь новые несчастья?
Ищу я пищу и приют — от поисков устал,
Вздыхает грудь, суров мой путь, и краток мой привал.
Скитаюсь я из края в край, нужда меня изводит,
Склоняется моя звезда, но помыслы — восходят.
Быть может, уповаю я на то, чего достиг,—
Достиг по милости того, кто Славен и Велик{190}.
Кто благороден, будет горд и в грубом одеянье,
Но мерзко видеть мервский шелк на подлой обезьяне.
Живи бесстрашно — иль умри, но жизнь отдай свою
Под шум знамен, с копьем в руке, честь обретя в бою.
Ведь лучше острого копья нет средства, что могло бы
Врага избавить от вражды, завистника — от злобы.
Но не живи, как те, что жизнь бесславную влачат,
Чью смерть живые не сочтут утратой из утрат.
Храни достоинство свое и в огненной геенне
И даже в сладостном раю гнушайся унижений.
Ждет гибель немощных душой, трусливые сердца —
Того, кому не разрубить и детского чепца.
Зато от гибели храпим бесстрашный, с духом львиным,
За честь готовый в спор вступить и с грозным властелином.
Не родом славиться — свой род прославить я стремлюсь,
Не предками — самим собой по праву я горжусь.
Хотя их добрые дела известны всем арабам:
Они спасали беглецов и помогали слабым.
Когда чему-то и дивлюсь, то удивленью тех,
Кто ясно видит, что душой вознесся выше всех.
Я — щедрости родной близнец, я — властелин созвучьям,
Отрава недругам, позор завистникам живучим.
И лишь в общине у себя, — Всевышний ей судья! —
Как Салих{191} жил средь самудян, живу, отвержен, я.
«Постойте, увидите ливень мой…» Перевод С. Северцева
Постойте, увидите ливень мой, — тучи уже собрались,
И не сомневайтесь: тому не бывать, чтоб эти слова не сбылись!
Ничтожества камни швыряют в меня — их камни, как вата, легки,
И, метясь в меня, лишь себя поразят лжецы и клеветники.
Не зная меня, не знают они, что суть им моя не видна,
Неведомо им, что ведома мне незнания их глубина,
Что я, даже всею землей овладев, сочту себя бедняком,
И, даже созвездия оседлав, сочту, что бреду пешком.
Для мыслей моих ничтожно легка любая высокая цель,
Для взоров моих ясна и близка любая из дальних земель.
Я был величавой, крепкой горой, но, видя повсюду гнет,
Почувствовал я, как в моей душе землетрясенье растет.
Тогда от гнева я задрожал, грозною думой объят,
Подобно верблюдицам, чьи бока при каждом звуке дрожат.
Но только опустится мрак ночной, искры от их копыт
Так ярко дорогу нам озарят, как факел не озарит.
На быстроногой верблюдице я — словно на гребне валов,
Меня устремляющих по морям, которым нет берегов.
Проносится весть обо мне быстрей, чем среди сплетниц — слух,
И, в тысячи жадных ушей превратись, страна затаила дух.
Кто ищет величья и славы такой, какую хочу обрести,
Уже не заботится, жизнь или смерть его ожидают в пути.
О нет, кроме гибели ваших душ не знаем мы цели иной,
А средство, чтоб цели этой достичь, — только клинок стальной.
Приходит меч, — и время душе расстаться с жильем земным,
Уходит меч, — и даже скупой не будет больше скупым.
Скудна будет жизнь, если гордость свою не утолю сполна,
Но скудной не станет она оттого, что пища моя скудна.

«Абу Саид, упреки оставь…» Перевод С. Северцева
{192}Абу Саид, упреки оставь, — ведь ты не из тех глупцов,
Кто заблужденья и ложь принять за истинное готов.
Правители сами закрылись от нас, их нрав уж давно таков,
Поставили стражу, чтоб нас не пускать за полог своих шатров.
Но бешеный бег арабских коней, разящая сталь клинков
И копий каленые острия сорвут перед нами покров!
«Непрошеным гостем…» Перевод С. Северцева
Непрошеным гостем пришла седина, окрасила кудри до плеч,
Уж лучше бы сразу в багряный цвет их перекрасил меч.
Исчезни, сокройся, сгинь, белизна, белее которой нет,—
Безрадостней ночи для глаз моих этот печальный цвет.
Разлука с любимой — вот пища моя, тоскою мой дух томим,
Ребенком я был, когда полюбил, а к зрелости стал седым.
Я вижу чужого становья след — о ней расспросить хочу,
Увижу чужих, незнакомых дев — и сердцем кровоточу.
В тот день, навсегда расставаясь со мной, горько вздохнула она
О том, что душа нерушимо верна, а встреча — не суждена.
Слились наши губы, — и слезы мои стремились к ее слезам,
И, страх поборов, устами она припала к моим устам.
Сок жизни вкусил я из уст ее, — в нем столько живящих сил,
Что, если б на землю пролился он, мертвых бы воскресил!
Глазами газели глядела она, а пальцы, как стебельки,
Стирали струистой росы ручейки с ее побледневшей щеки.
Но мне приговор выносить не спеши, — любимая, ты не права,
Дороже мне твой приговор, поверь, чем вся людская молва.
Ты страхом охвачена, — этот страх не в силах и я подавить,
Но боль я скрываю в своей душе, а ты не умеешь скрыть.
А если бы скрыла, — сгорела бы вмиг одежда твоей красоты,
В одежду отчаянья так же, как я, тотчас облеклась бы ты.
Пустыми надеждами тешить себя не стану я все равно,—
Уменье довольствоваться нуждой душе моей не дано.
Не жду, что страданья и беды решат меня стороной обойти,
Пока я твердостью дум своих не прегражу им пути.
Жестокие ночи кляни, — в нищету меня повергли они,
Прости же оставшегося ни с чем, безвинного не кляни.
Достойных искал я среди людей, а только овец нашел,
О щедрости слышал много речей, но только слова обрел.
Таких я увидел, что честью бедны, зато богатством горды,—
Не нажили столько чести они, сколько я нажил нужды.
Я дольше любого терпенья терпел, теперь устремляюсь в бой,
И знайте: сравниться с боем моим не сможет бой никакой.
Когда над равнинами в полный рост выпрямится война,
Коней заставлю я побледнеть — так будет она страшна.
Удары посыплются скоро на них, — и, криками оглушены,
Как в буйном безумии, задрожат и захрапят скакуны.
Жестоко изранены будут они, их участь невесела —
Как будто стебли горькой травы опутают их удила.
Сегодня любой обнаженный меч ждет, что ему передам
Державу, отданную во власть наемникам и рабам.
Считает излишними старец-меч пять ежедневных молитв:
Готов далее в храме он кровь пролить, жаждет великих битв.
В разгаре сраженья этим мечом вражеских львов бодни,
Не меч отпрянет от их брони — сами отпрянут они.
О молниях в небе заставит забыть молния в длани моей,
И долго пропитанной кровью земле не нужно будет дождей.
Черпни из источников смерти, душа, к цели себя направь,
А овцам и страусам — жалким сердцам — источники страха оставь.
И если в сраженье тебя не пущу с копьем, на лихом коне,
Отваги и славы братом родным больше не зваться мне!
В дни, когда голодно воронье и яростна жажда клинка,
Тому ли царить, кто лишь мяса кусок, что ждет топора мясника?
Такой, и во сне меня увидав, от страха уже не уснет,
А если за воду примет меня, охотней от жажды умрет.
Назавтра встретиться предстоит отточенному мечу
С владыками теми, чью ложь и спесь давно усмирить хочу.
Смирятся они, — тогда ни к чему карающий блеск мечей,
А не смирятся, — так мало мечей для этих упрямых шей!
«До каких я великих высот возношусь…» Перевод С. Северцева
До каких я великих высот возношусь
И кого из владык я теперь устрашусь,
Если всё на земле, если всё в небесах —
Все, что создал Аллах и не создал Аллах,
Для моих устремлений — ничтожней, бедней,
Чем любой волосок на макушке моей!
«Абу Абдалла Муаз…» Перевод С. Северцева
Абу Абдалла Муаз{193}, ведомо ли тебе,
Место какое займу в близящейся борьбе?
Ты о великом сказал, — ради него и борюсь,
Ради него в бою гибели не побоюсь.
Разве такой, как я, станет покорно страдать
Иль устрашится лицо смерти своей увидать?
Если б явиться ко мне Время само могло,
Меч раскроил бы мой в гневе его чело.
Нет, не достичь ночам темных желаний своих —
Жизни моей узду руки не схватят их.
Конница в тысячи глаз будет глядеть на меня,—
Ужасов ждите тогда во сне и при свете дня!
«Кинжалы огня с моего языка…» Перевод С. Северцева
Кинжалы огня с моего языка срываются, как с кремня,
Приходит ко мне от разума то, чему не уйти из меня,—
Море! Бездонна его глубина, бьет за волной волна,
Всю Землю и Семь Небес{194} затопи — не вычерпать их до дна.
Я сам приказываю себе, — и если пора придет
В жертву свое естество принести, такой, как я, принесет!
«Вкусней, чем за старым вином…» Перевод С. Северцева
Вкусней, чем за старым вином с друзьями сидеть ввечеру,
Милей, чем ударами чаш обмениваться на пиру,
Ударами пик и мечей обмениваться в бою
И первым на вражий строй скакать в боевом строю.
В сраженье окончить жизнь — желанная цель моя,
Исполнить желанье души — не в этом ли смысл бытия?
Но если охотно вино возьму я из чьих-то рук,
Так только из рук твоих, Абу Дабис — мой друг.
«Того, кто вам будет служить…» Перевод С. Северцева
Того, кто вам будет служить, о львы Фарадиса{195}, скажите,—
Не станете вы унижать, своим уваженьем почтите?
Вперед ли, назад ли гляжу — везде ожидаю несчастий:
Воров и врагов я боюсь, боюсь ваших гибельных пастей.
Не лучше ль в союз нам вступить, не сходны ли наши желанья,—
Ведь знаю немало путей, где можно сыскать пропитанье.
Со мной бы вам славно жилось: могли б вы питаться повсюду
И тем, что добудете вы, и тем, что для вас я добуду.
«О сердце, которое не веселит…» Перевод С. Северцева
О сердце, которое не веселит чаша с хмельною влагой,
О жизнь, что подобна скудным дарам, поданным жалким скрягой!
О век, о ничтожные люди его — презренные, мелкие души,
Хотя иногда и сопутствуют им огромные, важные туши.
Но знайте: я — не из их числа, хотя среди них и живу я,—
Не так ли земля среди грубых камней россыпь таит золотую.
На глупых кроликов погляди, которых зовут царями:
Раскрыты глаза у них широко, но спят они целыми днями.
А смерть разрушает тучную плоть — бренные их жилища,
Хоть нет у таких иного врага, кроме их жирной пищи.
Взгляните на конницу этих владык — сражения ей не знакомы,
Как будто копья ее бойцов сделаны из соломы.
Ты сам — свой единственный друг, а не тот, кого называешь другом,
Пускай он любезен, пускай на словах готов он к любым услугам.
Когда берутся закон блюсти без разума и без толку,
Не падает меч на шею того, кто меч точил втихомолку.
Подобное ищет подобья себе, — и, этот закон признавая,
Скажу я: таков этот мир, что ему подобней всего негодяи.
Когда бы возвысился тот, кто душой достиг высоты геройской,
Тогда опустилась бы мутная пыль, возвысилось храброе войско.
И если когда-нибудь пастырем стать достойному удалось бы,
Наверно, достойнее паствы самой пастыря не нашлось бы.
А прелесть красавиц — кто знает ее, тот скажет вместе со мною:
Свет, а внутри его темнота — вот что она такое!
Но если молодость нас пьянит, словно хмельная чаша,
А старость печали одни сулит, то жизнь — вот погибель наша!
Одним прощается скупость их, в других порицают скупость,
Одним прощается глупость их, в других обличают глупость.
Невольно сравниваю себя и тех, кто со мною рядом,—
Жить среди них такому, как я, становится сущим адом!
Что хочешь, увидишь на этой земле, — но после исканий бесплодных
Поймешь ты, чего не хватает ей: отважных и благородных.
Вот если бы отдали люди земле пороки и недостатки,
А взяли себе совершенство ее, — иные пришли бы порядки!
«Это одна бесконечная ночь…» Перевод С. Северцева
{196}Это одна бесконечная ночь или все шесть — в одной?
Уж не до самого ль Судного дня протянется мрак ночной?
Восходят созвездия в этой тьме — как толпы прекрасных жен
С открытыми лицами, в черных платках, в час горестных похорон.
О том помышляю, чтоб смело в спор со смертью вступил мой меч,
Чтоб на длинношеих лихих скакунах конницу в бой увлечь,
Чтоб сотни хаттыйских каленых пик решимость моя вела —
Селенья, кочевья в крови потопить, испепелить дотла!
Доколе в бездеятельности жить, а втайне пылать огнем,
Доколе медлить и медлить мне — день упускать за днем?
Доколь от высоких дел отвлекать лучшие силы души,
На рынке, где старый хлам продают, сбывать стихи за гроши?
Ведь юность, когда миновала она, обратно уже не позвать,
И ни один из прожитых дней не возвратится вспять.
Когда предстает перед взором моим безжалостная седина,
Кажется мне, что ее белизна, как сумрак ночной, черна.
Я знаю: когда до предельной черты дойду в возрастанье своем,
Начнет убывать возрастанье мое с каждым прожитым днем.
Но разве я дальше жить соглашусь, приблизясь к твоим шатрам,
Пока за великую щедрость, эмир, хвалу тебе не воздам?
Всевышний да благословит тот путь, который к тебе привел,
Хотя и для лучших верблюдов он был мучителен и тяжел.
Покамест я к Ибн Ибрагиму спешил, верблюдица стала тоща —
Еды не осталось в ее горбе и для одного клеща.
Давно ль между нами пустыня была, огромна и горяча,—
Мой путь сократил ее до ширины перевязи от меча.
Мой путь удалил удаленность твою, чья близость была далека,
И близость приблизил, и стала теперь сама удаленность близка.
Едва я прибыл к тебе, эмир, возвысил ты жизнь мою,—
Меня усадил на Семи Небесах, как будто в земном раю,
И прежде чем я поклонился тебе, улыбкой меня озарил,
И прежде чем отойти ко сну, богато меня одарил.
Причины не ведаю, кто и в чем тебя упрекнуть бы мог,—
В своем благородстве ты сам для всех — словно живой упрек.
Блистая щедростью, тем, кто щедр, гордиться ты не даешь,—
Ведь после тебя уже никого щедрым не назовешь.
Как будто щедрость твоя — ислам, и чтоб правоверным быть,
Любою ценой не желаешь ты закон его преступить.
А как в сражении ты силен! Мгновенье — и враг сметен,
Как будто души людей — глаза, твой меч — их последний сон.
А наконечники копий своих из тяжких дум ты сковал —
Прямо в сердца проникают они, сражая врагов наповал.
В тот день своих боевых коней помчал в наступленье ты —
От скачки распутались гривы их, запутались их хвосты.
И с ними в Латтакью ты гибель принес тем, кто тебя хулил,
Кто помыслы Ада{197} против тебя в сердце своем копил.
Два моря встретились в этот день — грозный из грозных дней:
С запада — море кипящих волн, с востока — море коней.
Реяли стяги на буйном ветру в руках твоих смельчаков,
И бушевали, слепили глаза волны стальных клинков.
Как диких верблюдов строптивый нрав — упрямство вражьих сердец,
Но самый лучший погонщик — меч, и ты их смирил наконец.
Сорвал ты одежды безумья с них, пресечь заблужденья смог,
В одежду покорности вражий стаи ты твердой рукой облек.
Но не добровольно решили они главенство свое уступить,
И не из любви поспешили они любовь к тебе изъявить,
И, не тщеславье свое обуздав, склонились они, сдались,
Не ради счастья тебе служить в покорности поклялись,—
Лишь страх пред тобою остановил их дерзостные мечи,
Он бурею стал — и рассеял их, как облако саранчи.
Раньше, чем смерть сокрушила врагов, ты страхом их сокрушил,
И раньше, чем их Воскресенье пришло, ты их воскресить решил.
Ты в ножны вложил беспощадный меч, расправы не учинил,
Смирились они, а не то бы врагов ты стер, как следы чернил.
Ведь самый грозный, но быстрый гнев, как бы он ни был силен
Будет наследственной добротой и мудростью побежден.
Но пусть не сумеют тебя обольстить их дружеские языки,—
Послушные вражеским, злым сердцам, от правды они далеки
Будь словно смерть, — не станет она плачущего щадить,
Когда к человеку решит прийти жажду свою утолить.
Рубец не срастется, если под ним здоровой основы нет,
И рана откроется все равно, пусть через много лет.
Ведь даже из самых твердых камней недолго воде потечь,
И даже из самых холодных кремней нетрудно огонь извлечь.
Трусливого недруга сон ночной навряд ли будет глубок,
Если охапку колючих ветвей подстелешь ему под бок.
Во сне он увидит в почках своих копья твоего острие,
И как не страшиться ему наяву увидеть твое копье!
Спросил ты, Абу-ль-Хусейн: а зачем я славил владык других?
Ведь даже припасов я не получил, когда уезжал от них.
Они-то думали, что про них хвалебную речь веду,
Но знай: воспевая достоинства их, тебя я имел в виду.
Твой стан послезавтра покину я — скитальца дорога ждет,
Но сердце мое от шатра твоего теперь далеко не уйдет.
Останусь влюбленным верным твоим, скитаясь в чужой дали,
Останусь счастливым гостем твоим в любом из краев земли.
«О помыслах великих душ…» Перевод С. Северцева
О помыслах великих душ могу ли не скорбеть я?
Последнее, что помнит их, — ушедшие столетья.
Ведь люди при царях живут, — пока стоят у власти
Лишь инородцы да рабы, не знать арабам счастья.
Ни добродетелей у них, ни чести, ни познаний,
Ни верности, ни доброты, ни твердых обещаний.
В любом краю, где ни шагну, одно и то же встречу:
Везде пасет презренный раб отару человечью.
Давно ль о край его ногтей писец точил бы перья,
А ныне он на лучший шелк глядит с высокомерьем.
Я на завистников смотрю, как на ничтожных тварей,
Но признаю, что я для них подобен грозной каре.
Как не завидовать тому, кто высится горою
Над человеческой толпой, над каждой головою!
Вернейший из его друзей пред ним благоговеет,
Храбрейший, видя меч его, сражаться не посмеет.
Пускай завистливой молвы ничем не остановишь,
Я — человек, и честь моя — дороже всех сокровищ.
Богатство для скупых — беда. Не зрит их разум слабый!
Таких скорбей и нищета в их дом не принесла бы!
Ведь не богатство служит им, они богатству служат,
И время рану исцелит, а подлость — обнаружит.
«Гордиться по праву…» Перевод С. Северцева
Гордиться по праву может лишь тот, кого не сгибает гнет,
Или же тот, кто, не ведая сна, с гнетом борьбу ведет.
То не решимость, если в душе нет силы на смелый шаг,
То не раздумье, если ему путь преграждает мрак.
Жить в униженье, покорно глядеть в лицо источнику зла —
Вот пища, что изнуряет дух и иссушает тела.
Низок смирившийся с этой судьбой, подл, кто завидует ей,
В жизни бывает такая жизнь, что смерти любой страшней.
Благоразумием прикрывать бессилье и страх души —
Такие уловки только для тех, в ком чести нет, хороши.
Низких людей и унизить легко, сердцам их неведом стыд,—
Мертвому телу уже ничто боли не причинит.
Нет, не под силу нынешним дням стать не под силу мне,
Каждый меня благородным сочтет, кто сам благороден вполне.
Так величава моя душа, что я — под ее стопой,
Подняться же до моей стопы не в силах весь род людской.
Стану ли, друг, наслаждаться я на груде горящих углей,
Стану ли, друг, домогаться я цепей для души моей —
Вместо того, чтобы блеском мечей рассеять угрюмый мрак,
Воспламенить и Хиджаз и Неджд, всю Сирию, весь Ирак!
«То воля Рахмана…» Перевод С. Северцева
То воля Рахмана{198}: владеть и господствовать буду,
Но где ни явлюсь я — завистников слышу повсюду.
Как смеют себя курейшитами{199} звать святотатцы —
Могли б и евреями и христианами зваться!
И как они только из пыли ничтожной возникли?
Как власти добились и цели далекой достигли?
Когда же появится тот, кто рассудит по чести:
Насытит мякиною их, отберет их поместья,
Кто в грозном огне их рога переплавит в оковы
И ноги скует, — чтоб уже не возвысились снова?
Вы лжете! Давно ль вы Аббасу{200} потомками стали?
Ведь помнится, люди еще обезьян не рождали.
Ужель никому не поверим — ни бесам, ни людям,
А верить лишь вашим обманам и россказням будем?
Мой слух оскорблен Абу-ль-Фадля постыдною речью —
Презренному недругу этой касыдой отвечу.
Хотя он ни гнева, ни даже насмешки не стоит,
Но вижу, что разум ничтожного не успокоит.
«Кто всех превосходит…» Перевод С. Северцева
{201}Кто всех превосходит, в того наш век безжалостно мечет стрелы,
А мыслей лишенный — лишен и забот, — такие останутся целы.
Увы, мы в такое время живем, что всех уравнять бы хотело,
И пагубней это для гордой души, чем злейший недуг для тела.
Я в нынешней жалкой породе людей горько разочарован,—
Не спрашивай «кто?», узнавая о них: ведь разум им не дарован.
Нет края, куда я приехать бы мог, опасности не подвергаясь:
Повсюду от злобы кипят сердца, везде на вражду натыкаюсь.
Сегодня любой из властителей их, каких я немало видел,
Достойней удара по голове, чем богомерзкий идол.
Но многое я соглашусь простить, за что их ругал, а в придачу
Себя принужден я ругать за то, что время на ругань трачу.
Ведь тонкие знания для дурака, погрязшего в чревоугодье,
Как для безголового ишака — узорчатые поводья.
Бывал я и с теми, что к скудной земле пригвождены нуждою,—
Обуты они только в липкую грязь, одеты в тряпье гнилое.
Бывал с разорителями пустынь{202}, — они голодны и нищи,
Готовы и яйца ящериц есть, считая их лакомой пищей.
Украдкою выведать, кто я такой, немало людей хотело,
Но правду скрывал я, чтоб мимо меня стрела подозренья летела.
Не раз и глупцом притворялся я, в беседу с глупцами вступая,
А иначе мне бы наградой была лишь злоба да брань тупая.
Коверкал слова, чтоб они не смогли мой род опознать при встрече,
Хоть было и невмоготу сносить их грубое просторечье.
Любую невзгоду способны смягчить терпенье и неустрашимость,
А грубых поступков следы стереть сумеет моя решимость.
Спасется, кто смело навстречу идет опасностям и потерям,
Погибнет, кто силы свои связал трусостью и маловерьем.
Богатство одежды не тешит тех, чью душу поработили,—
Красивому савану рад ли мертвец в темной своей могиле?
Как велико и прекрасно то, чего домогаюсь страстно! —
Судьбу за медлительность я кляну — ждать не хочу напрасно.
Хоть кое-кого и восславил я, хоть я и спокоен с виду,
Но время придет — я еще им сложу из грозных коней касыду.
Разящие рифмы в пыли загремят, обученные сражаться,—
От этих стихов головам врагов на шеях не удержаться!
B бою я укрытий не признаю — бросаюсь в гущу сраженья,
Меня к примирению не склонят обманы и обольщенья.
Свой лагерь в пустыне расположу, под зноем степных полудней,
И будет усобица все страшней, а ярость — все безрассудней.
По предков святые заветы живут! И счастлив я, не лицемеря,
Судье аль-Хасиби хвалу воздать за верность Закону и Вере.
Храня добродетели, над страной простерлась его опека,
Отец для сирот он, источник добра для каждого человека.
Премудрый судья, если спутать в одно два самых неясных дела,
Способен — как воду и молоко — их разделить умело.
Как юноша, свеж он, заря далека его многодумной ночи,
Он долго дремать не дает глазам, разврата и знать не хочет.
Он пьет, чтобы жажду слегка утолить, но чтоб не разбухло тело,
А ест, чтобы силы в нем поддержать, но лишь бы оно не толстело.
Открыто ли, тайно ли — правду одну искренне говорящий,
И даже порой ради правды святой себе самому вредящий,
Смелей, чем любые из древних судей, свой приговор выносящий,
Глупца защищающий от хитреца — таков ты, судья настоящий!
Деянья твои — родословье твое. Когда б о прославленном предке
Ты нам не сказал: «Аль-Хасиби — мой дед», — узнали б мы корень по ветке.
Ты — туча огромная, льющая дождь{203}, и сын ты огромной тучи,
И внук ты, и правнук огромных туч, — таков этот род могучий.
Поводья великих наук держа, начала времен с концами
Впервые связали твои отцы, — гордись же такими отцами!
Как будто задолго они родились до дня своего рожденья,
А их разуменье раньше пришло, чем может прийти разуменье.
Когда ж горделиво против врагов шли они в час тревожный,
Деяния добрые были для них крепких щитов надежней!
О наш аль-Хасиби, при виде тебя и женщины и мужчины
Сияют от радости и на лбах разглаживаются морщины.
А щедрость твоя! Словно весь народ, что жил и бедно и угрюмо,
Из рук твоих черпает ныне дары от Йемена и до Рума.
В тебе все достоинства тучи есть — нет лишь потоков грязных,
В тебе все могущества моря есть — нет лишь ветров ненастных.
В тебе и величье и сила льва — нет только мерзкой злобы,
В тебе не найдем мы только того, что запятнать могло бы.
С тех пор как вступил в Антиохию ты, мир и покой воцарились,
Как будто, забыв о жестокой вражде, кровинки помирились.
С тех пор как по этим холмам ты прошел, не видно на склонах растений,
Так часто стал благодарный люд, молясь, преклонять колени.
Товары исчезли, базары пусты, не стало былых ремесел,—
Твоими дарами кормясь, народ торговлю и труд забросил.
Но щедрость твоя — это щедрость тех, кто жизни превратность знает,
Воздержанность тех, кто земную юдоль отчизной своей не считает.
Не помнит такого величия мир, не помнит подобных деяний,
Да и красноречья такого нет средь всех людских дарований.
Так шествуй и правь! Почитают тебя! Ты словно гора — громаден.
Аллах да воздаст по заслугам тебе, блистающий духом Хадын{204}!
«Я с конницей вражьей…» Перевод С. Северцева
Я с конницей вражьей, чей вождь — Судьба, упорно веду сраженье
Один, — но нет, я не так сказал: со мною — мое терпенье.
Я грозен и смел, но бесстрашней меня моя же неуязвимость,
Упрямей и тверже день ото дня сокрытая в ней решимость.
С невзгодами так расправляюсь я, что, брошены мной во прахе,
Они вопрошают: то смерть умерла иль страх отступает в страхе?
Бурливым потоком бросаюсь в бой, как будто две жизни имею
Иль знаю, что жизнь у меня одна, но люто враждую с нею.
Душе своей развернуться дай, пока еще не улетела,—
Недолго соседями в доме одном будут душа и тело.
Не думай, что слава — лишь мех с вином, веселый пир да певичка,
Слава — клинок, невиданный бой, с врагом смертельная стычка.
Слава — властителям шеи рубить, чтобы тяжелой тучей
Вставала до неба черпая пыль за ратью твоей могучей,
Чтоб в мире оставил ты гул такой, катящийся над степями,
Как если бы уши зажал человек обеими пятернями.
Когда превосходства не бережешь, дары у ничтожных просить,
Тогда превосходство тому отдаешь, кому благодарность приносишь.
А тот, что годами копил и копил, стараясь собрать состоянье,
Подобен тому, кто себе самому всю жизнь давал подаянье.
Для всех притеснителей быстрый, лихой копь у меня найдется —
С горящей ненавистью в груди витязь на нем несется.
И там, где вина не захочется им, без жалости и прощенья
Он чашу им даст на конце копья — смертельную чашу мщенья.
О, сколько гор, перейденных мной, горою меня признали,
И сколько вод, переплытых мной, морем меня назвали.
И сколько бескрайних равнин я прошел, — перечислять не буду,—
Где были холмы подобны седлу, а голая степь — верблюду.
И чудилось часто, что с нами в путь отправились степи и горы,
Что мы на поверхности шара — и вдаль уходят от нас просторы.
О, сколько раз мы палящий день с ночью соединяли:
В багряных одеждах — закатных лучах были степные дали.
И сколько раз мы густую ночь с рассветом соединяли:
В зеленых одеждах был край земли — в утреннем покрывале.
«Подобен сверканью моей души…» Перевод С. Северцева
Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он — радость для смельчака.
Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,
И как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки.
А если захочешь ты распознать его настоящий цвет,
Волна переливов обманет глаза, как будто смеясь в ответ.
Он тонок и длинен, изящен и строг, он — гордость моих очей,
Он светится радугой, он блестит, струящийся, как ручей,
В воде закалились его края и стали алмазно тверды,
Но стойкой была середина меча — воздерживалась от воды.
Ремень, что его с той поры носил, истерся — пора чинить,
Но древний клинок сумел и в боях молодость сохранить.
Так быстро он рубит, что не запятнать его закаленную гладь,
Как не запятнать и чести того, кто станет его обнажать.
О ты, вкруг меня разгоняющий тьму, опора моя в бою,
Услада моя, мой весенний сад, — тебе я хвалу пою.
О йеменский мой, ты так дорог мне, что, если б я только мог,
Надежными ножнами для тебя сделал бы свой зрачок.
Мой яростный блеск, когда ты блестишь, это — мои дела,
Мой радостный звон, когда ты звенишь, это — моя хвала.
Ношу я тебя не затем, чтобы всех слепила твоя краса,
Ношу наготове тебя, чтоб рубить шеи и пояса.
Живой, я живые тела крушу, стальной, ты крушишь металл,
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал.
Когда после скачки молнией ты в Неджде начнешь блистать,
Народы живительного дождя будут в Хиджазе ждать.
«Когда ты рискуешь жизнью своей…» Перевод С. Северцева
Когда ты рискуешь жизнью своей ради желанной чести,
Ничем довольствоваться не смей, что было бы ниже созвездий.
Пойми: ради малого ты умрешь иль ради великого дела —
Рано иль поздно смерть все равно пожрет это бренное тело.
Будут рыдать о моем коне, о резвом моем жеребенке
Мечи боевые, чьи слезы — кровь, а лезвия злы и тонки.
Окрепли в пламени их клинки из заповедной стали:
Как девы — в роскоши, так в огне красой они заблистали.
Они безупречными вышли из рук своих мастеров неустанных,
А руки умельцев, что создали их, были в порезах, в ранах.
Считает трус, что бессилье его и есть настоящий разум,
Но эту уловку бесчестной души честный увидит сразу.
Прекрасно бесстрашие, если им могучий боец украшен,
Но ничего прекраснее нет, если мудрец бесстрашен.
Много таких, кто на здравую речь яростно возражает:
Непониманье — их вечный недуг — любую мысль искажает.
Однако разумный, в чьи уши войдут ошибочные сужденья,
В меру ума и познании своих увидит их заблужденья.
«Оплакиваем мертвых мы…» Перевод С. Северцева
{205}Оплакиваем мертвых мы: нет, не по доброй воле
Мир покидает человек, не ради лучшей доли.
И если поразмыслишь ты над своевольем рока,
Поймешь, что вид убийства — смерть, но более жестока.
Любовь красавицы сулит одно лишь униженье,
Дитя родное нам дает всего лишь утешенье.
Отцовства сладость я познал и сам во дни былые,—
И все, что говорю, поверь, постиг я не впервые.
Не смогут времена вместить все, что про них я знаю,
И чтобы это записать, жизнь коротка земная.
Да, слишком много у судьбы и лжи и вероломства,
Чтоб ей надежды доверять и чтоб желать потомства.
«В начале касыды…» Перевод С. Северцева
{206}В начале касыды любовный запев считают у нас законом,—
Ужели любой, кто слагает стихи, обязан быть и влюбленным?
Но Иби Абдаллах достоин любви, ему — мое восхищенье,
Для всех славословий имя его — начало и завершенье.
Красавиц поклонником был и я, пока не узрел величья,—
И как они мелки в сравненье с ним, впервые сумел постичь я.
Судьбу встречает лицом к лицу прославленный Меч Державы{207},
Бесстрашно пронзает ей грудь клинком и рубит ее суставы.
Даже над солнцем в зените власть имеет его повеленье,
И даже восхода полной луны прекрасней его появленье.
Враги, словно ставленники его, в своих владениях правят:
Захочет — позволит он ими владеть, захочет — отдать заставит.
Нет у него посланий иных, кроме клинков закаленных,
И нет у него посланцев иных, кроме отрядов конных.
Любой, чья рука способна рубить, его снисхожденья просит,
Любой, чьи уста способны хвалить, ему благодарность приносит.
Без имени этого нет речей ни с одного минбара,
Как нет и дирхема ни одного и ни одного динара.
Он рубит и там, где стало тесно между двумя клинками,
Он видит и там, где стало темно между двумя смельчаками.
С летучими звездами в быстроте поспорят в часы ночные
Бегучие звезды — его скакуны, чалые и вороные.
Они ступают по трупам тех, кого не носили в седлах:
По грудам врагов, по обломкам пик — остаткам от полчищ подлых.
С волками бегут по степям они, плывут по волнам с китами,
С газелями прячутся в рощах они, парят над горой с орлами.
Если иной, чтоб украсить себя, копье покупает на рынке,
То наш властелин — чтоб его сломать о грудь коня в поединке.
Звездой благородства отмечен лоб, высокий и величавый,
Всегда: в дни мира, войны, молитв, раздумья, веселья, славы.
Предскажет удачу ему и тот, кто не изучал звездочетства,
И даже не любящие его признают за ним превосходство.
Спасти от времени и судьбы лишь ты, наш защитник, в силах,
И думаю, станут Ад и Джурхум{208} просить, чтобы ты воскресил их.
Будь проклят этот ненастный вихрь, — с чего он сюда явился?
Будь славен доблестный наш поток, куда бы он ни стремился!
Решив помешать нам, сперва о тебе спросили бы ливень и ветер,—
Тогда бы достойно о нашем вожде зазубренный меч ответил.
Не ведало облако, встретив тебя буйным дождем и ветром,
Что встретилось с облаком славным оно — более грозным и щедрым.
Дождем оросило одежду оно, что кровью не раз орошалась,
Коснулось лица, которого сталь в сраженьях не раз касалась.
Оно от Алеппо шло за тобой, как ученик послушный,
Чтоб истинной щедрости у тебя учиться, великодушный.
Могилу, что с конницей ты посетил, в тот день и оно посетило,
И горе, что ты глубоко ощутил, в тот день и его охватило.
Ты войско выстроить приказал, — и вот оно ждет, волнуясь,
На всадника с прядью из-под чалмы — вождя своего — любуясь.
Как волны морские, бурлят ряды пеших бойцов, а сзади
Вздымается конный сплоченный строй, подобно горной громаде.
А двинется войско — волнистую степь оно под собой расправит,
Холмы, разбросанные вокруг, стройной грядой расставит.
И каждый шрам на лбу храбреца подобен отчетливой строчке:
Мечом начертаны письмена, копьем поставлены точки.
Простер из-под мощной кольчуги лев две лапы — руки громадных,
А из-под шлема — как две змеи — сверканье глаз беспощадных.
Прекрасны у конницы скакуны, но и остальное не хуже:
Знамена и кличи, доспехи ее, отравленное оружье.
Так в долгих боях обучилась она, что, перед строем стоя,
Подашь ей знак с одного крыла — поймет и крыло другое.
Как будто наитие ведомо ей: не нужно ни зова, ни крика —
Мгновенно, без слов понимает она, что хочет ее владыка.
Мы справа оставили Майафаркин{209}, услышав твое приказанье,
Но можно подумать: щадим его из жалости и состраданья.
А если б решили на город налечь громадой своей тяжеленной,
Узналось бы сразу, с какой стороны слабей городские стены.
Что ни наездник — поджарый храбрец верхом на поджарой кобыле,
Такой поджарой, как будто ее лишь кровью да мясом кормили.
Приказано всем перед боем надеть одежду из крепкой стали:
Не только воины — каждый конь в кольчуге и покрывале.
И это — не потому, что жизнь отдать они копьям скупятся,
А лишь потому, что от всякого зла разумней злом защищаться.
Напрасно считают, что одного с тобою происхожденья
Клинки индийских белых мечей, — нет большего заблужденья!
Когда произносим мы имя твое — надежное из надежных —
Чудится нам, что от гордых чувств клинки улыбаются в ножнах.
Мечом ты зовешься, — а кто из владык готов называться предметом,
Чье место — ниже его главы? Ты горд, но и мудр при этом.
Всю жизнь — любое мгновенье ее — ты против врагов обращаешь,
По воле своей наделяешь ты, по воле своей — лишаешь.
И если страшимся мы смерть принять, то лишь от твоей погони,
И если гордимся мы дар принять, то лишь из твоей ладони.
«Благоуханье этих дней…» Перевод С. Северцева
{210}Благоуханье этих дней теперь надолго сохранится,
Пожар, пожравший стан врагов, для нас в куренья превратится.
Пусть будут девственницы спать отныне мирно и спокойно,
И пусть паломников в пути не ждут ни грабежи, ни войны.
И где бы ни были враги, пусть помнят о твоем величье,—
В твоих когтях, о грозный лев, им стать беспомощною дичью.
Я видел в час, когда войска построились перед сраженьем:
Ты был и без меча в руке спокойной силы воплощеньем.
Лик моря издали узнать нетрудно даже в час покоя,—
Так как же не узнать его, когда бушует вал прибоя!
В краю, который так велик, что и на лучшем иноходце
Его не пробуй пересечь — промежность о седло порвется,
Ты хочешь румского царя лишить и жизни и державы,
А будут защищать его одни мужицкие оравы.
Ужель смертельною борьбой нас испугают христиане?
Мы — звезды небывалых битв, они — лишь тусклое мерцанье.
Средь нас — непобедимый Меч! Не зря он носит это имя:
В походе он упорней всех, а в битве — всех неукротимей.
Мы просим небеса сберечь его от сглаза и раненья,
Слились в один немолчный гул людей бесчисленных моленья.
Услышав грозный приговор, что вынесли мечи и пики,
Решится ль выйти румский царь навстречу нашему владыке?
«Увы, потеплело сердце твое…» Перевод С. Северцева
{213}Увы, потеплело сердце твое ко многим сердцам холодным,
К тем, чей недуг — в здоровье моем, к завистливым, неблагородным.
Зачем же любовь и тоску скрывать, что тело мое иссушают,
Если к владыке свою любовь народы провозглашают?
Мы этой любовью объединены и ждем, как благодеянья,
Что каждый в меру своей любви получит и воздаянье.
К тебе я прибыл, когда мечи индийские были в ножнах,
Взирал на тебя, когда их клинки купались в крови безбожных.
Я видел: ты — лучшее на земле из божьих творений славных,
А лучшее в лучшем — твой мудрый дух, себе не имеющий равных.
Ты в бой устремился, и бегство врагов победу твою означало,
Но все-таки тем, что враги ушли, ты был огорчен сначала.
Удары твои заменил им страх пред силой твоей геройской,
И то, что над ними страх совершил, не совершит и войско.
Но ты почитаешь долгом своим то, что другим не под силу:
Не скрыться врагам ни в степи, ни в горах, — ты им уготовил могилу.
Ужель всякий раз, налетев на врагов, в постыдный бег обратив их,
Твой дух устремляет в погоню тебя за полчищем нечестивых?
Тебе — наносить пораженье врагам в каждой смертельной схватке,
А им — принимать жестокий позор, бежать от тебя в беспорядке.
Но ведь для тебя в походе любом победа сладка тогда лишь,
Когда остриями своих клинков ты кудри врагов ужалишь.
О справедливейший, — кроме меня, ко всем на земле справедливый! —
Наш спор — о тебе: ты ответчик в нем, но и судья правдивый.
На нас прозорливый взгляд устремить прошу своего эмира,
Чтоб ложь от истины отличить, зловредный отек — от жира.
Зачем человеку даны глаза? Не сам ли себя он обманет,
Если и к свету и к темноте он безучастным станет?
Я — тот, чьи творенья стали видны даже лишенным зренья,
Тот, чьи слова пробудили слух даже в глухих от рожденья.
Легко чудеса этих слов я творю, о них ничуть не заботясь,
А люди хватают их, спорят, бегут, за каждой строкой охотясь.
Невежда в неведенье будет сперва, усмешке моей поверя,
Пока не почувствует лапы и пасть неумолимого зверя.
Увидев львиных клыков оскал, не думай, что видишь улыбку,
Иначе поплатишься головой за гибельную ошибку.
Решившие жизнь у меня отнять скорее погибнут сами,—
На верном коне в безопасности я, словно в священном храме.
Любых врагов на таком коне смогу всегда побороть я,
Он сделает все, что прикажут ему мои стремена и поводья.
Передние ноги его в прыжке на ногу одну похожи,
И задние ноги его на лету в одну сливаются тоже.
Не раз я скакал с боевым мечом между двумя войсками —
Там, где сшибаются волны смертей, где ярость звенит клинками.
Не раз я скитался с диким зверьем в степях, где не встретишь селенья,
А взгорья и скалы, дивясь на меня, молчали от изумленья.
Ночь, конница, степи знают меня, знают и честь и отвага,
Знают удары копья и меча, и мой калам, и бумага.
О тот, с кем разлука так тяжела! Все, что дано нам судьбою,
Сразу утратит и цену и смысл после разлуки с тобою.
Никто бы, наверное, больше, чем мы, не был тобой почитаем,
Когда бы ты те же чувства питал, какие к тебе питаем!
Но если завистников злобный крик стал для тебя приятным,
Раны, которые ты нанесешь, боли не причинят нам.
Меж нами — о, если б ты это ценил! — знакомства давние узы,
А ведь знакомство для тех, кто мудр, прочней, чем иные союзы.
Напрасно пороки во мне искать — старания эти излишни,
Того, что творишь ты, не смогут принять ни честь твоя, ни всевышний.
Любой порок и любой обман чужды моему благородству,
Я чист, как Плеяды, — а звезд не достичь ни старости, ни уродству.
О, если бы туча, что жизнь мою лишь молниями поражает,
На тех эти молнии перенесла, кого дождем орошает!
Вижу: такая далекая даль к себе мою душу тянет,
Что, много дней добираясь к ней, и лучший верблюд устанет.
Когда мы оставим справа Думейр и выедем на равнину,
Быть может, и затоскует тот, кого навсегда покину.
Когда оставляешь тех, кто бы мог предотвратить расставанье,
Словно не ты уезжаешь от них, а их отправляешь в скитанье.
О, нет страшнее такой страны, где друга душа не знает,
И нет страшнее такой казны, что чистую честь пятнает.
А самое гнусное, что я обрел, что хуже любого урона,—
Добыча, которую вместе с орлом будет клевать и ворона.
Как может стихи слагать этот сброд, что возле тебя пасется!
Глядишь — не поймешь, кто такие они: арабы иль инородцы?
Пусть горьким покажется мой укор, но это любовь упрекает,
Блестит жемчугами его узор, но это слова сверкают.
«Нам смолоду радости жизни даны…» Перевод С. Северцева
Нам смолоду радости жизни даны, и сладость их слишком желанна,
Не могут наскучить они — и всегда кончаются слишком нежданно.
А если согбенный старик и кряхтит, и жалуется то и дело,
Поверьте, не жизнь надоела ему, а дряхлость уже надоела.
Здоровье и юность — орудья твои, но недолговечно их чудо,—
Когда же от нас отвернутся они, нам сразу приходится худо.
Расщедрится жизнь, а потом отберет, что было подарено ею,—
О, если б подобная щедрость ее была хоть немного скупее!
О, если бы не были слезы и скорбь ушедшего счастья наследьем,
А друг, уходя, не бросал бы тебя с отчаяньем — другом последним!
Возлюбленна жизнь, но и лжива и зла: напрасны любые моленья —
Не сдержит своих обещаний она и не завершит единенья.
Пусть все наши горести — из-за нее, но с нею страшимся разлуки:
Уходит она, лишь с трудом разорвав ее обхватившие руки.
Подобна лукавой красавице жизнь, ее вероломна природа,
Не зря ей, наверное, имя дано, как женщине, — женского рода.
«Тебе потому лишь являю довольство…» Перевод С. Северцева
Тебе потому лишь являю довольство, что скрытое скрыть хочу,
А как я тобой и собой недоволен — об этом пока молчу.
Такая мерзость, бесчестье, лживость впервые предстали мне!
Живым человеком ты мне явился иль чудишься в страшном сне?
Решил ты при виде моих улыбок, что полон я новых надежд,
А я лишь смеюсь над былой надеждой, презреннейший из невежд.
В своем тупоумье ты даже не знаешь, и сам-то на что похож:
Не знаешь, по-прежнему ли ты черен иль вправду стал белокож.
Забавно мне стало, когда я поближе ступни твои разглядел:
Увидел я вместо ступней копыта, когда ты босой сидел.
Раздвоены пятки твои — похожи на пару ослиных копыт,
К тому же сверкаешь ты весь — как маслом, потом густым покрыт.
Когда б не толпа твоих приближенных, я вместо пустых похвал
Стихами, кипящими скрытой насмешкой, хвалу бы тебе воздал.
Напрасно ты радовался, безмозглый, что славлю тебя при всех,—
Ведь даже в прочитанных мною строчках таился жестокий смех.
В то время, как ты никакого блага от слов моих не имел,
Я рад, что хоть губы твои верблюжьи как следует рассмотрел.
Таких, как ты, из краев заморских надо бы доставлять,
Чтоб успокаивать плачущих женщин — диковиной забавлять!
«В чем утешенье мне найти?..» Перевод С. Северцева
В чем утешенье мне найти? Ведь нет ни родины, ни дома,
Ни чаши на пиру друзей, с кем много лет душа знакома.
От века нашего хочу, — пока мой век еще не прожит,—
Чтоб он туда меня вознес, куда подняться сам не сможет.
Не будь рабом пустых забот, встречай судьбу легко и смело,
Пока с душой в пути земном еще не разлучилось тело.
Ведь радость не продлит того, чем счастлив ты бывал когда-то,
Как и печаль не воскресит поры, ушедшей без возврата.
Незнанье жизни — вот беда для всех, кто смолоду полюбит:
Их, не познавших этот мир, своею ложью он погубит.
От слез тускнеют их глаза, но в заблуждении великом
Они за мерзостью бегут, прельстясь ее лукавым ликом.
Ступайте, убирайтесь прочь — не на коне, так на верблюде,
Разлука с вами — мой приют, меня измучившие люди.
Я в ваших паланкинах был, — вы мне тогда не знали цену,
Когда же от тоски умру, найти не сможете замену.
О тот, чей слух был поражен моей безвременной кончиной,—
Конечно, каждый должен стать известья скорбного причиной,
Уже не раз я был убит, — так разгласить молва спешила,—
Но вновь вставал я, и куда девались саван и могила?
Пусть этих мнимых похорон бывали даже очевидцы,—
Еще меня не схоронив, пришлось им с жизнью распроститься.
Нет, не всего достичь дано, чего желаем безрассудно:
Как часто ветр приносит то, чего совсем не хочет судно!
Увидел я, что близ тебя честнейший честь свою погубит:
Недобры пастбища твои — хорошим молоко не будет.
Тому, кого приблизил ты, одна награда — злость и скука,
Тому, кто полюбил тебя, один удел — беда и мука.
Ты гневаешься на того, кто твой подарок принимает,
И он то похвалам твоим, то оскорблениям внимает, к
Разлука разделила нас пустыней дикой и безлюдной,
Где лгут и зрение и слух, где лучшим из верблюдов трудно.
Шагая через эту степь, их ноги будут в кровь избиты,
И взмолятся суставы их, чтоб зря не мучились копыта.
Благоразумье признаю, когда в нем гордость и правдивость,
Благоразумья не хочу, когда в нем прячется трусливость.
Не стану жить на деньги тех, чья длань скупа и неопрятна,
Не стану наслаждаться тем, что на душе оставит пятна.
Сперва ночами я не спал — так тосковал с тобой в разлуке,
Потом спокойней, тверже стал, — вернулся сон, утихли муки.
Но если от любви к тебе едва я не погиб сначала,
Решенье край покинуть твой мою решимость означало.
Уж все попоны конь сносил с тех пор, как нас Фустат приветил,
Не раз и сбрую он сменил с тех пор, как нас владыка встретил.
Великодушный Абу-ль-Миск, кому мы честно присягнули
И в чьих щедротах весь Йемен и Красный Мудар потонули,—
Хоть он сдержал еще не все из благосклонных обещаний,
Но не сдержать моих надежд, моих упорных увещаний.
Он — верный, ясно видит он, что не умею лицемерить,
И все же преданность мою желает до конца проверить.
«Шагали люди и до нас дорогой…» Перевод С. Северцева
Шагали люди и до нас дорогой, что зовется — Время,
Лежало тяжко и на них судьбы мучительное бремя.
Они вкушали горечь дней — тревоги, бедствия, печали,
Хотя и радости порой кого-нибудь да посещали.
Какое бы из светлых дел ночь совершить ни захотела,
Хоть чем-нибудь да омрачит она свое благое дело.
Таков наш век, — однако нам, как видно, бедствий не хватает,
И произволу злой судьбы кто как умеет — помогает.
Едва заметим мы, что жизнь взрастила деревце прямое,
К нему сейчас же поспешим приладить острие стальное.
Но ведь желанья наших душ настолько мелки, преходящи,
Что нужно ль, споря из-за них, друг друга истреблять все чаще?
И все ж гордиться мы должны, встречая смерть в пылу сраженья:
Хоть гибель и не весела, зато избегнешь униженья.
Вот если б все до одного бессмертными живые стали,
Того, кто осторожней всех, мы самым смелым бы считали.
Но ведь от смерти не уйти и хватит всем камней могильных,
А потому трусливым быть — удел лишь подлых да бессильных.
Душа не дрогнет перед тем, что ей не раз уже встречалось,—
Пугает душу только то, чего ни разу не случалось.
«Напрасно того упрекаете вы…» Перевод С. Северцева
Напрасно того упрекаете вы, кто выше любого упрека:
Его деянья — превыше слов, а слово — верней зарока.
Оставьте в пустыне меня одного на месте былого привала,
Оставьте в полдень мое лицо без всякого покрывала,—
Любая невзгода мне принесет не муку — отдохновенье,
В пути повстречать людское жилье — вот для меня мученье!
Верблюдиц измученных скорбный взгляд — мой взгляд, когда сомневаюсь,
Верблюдиц израненных тихий плач — мой плач, когда я терзаюсь.
Я сам источник иду искать, и мне провожатых не надо —
Достаточно молний мне в облаках да прозорливого взгляда.
Мой бог и мой меч — защита моя, что крепче любого гранита,
Если единственному нужна какая-нибудь защита.
Когда же запас мой дорожный скудней, чем мозг у страуса, станет,
То и тогда под кровлю скупца никто меня не заманит.
Но если привязанность между людьми стала привычной ложью,
Тогда на улыбку и я готов улыбкой ответить тоже.
Стал сомневаться я даже в тех, с кем дружен был эти годы:
Ведь даже лучшие — тоже часть подлой людской породы.
Разумные ценят отвагу и честь, искренность и безгрешность,
Невежды ценят не суть людей, а лишь показную внешность.
Я даже родного брата готов тварью считать негодной,
Если души не увижу в нем отважной и благородной.
Величием предков горжусь и я, своим благородством известных,
Хоть ныне и попрана слава отцов делами сынов бесчестных.
Но не соглашусь, чтобы доблесть моя, — как это бывает нередко,—
Была приписана лишь тому, что внук я достойного предка.
Дивлюсь я на тех, чьи мечи крепки, чья кровь не остыла в жилах,
А сами, подобно тупым клинкам, цель поразить не в силах.
Дивлюсь и на тех, кто, вступить решив на путь великих деяний,
Коней и верблюдов не гонит в поход, не рвется на поле брани.
Постыдней на свете нет ничего бессилья и неуменья
Достойное дело свое довести до полного завершенья.
Спокойно в Египте живу — на жизнь взираю, как посторонний:
Давно ни за кем в погоню не мчусь, нет и за мной погони.
И только с болезнью из года в год встречаться мне надоело:
Постель проклинают мои бока, вконец истомилось тело.
Как мало друзей навещает меня, как сердце болит жестоко,
Повсюду завистники, труден путь, и цель еще так далеко.
Все тело ноет, нет силы встать, не пил я, а будто пьяный,
И каждый вечер с тоскою жду гостьи моей незваной.
А посетительница моя — постылая лихорадка —
Словно стыдится: лишь по ночам приходит ко мне украдкой.
Кладу ей подушки, стелю ей постель, боясь ее ласк докучных,
Но хочет она лишь со мной ночевать — в костях моих злополучных.
Но трудно в коже моей вдвоем вмещаться нам поневоле:
Все тело мое распирает она десятками разных болей.
Когда ж расстаемся, в густом поту лежу я без сил, без движенья,
Как будто мы с ней предавались греху до полного изнеможенья.
И кажется: утренние лучи ее прогоняют насильно,—
Слезы ее в четыре ручья текут и текут обильно.
Конечно, влечения страстного к ней не чувствую никакого,
Но как истомленный любовник, жду: придет ли под вечер снова?
Верна обещанью, приходит она, — но нет ничего страшнее
Подобной верности: всякий раз мученья приходят с нею.
О дочь судьбины! Вокруг меня все беды — твои сестрицы,
Так как же смогла ты, болезнь моя, сквозь их толчею пробиться?
Ты хочешь израненного добить, — ведь нет у души и тела
Места живого, где меч не рубил и где не вонзались стрелы.
О, если бы знать: этот злой недуг сумею ли побороть я
И сможет ли снова моя рука крепко сжимать поводья?
Смогу ли жажду я утолить давних моих стремлений
На легком танцующем скакуне с уздою в горячей пене?
Быть может, мучительный этот жар развею в дальних походах:
Пусть меч и седло исцелят меня — не этот постылый отдых.
Где б ни теснила меня судьба, я прочь вырывался оттуда,
Как вышибает пробку вино, чтоб вырваться из сосуда.
Вот так покидал я друзей не раз, даже не распростившись,
Вот так оставлял полюбившийся край, даже не поклонившись.
Мой врач говорит: «Ты что-нибудь съел, желудок твой не в порядке,
Как видно, в питье или пище твоей — источник злой лихорадки».
Не в силах понять медицина его, что я — словно конь горячий,
Который от долгой сытной пастьбы станет слабее клячи.
Я — конь, что привык с храбрецами скакать, земли почти не касаясь,
Из облака в облако пыли густой, из битвы в битву бросаясь.
И вот прекратилась бурная жизнь: сняли узду и сбрую,
И конь занедужил лишь оттого, что дни уходят впустую.
Но пусть я от этих мук ослабел — терпенье не ослабело,
И пусть источник сил оскудел — решимость не оскудела.
Я выжить хочу, от недуга спастись, хоть и не спасусь от судьбины,
И если избегну кончины одной, то лишь для другой кончины.
Живи, наслаждайся явью и сном, но только не тешься мечтою,
Что ждет тебя безмятежный сон под пыльной могильной плитою.
Нет, смерть — не бодрствованье, не сон, а третье из состояний,
И смысл его не похож на смысл ни снов твоих, ни деяний.
«Доколе мы будем во мраке ночном…» Перевод С. Северцева
{214}Доколе мы будем во мраке ночном со звездами вдаль стремиться?
Ведь нет ни копыт, ни ступней у звезд — легко им по небу катиться.
Наверно, и веки у звезд не болят, бессонница им не знакома,
А путник не спит, ночуя в степи, вдали от родного дома.
Солнце загаром лица чернит моих провожатых смелых,
Но не очернить ни правды моей, ни этих кудрей поседелых.
А ведь одинаково стали б черны и правда наша и лица,
Если бы за справедливостью нам к судьям земным обратиться.
Я не жесток, но верблюдиц бью, — хочу, чтоб они умчали
Тело мое — от жестоких мук, сердце — от злой печали.
Их ноги передние я подгонял задними их ногами,
А из Фустата{215} на быстрых конях погоня спешила за нами.
Неслись меж Аламом и Джаушем{216} мы, летящей стрелы быстрее,
А вражьи кони мчались вослед, как страусы, вытянув шеи.
Гоним верблюдиц мы, за спиной недругов злобных чуя,—
Спорят сейчас удила их коней и наших верблюдов сбруя.
Бесстрашные витязи скачут со мной, — тревогам походов дальних
Рады их души, как игроки — падению стрел гадальных.
А стоит чалмы запыленные снять воинам закаленным —
Дивишься их черным, курчавым чалмам, природою сотворенным.
Блистают белые их клинки: сражают, кого ни встречают,
Врагов на верблюдах, врагов на конях в постыдный бег обращают.
Чего никакому копью не достать, копье их достать сумеет,
И все-таки им не достичь того, что мыслями их владеет.
В бою беспощадны, свирепы они, как во времена Джахилийи{217},
Но дух, как в Священные Месяцы{218}, чист, безгрешны сердца молодые.
Они обучили копья свои, вовек не владевшие речью,
Вторить пронзительным крикам птиц, клюющих плоть человечью.
Верблюдицы мчатся, их губы белы, их ноги в рубцах кровавых,
Одежды же всадников зелены от скачки в высоких травах.
Стегаем верблюдиц мы, в тяжком пути мучимся с ними вместе —
От свежих источников, сытных трав стремимся к источникам чести.
Но где их найдем? Лишь одна душа нам путь указать могла бы —
Та, по которой мы все скорбим — арабы и не арабы.
Нет в мире другого Абу Шуджи{219}, и не к кому нам стремиться,—
Ему ни один из людей на земле в преемники не годится.
Величье, которому мы средь живых подобья не находили,
Стало подобьем всех мертвецов, покоящихся в могиле.
И вот я в пути — словно друга ищу и словно в утрату не верю,
И мир увеличить уже ничем не сможет мою потерю.
По-прежнему заставляю я верблюдов смеяться сердито
При виде тех, к кому по пути они натрудили копыта.
От идола к идолу путь я держу, — но идол хотя бы безгрешен,
А кто же из идолов этих живых в деяньях дурных не замешан?
Но вот возвращаюсь, и верный калам{220} твердить начинает упрямо:
«Слава мечу, нет славы перу! — слышу я голос калама.—
Сначала, что надо, мечом напиши, а после строчи, что угодно,—
А если ты этого не поймешь, пройдет твоя жизнь бесплодно!»
Ты правду сказало, мое перо, приемлю твое наставленье,
Мечам мы как слуги, и взяться за меч — лишь в этом мое исцеленье.
Тому же, кто верит, что прав своих и без меча добьется,
На каждый вопрос, «сумел ли достичь?», ответить лишь «нет» придется.
Решил кое-кто, что бессилье меня с властителями сближает,
Ведь близость с великими мира сего всегда подозренья рождает.
Как нам справедливости недостает и как глубоки заблужденья,—
Они разделяют даже людей единого происхожденья!
Уж если и приходить к царям, то не сгибаясь в поклоне —
Врываться к ним с мечом боевым, словно приросшим к ладони.
И пусть он будет из тех мечей, что смело выносят решенья
И смертельном споре того, кто мстит, с тем, кто страшится мщенья.
Мы их рукояти от власти владык старались сберечь недаром,—
Не назовешь ни один их удар бесцельным иль подлым ударом.
Взирай без волненья на все, чей вид душе доставляет мученье,
Ведь что бы ни видел твой глаз наяву — не более чем сновиденье.
Не жалуйся людям на беды свои, — раненых жалкие стоны
Лишь со злорадством будут встречать коршуны и вороны.
С людьми настороженным будь, — скрывай, что душу твою тревожит,
Пусть рот улыбающийся никогда тебя обольстить не сможет.
Исчезла верность, — кругом обман, все обещанья ложны,
Ушла правдивость, — а без нее и клятвы теперь невозможны.
Преславен Создатель души моей! Но как ей считать наслажденьем
То, что любая душа сочтет лишь безысходным мученьем.
Дивится судьба, как я стойко сношу все горести и невзгоды
И как не разрушилось тело мое за эти жестокие годы.
А время идет, иссякает мой срок, — о, если б от зол каждодневных
В другую общину мне уйти — в любую из общин древних!
Пока были молоды времена, радость вкусить успели
Прадеды наши, — а мы пришли, когда времена одряхлели.

«Любому из нас неизбежно…» Перевод С. Северцева
Любому из нас неизбежно придется на тесное ложе лечь,
Где с боку на бок не повернуться и не расправить плеч.
На ложе таком обо всем мы забудем, чем жизнь волновала нас:
Забудем и юности пылкую радость, и смерти тоскливый час.
Мы — дети мертвых. Так почему же боимся мертвыми стать?
И почему неизбежную чашу гнушаемся мы принять?
Зачем, завершая свой путь, скупимся времени мы вернуть
То, что из рук его получили, когда отправлялись в путь?
Из воздуха времени — наши души, из праха времени — плоть.
Безжалостна смерть, и ее в поединке не смог никто побороть.
Когда б хоть на миг подумал влюбленный, какой конец предрешен
Той красоте, что его пленила, — не стал бы влюбляться он!
Вот если бы люди не видели сами, как солнце встает поутру,
Тогда сомневаться еще могли бы, что солнце зайдет ввечеру.
Как умер безвестный пастух, умевший только стеречь овец,
Так и со всей своей медициной умер Гален{221}-мудрец.
Быть может, пастух даже больше прожил, чем многие из мудрецов,
И большего благополучья добиться сумел для своих птенцов.
Любому из смертных предел положен — отважен он или труслив,
Был он при жизни слишком воинствен иль слишком миролюбив.
А жизнь коротка, и заветной цели достичь не сумеет тот,
Чье сердце от страха дрожит при мысли, что смерть его стережет.
«Куда спешишь ты…» Перевод В. Волосатова
Куда спешишь ты, о великий князь?
Ты — грозный ливень, мы — сухие травы.
Как женщину, тебя хранит судьба.
Приблизиться к тебе никто не вправе.
Ты ж рвешься ввысь, в миру и на войне
Охвачен жаждой почестей и славы.
О, если б мог я стать твоим конем
Иль, как шатер, укрыть тебя в дубраве!
Перед тобой широкая стезя
Для громких дел и славных испытаний.
Великий духом жертвует собой
На поприще возвышенных исканий.
Привык я ждать, но там, где нет тебя,
Невыносима горечь ожиданий.
Даруй мне жизнь — немилость зла, как смерть.
Даруй мне свет, о солнца яркий пламень!
Приди ж скорей, о тот, чей гордый взгляд
Рождает в войске бурю ликований,
Кто в битве сердцем холоден, как лед,
Как будто смерть нема на поле брани,
Чей меч сметает полчища врагов,
Мешая в кучу кости с черепами.
Пределы, где бывал ты, бережет
Всесильная судьба от поруганий.
Там радость ярким золотом цветет.
Там туча льет вином, а не дождями.
Ты беспределен в подвигах своих,
И в щедрости тебе никто не равен.
Ты в дружбе — умиленье для друзей,
Ты в битве неотступен и всеславен.
Ты князь сердец, надежда для людей,
О Сейф ад-Дауля — меч, рассекший камень.
Могущество твое не одолеть,
Любви к тебе не выразить словами.
«Разве в мире не осталось друга…» Перевод В. Волосатова
Разве в мире не осталось друга,
Что б помог избавиться от грусти?
Разве в мире не осталось места,
Где живут в согласии и дружбе?
Разве свет и мгла, позор и слава,
Честь и подлость — все смешалось в кучу?
Новая ль болезнь открылась людям?
Старым ли недугом мир измучен?
На земле Египта, где свободный
Одинок и сир, лишен приюта,
Восседает ворон в окруженье
Стаи сов, подмявших стаю уток.
Я читал хвалу ему. Приятно
Называть скопца великим мужем.
Говоря шакалу: «Ты проклятый!» —
Я б обидел собственные уши.
Потому уместны ли упреки?
Там, где слабость, жди напасть любую.
На кого пенять тому, кто молча
Проглотил обиду, — на судьбу ли?
Абу Фирас Перевод А. Ибрагимова
{222}«Так ты утверждаешь…»
{223}Так ты утверждаешь, отмеченный лихом,
Что мы о войне не слыхали и слыхом?
Побойся Аллаха! И денно и нощно
Готовы мы биться отважно и мощно.
В бою применяя прорывы, охваты,
Мы множим во вражеском стане утраты.
Не нами ль племянник твой схвачен? Не мы ли
Мечами отца твоего заклеймили?
Разбитого войска покинув остатки,
Не ты ли от нас удирал без оглядки?
Грозить нам войною — смешного смешнее:
Мы связаны крепкими узами с нею;
Мы вскормлены ею, как матерью львята.
Презренный! Тебя ожидает расплата.
«Состарилась ночь…»
Состарилась ночь, побледнела, поникла устало,
И — неотвратимое — время прощанья настало.
Две ивовых ветви, что ветер колышет над лугом,—
Сплетаясь в объятьях, мы так упивались друг другом,
Так счастливы были, что, завистью черной объятый
Невольно от нас отвратил бы свой взор соглядатай..
Как быстро, о ночь, одеянье твое прохудилось,
Под краской линялой твоя седина обнажилась!
Но слух твой не будем язвить укоризненной речью.
Тебе же, о утро, ни слова привета навстречу!
«Изъязвила бессонница веки мои…»
{224}Изъязвила бессонница веки мои.
Я взываю к тебе, благородный… Пойми:
Как ни тяжко влачить заточенье в темнице,
Мне случалось и с худшей бедой породниться;
Не единожды видел я смерть пред собой
И вовек: «Пощади!» — не шептал ей с мольбой.
Стрелам грудь подставляя на поприще брани,
С неизбежным концом я смирился заране.
Мне ль страшиться, что чашу сию изопью?
Лишь хотел бы, как братья, погибнуть в бою
На лихом скакуне, весь изрублен, иссечен,
А не здесь, христианами раненный в печень…
Время грабит меня, оставляя без сил,
Но терпенья бурнус я пока не сносил;
А гонителей не убавляется рвенье,
И смятенные мысли мои — в раздвоенье:
То надеюсь, что гибель минует меня,
То в отчаянье жду я последнего дня.
И, с тоскою взирая на всеми забытых
Сотоварищей-пленников, в цени забитых,
Я взываю к тебе: полный братской любви,
Безграничное великодушье яви!
Ты — прибежище всех, обделенных судьбою,
Я ж достоин спасенья любою ценою.
Что мне жизнь? Удержать неудержное тщась,
Не молю об отсрочке — хотя бы на час.
В жарких сечах мой меч машрафийский иззубрен.
Он давно уж в ножны поржавелые убран;
Все же горестно мне, обессилев от ран,
Погибать на чужбине, среди христиан.
Не разверстой могилы боюсь — их злорадства.
Помоги же, во имя священного братства.
Ты немало свершил благороднейших дел,
Возврати же меня в мой родимый предел!
«Приюта просил у любви я…»
{225}Приюта просил у любви я в напрасной надежде;
Не сжалилась — и меня утесняет, как прежде.
Я помощи ждал, но ничто не поможет тому,
Чьи тяжкие вздохи пронзают полночную тьму.
Бедняга как будто пылает в огне лихорадки,
А если спускается сон, то неверный и краткий…
И вот наконец, преисполнясь печали великой,
Пустился я в путь, чтоб забыть о тебе, луноликой,
О бедрах твоих, двух песчаных холмах, позабыть,
Но лишь убедился: страданий моих не избыть.
Вернувшись, я вижу, сдержать изумленье не в силе,
Что долгие ночи разлуки тебя изменили.
Воспел бы тебя я стихами, но как описать,
Не знаю, твою — молодая верблюдица — стать.
Ты сердце мое отклонила своей красотой
От юных затворниц, чей дом — за зубчатой стеной.
В тоске по тебе я ложусь на тернистое ложе
И, сон раздарив беззаботным, взываю: «О боже!
От горестей ту, что люблю всей душой, огради!»
И жгучие слезы в моей закипают груди.
Рыдаю я, как сирота, как униженный пленник
При мысли о всех нанесенных ему оскорбленьях…
О брат мой, Зухейр, укажи мне какой-нибудь путь —
Уклончивой этой лукавицы милость вернуть.
Ведь ты же всегда помогал мне и делом и словом,
Ты был мне заступой, опорой, надежным покровом.
Щедрейший из щедрых, ты множество слал мне даров
Дороже тончайших шелков, и парчи, и ковров,—
Отменные рифмы, приятнее влаги прохладной,
Слова, что жемчужины, — прелести полны усладной.
Не только Фараздак и Ахталь — но даже Джарир
Такими стихами еще не счастливили мир.
Ты страшен врагам, словно лев, нападающий дерзко,
Зато обездоленным ты — и оплот и поддержка.
Искуснее всех ты, мой брат, во владенье мечом,
Славнейшим воителям ты не уступишь ни в чем.
Достоинства есть ли на свете — твоих совершенней?
Ты создан, я знаю, для самых великих свершений.
«Та ночь новогодняя…»
Та ночь новогодняя в сердце навеки останется.
Мы были вдвоем с томноокой моею избранницей.
Пригоршнями сыпало темное небо жемчужины,
В наряде камфарном лежали поля, неразбуженны;
И спорил нарцисс красотою своей беззаботною
С вином, что играло в бокалах — огня искрометнее.
«Решил: благоразумным стану…»
Решил: благоразумным стану,
И так сказал себе: «Обману
Отныне верить перестань.
Ты заплатил безумству дань».
С обманщицей, водившей за нос,
Вступив на путь добра, расстанусь.
Не зваться мне Абу Фирас,
Когда поверю ей хоть раз.
«Зачем ты терзаешь меня?..»
Зачем ты терзаешь меня? За какие провинности?
Себе изумляюсь: как смог я подобное вынести.
Но пусть я отвергнут — по-прежнему сердце в пылании:
Дороже богатства ты мне и победы желаннее.
За что же ко мне, справедливая, несправедлива ты?
Надежда моя, от меня отвернулась стыдливо ты.
«Кто видел, скажите на милость…»
Кто видел, скажите на милость,
Чтоб счастье у нас загостилось?
Все знают, великий и малый:
Такого еще не бывало.
Меняется мир этот бренный —
И к худшему все перемены.
Сегодня богач-повелитель,
А завтра ты нищий проситель.
«В черных моих волосах…»
В черных моих волосах все заметней, видней
Белые нити — предвестницы старческих дней.
Так не пора ли прогнать искушенья с порога
И облачиться в бурнус добродетели строгой?
Знаю: пора, но слаба многогрешная плоть:
Чары красавиц не в силах она побороть.
Что же мне делать? Аллаха зову на подмогу:
«Праведную укажи, всемогущий, дорогу».
«Отныне удары судьбы я…»
Отныне удары судьбы я сношу, не противясь.
О муках, которые выдержал я, терпеливец,
Никто не дознался еще, любопытством томим.
Запрятанным в сердце — нет выхода чувствам моим;
Лишь только порою во мраке — к чему оправданья?
Надменно победу свою торжествуют рыданья,
И ярко пылает, глубокие тени гоня,
Огонь, разожженный безумьем в груди у меня…
Свиданье ты мне обещала не раз и не дважды,
Но тщетно я ждал утоленья мучительной жажды.
Оседлый — скитался, покинув родимый свой кров,
Но мир без тебя мне казался безлюдней песков.
Зачем ты с родными меня разлучила враждою?
А прежде мы были — как сок виноградный с водою.
Скажи, отчего ты поверила злым шептунам?
Исполненным веры, пристало ль неверие нам?
О, как отменить приговор, надо мною нависший!
Красавица, что родовитее всех в становище,
В твоих подозрениях истины нет и зерна.
Зачем же ты часто, как юная лань, озорна,
Меня вопрошала: «О, кто ты?» — в нелепых стараньях
Унизить презреньем: мол, что за неведомый странник?
«Я тот, кто тобою сражен», — отвечал я без зла.
А ты: «В самом деле? Который же? Нет им числа».
«Ну, полно меня изводить. Отрицанье напрасно.
Ты знаешь меня, без сомненья, — и знаешь прекрасно!»
Смеялась ты: «Может быть. Время тебя не щадит».
«Ни время, ни ты, — говорил я, — обоим вам стыд».
Всю гордость свою растерял, до последней крупицы,
Однако желанного так и не смог я добиться.
Куда бы ни брел я, причудами рока влеком,
Дыханье твое обдавало меня холодком.
Я понял тогда: мне осталось одно — положиться
На волю судьбы — и на волю твою, прихотница.
И сам я не знал в удрученье: во сне ль, наяву
Газель, что стоит на вершине холма, я зову.
Пугливая прочь отбегает — и смотрит скорбяще,
Как будто она потеряла детеныша в чаще…
Неужто и впрямь ты со мной незнакома, сестра?
Меня восславляют под сводом любого шатра.
Ведь я не из тех, кто робеет в опаснейшей схватке,
Я первым из первых врывался во вражьи порядки.
Пускай у коней обессиленных — ноги вразлет,
Не зная усталости, я пробивался вперед.
Когда же, разбитый, бежал неприятель, я следом
Скакал во главе ратоборцев, привыкших к победам.
Терзался я жаждой, пока не напьются мечи,
Алкал я, пока не насытятся все сарычи.
Но чужд вероломства, пред тем как начать нападенье,
С гонцами всегда посылал я врагам упрежденье.
Бывало, на стены твердынь, осажденных тесня,
Взбирался я вместе с лучами — посланцами дня.
На вражьи кочевья свершал я набеги, бывало,
Но женщинам, прячущим лица свои в покрывала,
Я зла не чинил, не обидел из них ни одной.
Немало красавиц искали свиданий со мной;
Нередко я с ними делился своею добычей
И от оскверненья спасал их — таков мой обычай.
Богатство всегда от меня отвращало свой лик,
Но гостеприимством и щедростью был я велик,
Достоинство чтил я превыше даров наилучших,
Ведь доброе имя не купишь на рынках толкучих.
И вот я в плену. Ни друзей. Ни коня, чей чепрак
Не робкий юнец застилал — а бывалый смельчак.
Ну что ж, не ропща, принимаю назначенный жребий,
От власти судьбы не укрыться ни в море, ни в небе…
Напрасно товарищи в голос твердили: «Беги!
Жестокой расправой тебе угрожают враги».
А я им: «И бегство и гибель мне хуже отравы.
Не знаю я, что предпочтительней»… Боже всеправый!
Свидетелем будь: изо всех угрожавших мне зол
Я то, что всего безобиднее, — плен, — предпочел.
И мне уж недолго осталось томиться в неволе:
Несчастья не медлили — смерть не помедлит тем боле.
И все ж ей не праздновать час своего торжества:
Мы живы, пока наша добрая слава жива…
Румийцы пытались меня обобрать — от их крови
Мое одеянье закатного солнца багровей,
Об них иступил я меча своего острие,
Об них изломал я разившее метко копье;
И верю: меня не забудешь ты, племя родное.
Бродящим во мраке я стану звездой путевою…
Останусь в живых — снова будет остер мой клинок,
По-прежнему будет любимый мой конь легконог.
Умру? Ну так что же? Со всеми — и с юным и старым
Равно расправляется смерть неотвратным ударом.
Одно лишь обидно — что я неоплакан паду,
Не ценится золото там, где медяшки в ходу.
А я ведь из рода, где нет слабодушных и хилых.
Мы либо над всеми возвышены — либо в могилах.
За дело благое мы жизнь отдадим самое:
Посватал красавицу — выкуп плати за нее.
И людям известно: славнейшие мы среди славных,
Мы самые щедрые — нет нам поистине равных.
Ас-Санаубари Перевод П. Мальцевой
{226}«Не будет рад весне…»
Не будет рад весне светло и безмятежно
Тот, кто осенний день описывает нежно,
Когда спешит зима и нет уже секрета,
Что нам несет она разлуку с теплым летом.
Она спешит в плаще непрочного мгновенья,
В рубашке из ветров нагих, как сновиденья.
И вот уже вода от страха чуть не стонет,
Когда ее рукой холодный ветер тронет.
«Когда октябрьский серп…»
Когда октябрьский серп из облака восходит,
В ночи звезда звезду улыбкой превосходит.
И воды Тигра, свет в игру звезды вплетая,
Блистают чешуей, как змейка золотая.
И так глубоко взор всю землю проницает,
Что кажется порой — там небеса мерцают.
«И как судьба неотвратимо…»
И как судьба неотвратимо, пришла к нам новая весна,
Стал цвет глубок и свет прозрачен, теперь везде царит она.
В листве — смарагда полыханье, в ручьях — живой хрусталь звенит,
Жемчужный воздух в небе тает, и землю яхонт пламенит.
И вот уже несут по кругу хмельную чашу облака,
Шумит трава, пьянеет зелень, вся — от ствола до стебелька.
Благоуханье томной розы, гвоздика, мята, базилик…
Как расточает ароматы кругом рассыпанный цветник!
И скажет тот, кого пленила цветов и запахов игра,
Что мускус нынче уж не мускус, а камфара — не камфара…
«Спрятала землю надежно зима…»
Спрятала землю надежно зима, но весна на лету,
Сняв покрывало, явила младую ее красоту.
С девушкой, встретившей милого, спорит глазами нарцисс,
Спорит с ней роза румянцем и яркостью губ — барбарис.
И кипарисы подобно красавицам у родника
Полы одежд подобрали и ноги открыли слегка.
Стройными станами южному ветру поклонятся вдруг,
Каждый из них, как невеста, что всех превосходит подруг.
Ах, если б дали мне в руки над всеми лужайками власть,
То недостойные люди сюда не смогли бы попасть.
«Когда заметил розу…»
Когда заметил розу нарцисс среди цветов,
Бедняжка покраснела, стыдясь нескромных слов.
И, обнажив в улыбке зубов жемчужный ряд,
Кувшинка засмеялась немножко невпопад.
От ревности такого наговорил нарцисс,
Что лилии от страха смотрели только вниз.
Тюльпан, подняв головку, промолвил тихо: «Ах…»
Багровый след пощечин остался на щеках.
По ним катились слезы обильно, как роса,
Сверкали оскорбленно влюбленные глаза.
И тут цветок гвоздики, хоть сам и был он мал,
Честь розы защищая, к другим цветам воззвал.
Собрались на лужайке несметные войска,
Чтоб посрамить навеки в бою клеветника.
Нарцисс, листком махая, все дальше отступал,
Пока пред грозной ратью на землю не упал.
Тогда, ослабив этой ужасной битвы пыл,
О милости к нарциссу я розу попросил.
И все мы, помирившись, среди счастливых лиц
Устроили пирушку под пенье струи и птиц.
«Сказала роза: «Я свежа…»
Сказала роза: «Я свежа, как утренний рассвет,
Поэт недаром говорил, что краше в мире нет».
От гнева даже побледнел нарцисс, ее сосед,
И, возмущенный, закричал, забыв про этикет:
«На что надеется она, когда в расцвете лет
Одни лишь щеки у нее, а глаз и вовсе нет?
Две красных щечки, тьфу! Ужель их воспевал поэт?
Куда нежней моих очей янтарный полусвет!..»
Но роза, глазом не сморгнув, промолвила в ответ:
«Румянец алый на щеках не зря воспел поэт.
Коль зависть так тебя грызет, что больше мочи нет,
Закрой желтушные глаза — вот мой тебе совет!»
«Вот юноши…»
Вот юноши вокруг жаровни восседают,
И дым ее струю воды напоминает.
Похожа на фонтан она. Приятно взору
Изящество ее причудливых узоров.
Когда ее зажгут, от запахов куренья
Сникает базилик, кипит воображенье.
«Вот кошка возлежит…»
Вот кошка возлежит на шелковой подушке,
Недвижен сонный взгляд, лишь вздрагивают ушки.
Но схватит в тот же миг добычу, если встретит,
Хотя бы в облаках она ее заметит.
То нежится она, прильнув на грудь к невесте,
То в зарослях густых кровавой ищет мести.
«Уж голуби, вкусив…»
Уж голуби, вкусив весну среди дерев,
Из клюва в клюв несут ее хмельной напев.
Прочь воду! Дайте мне хотя б глоток один
Той влаги, что вскормил во тьме земли кувшин!
Пои меня вином пунцовым, как коралл,
Зеленым, как смарагд, и желтым, как сандал,
Пурпурным, как рубин, и алым, как гранат,
И нежно-золотым, как спелый виноград.
Абу Дулаф аль-Хазраджи Перевод Б. Шидфар
{227}«Излейтесь, кровавые слезы…»
Излейтесь, кровавые слезы, закройтесь, усталые веки,
Не кровь потекла по жилам — текучего пламени реки.
Я вкус любви изведал, но всё не найду решенья,
Не знаю — то сладкие муки иль горькие наслажденья.
«Утешься, — твердит мне разум, — любви не узнаешь рая,
Погубит любовь чужбина, тобой, как мечом, играя».
Да, я как сухая ветка, чьи листья уносит ветер,
Я знаю все радости, беды и все чудеса на свете.
К постам меня приучили скитанья и к разговеньям,
Но славу отцов не забуду ни на одно мгновенье.
Хранители доблестей древних, в изгнанье сыны Сасана
Бродягами нищими стали, лишенными чести и сана.
Ведет нас судьбы немилость в чужие дальние страны,
Как ветер горячий гонит в песчаной степи барханы.
Мы души свои закалили и в радостях и в горе,
И мы — венец творенья на суше и на море.
В Египте и в Китае от нас откупиться рады,
До дальнего Танжера проникли наши отряды.
Коль туго придется — не будем мы в том оставаться стане,
Пред нами весь мир склонился, неверные и мусульмане.
Мы летом в горах, где прохлада, а зиму в низинах проводим,
Мы нищие-попрошайки, но гордостью вас превосходим.
Кто спросит, тому я отвечу: у нас ремесло непростое,
Но хлеба насущного ради ему научиться стоит:
На землю бросаться в корчах средь тех, кто в шелка одеты,
На шее носить вериги и кожаные амулеты,
Выпрашивать миску похлебки и ползать за черствой коркой,
Дрожать нагишом на рынках и клянчить подачки горькой.
По финику с каждой лавчонки и по грошу с динара —
Мы данью купцов облагаем у каждого базара.
Мы лица в зелень красим настойкой чечевичной,
Из-под повязки гноем течет желток яичный,
Лиловым соком ягод умелый спину метит —
И жалость вызывают рубцы от жгучей плети.
Лопочет безъязыкий — на все ведь нужна сноровка!
Он за щекою левой язык упрятал ловко.
Кричим мы на площади людной: «К оружью, вперед, на границу!»
Но тихо мы будем ночью пожертвованным делиться.
Из братии доблестной нашей — и старец благообразный,
Что мускусом в лавке торгует, душистой водицей разной,
Что бесноватых врачует плодами дикой ююбы,
Умеет читать заклинанья и заговаривать зубы,
И слепые чтецы Корана, рассказчики древней были
О том, как израильтяне море переходили{228}.
Кто по дорогам бродит в монашеском одеянье,
Кто, как паломник смиренный, просит на пропитанье,
Кто мясо вкушает украдкой во время поста Рамадана{229},
Кто грубою власяницей спину стирает до раны,
Кто, плача, просит на выкуп жены и детишек милых,
Что пленниками у румийцев томятся в краях постылых,
Кто, горб приделав тряпичный, постиг безделья науку,
Кто кажет свою за кражу отрубленную руку,
А кто в пыли и навозе сидит у проезжей дороги
И, видом своим устрашая, хватает прохожих за ноги.
Бесстрашные всадники наши на львов отважных похожи —
С врага на скаку одежду сорвут они вместе с кожей.
У нас проходил науку кто, понаторевши в Торе,
На людях ислам принимает и иудеев позорит,
Кто, будто чудом прозревший, снимает одежду монаха
И громогласно взывает: «Нет бога, кроме Аллаха»,
Из наших — слепец поддельный, что, веки намазав глиной,
На кошельки подающих бросает взгляд соколиный,
Кто утром и после полудня сидит у мечетей соборных
И проповедует слезно о грешниках непокорных,
Кто у дверей возглашает, когда ты сидишь за едою:
«Пророк повелел нам делиться хлебом и водою!»,
Кто, страстно пороки бичуя, у лавок богатых кружит,
Кто молит о горсточке углей, кричит: «Погибаю от стужи!»,
Астрологи и ворожеи, гадатели и гадалки,
Что судьбы людские видят в песке и полете галки.
«Провидец! — вопит сообщник. — Нет равных мудрости этой!»
Оплатит доверчивый дурень обман полновесной монетой.
И плоть от плоти нашей тот рифмоплет бездарный,
Что чернь увеселяет на площади базарной.
Вопит на перекрестке шиит краснобородый:
«Убит Хусейн{230}, о боже! Восплачьте, все народы!»
А рядом суннит правоверный славит халифа Османа{231},
Они подстрекают на драку и лезут убитым в карманы.
Ловко приводят иснады{232} члены почтенного братства:
Пением громким отметят дом, где таится богатство.
Рыдает бедняк: «Налетела грабителей алчная стая…»
Тряпка, политая маслом, слезы страдальца питает.
Бесчисленны наши ремесла: слепец, поводырь, проповедник
Немой, конокрад, попрошайка, и сейид{233} — пророка наследник
И нищий, владеющий троном ценой унижений безмерных, —
Пленник Муизз ад-Даула — Муты, халиф правоверных{234}.
Аш-Шариф ар-Рады Перевод А. Ибрагимова
{235}«Поднесло утомленье мне…»
Поднесло утомленье мне чару напитка хмельного.
Позабылся на миг, но терзаюсь бессонницей снова.
Веки ласково просят дремоту: «Зрачки притумань.
Пусть померкнут они — словно звезды в рассветную рань»
Я знаю край…»
Я знаю край, пустынный край,
где воздух нестерпимо я, туч,
Где редко льется кровь дождя
из рассеченной глотки туч.
Когда бы, время, твой поток
зубами удержать я мог,
Когда бы мог низринуть власть
твоих предначертаний, рок,—
Туда бы я направил путь
в притоке небывалых сил,—
И, как стрелу, пустыне в грудь
я караван бы свой вонзил.
«Жизнь сказала: «Поженимся»…»
Жизнь сказала: «Поженимся?» Я отшатнулся в испуге:
«Упаси меня бог от такой многомужней супруги!»
«О, лучше с волками…»
О, лучше с волками, о, лучше со львами,
Но только, бесчестные твари, не с вами!
От вас, ненавистных, повеситься впору.
Скорее сыщу в чужаках я опору.
Хвалы расточал вам, с улыбкой во взоре,—
Зачем не забросил их в пенное море?
Глядишь, и на гребне высокого вала
Оно бы жемчужину мне даровало.
На вас я надеялся прежде, но ныне
Надежды развеяны. В сердце — унынье.
Глаза вытираю, что полны слезами.
Насмешки меня обжигают, как пламя.
У всех я в презренье, у всех я в опале,
И славу мою на клочки растрепали.
«Приятели мне надоели…»
Приятели мне надоели с их шумным весельем,
Я — как чужеродец, бродящий один по ущельям.
На вздохи мои отвечают голубки, стеня,
Но мне безразлична умильная их воркотня.
В душе до сих пор отзываются острою болью
Надрывные крики верблюдов… Во мгле по ополью
Все дальше и дальше они уходили, пыля.
Молящие руки им вслед простирала земля,
И лики красавиц, которых везли в караване,
Лучились, грядущей зари предвосхитив сверканье;
Неявственно зыбились их очертанья, меня
Своею обманной игрою дразня и маня.
А утро — все ближе. Во мраке, похожем на копоть
Открылись прорехи, которых уже не заштопать.
И стиснул созвездья в объятьях своих небосвод,
Как будто страшился, что некий смельчак их сорвет
Пока не забрезжил рассвет, золотистый и алый,
Без устали я любовался Медведицей Малой.
И были все звезды как сестры. Бледна и грустна, —
«Я слушаю. Говори», — прошептала одна.
«Ты — да эти бессонные ночи…»
Ты — да эти бессонные ночи — виною,
Что покрылась моя голова сединою.
Вновь и вновь мне свои заблуждения клясть:
Страсть еще надо мной не утратила власть.
Позабуду ль, как, ранней весною мы вместе
Любовались веселой игрою созвездий?
А теперь обхожу я твой дом стороной,
Но сгущается тьма — и ты снова со мной.
Как прекрасен твой лик! К моему изголовью
Он приник, приведенный самою любовью.
Мой застольник, он выпил все соки из жил,
Мне же только напиток из слез предложил.
«Расшитая, как серебром…»
Расшитая, как серебром, сияньем,
Ты схожа, ночь, с прекрасным одеяньем.
О небо! Ты подобие реки,
А эти звезды — словно пузырьки.
«Сердце жаждет излиться в словах…»
Сердце жаждет излиться в словах, но молчу неспроста:
Безнадежность надежно мои оковала уста.
Ты как молния, даже вблизи не сулящая влаги.
Что же, если она вдалеке?.. Горе мне, бедолаге!
«Как очаг, пылает грудь…»
Как очаг, пылает грудь,
роднику глаза сродни.
Хочешь, пламени возьми,
хочешь, влаги зачерпни.
На тебя гляжу в упор,
весь в мучительном жару.
Сердце — на похоронах,
взгляд — на свадебном пиру.
«Судьба сражает всех…»
Судьба сражает всех своею палицей.
С какой же стати о других печалиться?
Скорбеть о воронье презренном надо ли?
Им только бы урвать кусочек падали.
Пускай уходят — не в моем обычае
Оплакивать утративших величие.
«Благовоньями умащаем…»
Благовониями умащаем одежды нередко,
А в кармане хотя бы одна завалялась монетка.
Все обширнее наши желанья — и все неуемней,
Но судьбою назначенный срок приближается, помни!
Руки смерти ко всем подбираются, хватки и цепки.
Что такое мы, люди? Из глины кладбищенской елецки.
Наша жизнь кратковечна, как молния сумрачной ночью:
Вот сверкнула она, темноту разрывая на клочья,
Озарила равнины и реки улыбкою бледной,
Подмигнула лукаво — и тотчас пропала бесследно.
«Прекрасную газель…»
Прекрасную газель я звал во сне: «Приди!
Отныне пастбище твое — в моей груди.
Зачем стремишься ты к иному водопою,
Когда потоки слез моих перед тобою?»
Благоухание заполнило весь сад,
И, уловив — еще сквозь сон — твой аромат,
Я поспешил к тебе в передрассветной рани
Незарастающей тропой воспоминаний.
Увы! Нарушила ты глаз своих обет,
И вместо сладости познал я горечь бед.
Но, пусть обманутый, не затаив обиды,
Я для тебя храню любовные касыды;
И знай, что — если бы не соглядатай — сам
Я передал бы их сейчас твоим губам.
«Беспечальна мне стала…»
Беспечальна мне стала с друзьями разлука.
Убедился: от них лишь досада да скука.
Много ль пищи нам надобно? Горстка одна.
А излишняя влага нам только вредна.
Нас любовью своею судьба не взыскала:
Звери радостней нас, долговечнее скалы.
Я гонимая лань, я в дороге весь день,
И всю ночь я в пути, чуть приметная тень.
«Задумчивый, сижу…»
Задумчивый, сижу один в застолье
В душе моей — ни радости, ни боли
И лунному сиянию в ответ
Лицо мое струит неяркий свет.
Отныне ночь уже идет на убыль,
А я ни разу кубка не пригубил:
Пускай себе другие пьют вино —
Меня ж от груди отняло оно.
Абуль-Ала аль-Маарри Перевод А. Тарковского
{236}«Зачем надежд моих…»
Зачем надежд моих высокий свет погас
И непроглядный мрак не покидает глаз?{237}
Быть может, позабыв, что людям сострадали,
Вы, люди, вспомните слова моей печали.
Ночь в траурном плаще, настигшая меня,
По красоте своей равна рассвету дня.
Пока вы рыщете по тропам вожделенья,
Полярная звезда стоит в недоуменье.
Воздать бы нам хвалу минувшим временам,
Но времена свои хулить отрадней нам.
Я пел, когда луна была еще дитятей
И тьма еще моих не слышала проклятий:
«О негритянка-ночь, невеста в жемчугах!»
И сон от глаз моих умчался второпях,
Как, потревоженный призывною трубою,
От сердца робкого покой в начале боя.
А месяц блещущий в Плеяды был влюблен,
Прощаясь, обнял их и удалился он.
Звезда Полярная с другой звездой в соседстве
Зажглась. И мне — друзья: «Мы тонем в бездне бедствий,
И эти две звезды потонут в море тьмы,
До нас им дела нет, и не спасемся мы».
Канопус рдел, горя, как девушка земная,
И сердце юноши напоминал, мерцая,
И одинок он был, как витязь в грозный час
Один среди врагов, и вспыхивал, как глаз
Забывшего себя во гневе человека —
Пылающий раек и пляшущее веко.
Склонясь над раненым, стояли в небесах
Дрожащий Сириус и Близнецы в слезах,
А ноги витязя скользили на дороге,
И далее не мог спешить храбрец безногий.
Но стала ночь седеть, предвидя час разлук,
И седину ее шафран подернул вдруг,
И ранняя заря клинок метнула в Лиру,
И та прощальный звон, клонясь, послала миру.
«И заняли они мой дом…»
И заняли они мой дом, а я ушел оттуда,
Они глазами хлопали, а я хлестал верблюда,
Я и не думал их дразнить, но эти забияки
У дома лаяли всю ночь, как на луну собаки.
«Жизнью клянусь…»
Жизнью клянусь: мне уехавшие завещали
Незаходящие звезды великой печали.
И говорил я, пока эта ночь продолжалась:
«Где седина долгожданного дня задержалась?
Разве подрезаны крылья у звезд, что когда-то
Так торопились на запад по зову заката?»
«Приветствуй становище…»
Приветствуй становище ради его обитателей,
Рыдай из-за девы, а камни оплакивать — кстати ли?
Красавицу Хинд испугала моя седина,
Она, убегая, сказала мне так: «Я — луна;
Уже на висках твоих утро забрезжило белое,
А белое утро луну прогоняет несмелую».
Но ты не луна, возвратись, а не то я умру,
Ты — солнце, а солнце восходит всегда поутру!
«О туча, ты любишь Зейнаб…»
О туча, ты любишь Зейнаб? Так постой,
Пролейся дождем, я заплачу с тобой.
Зейнаб, от меня ты проходишь вдали,
Ресницы, как тучи, клоня до земли,
Ты — праздник шатра, если ты под шатром,
Кочевника свет, если едешь верхом.
Звезда Скорпиона в груди у меня.
Полярной звездой среди белого дня
Стою, беспощадным копьем пригвожден,
Твоими глазами в бою побежден.
Я в помыслах тайных целую тебя,
Души несвершенным грехом не губя;
Никто не сулит воздаяния мне,
За мной не следит соглядатай во сне;
Во сне снарядил я в дорогу посла,
С дороги он сбился, но весть мне была:
«В походе откроется счастье глазам.
Верблюдом ударь по зыбучим пескам,
Хоть месяц — что коготь, хоть полночь — что лев,
На сумрак ночной напади, осмелев!»
Пустыня раскинулась передо мной,
Волнуясь, как море, заросшее в зной.
И в полдень очнувшийся хамелеон
Взошел на минбар; был заикою он,
И речь не слетала с его языка,
Пока он не слышал подсказки сверчка.
«Я множество дорог…»
Я множество дорог оставил за спиною,
И плачут многие, разлучены со мною.
Судьба гнала меня из края в край вселенной,
Но братьев чистоты любил я неизменно.
Друзьями стали мне года разлук с друзьями.
О расставания, когда расстанусь с вами?
«Восковая свеча золотого отлива…»
Восковая свеча золотого отлива
Пред лицом огорчений, как я, терпелива.
Долго будет она улыбаться тебе,
Хоть она умирает, покорна судьбе.
И без слов говорит она: «Люди, не верьте,
Что я плачу от страха в предвиденье смерти.
Разве так иногда не бывает у вас,
Что покатятся слезы от смеха из глаз?»
«Скажи мне, за что…»
Скажи мне, за что ты не любить моей седины,
Постой, оглянись, я за нею не знаю вины.
Быть может, за то, что она — как свечение дня,
Как жемчуг в устах? Почему ты бежишь от меня?
Скажи мне: достоинство юности разве не в том,
Что мы красотой и приятностью внешней зовем,—
В ее вероломстве, ошибках, кудрях, что черны,
Как черная доля разумной моей седины?
«Я получил письмо…»
Я получил письмо, где каждой строчки вязь
Жемчужной ниткою среди других вилась.
«Рука писавшего, — промолвил я, — как туча:
То радость, то беду она сулит, могуча.
Как письменами лист украсила она,
Когда ее дожди смывают письмена?»
«Повелевающий высотами земными,—
Так отвечали мне, — как хочет правит ими».
Величье подвига великих не страшит.
Из доброты своей извлек Абу-ль-Вахид{240}
Счастливый белый день, и черной ночи строки{241}
Легко украсили простор его широкий.

«Горделивые души склонились к ногам…»
Горделивые души склонились к ногам
Беспощадных времен, угрожающих нам.
Даже капля единая слезного яда
Опьяняет сильнее, чем сок винограда.
О душа моя, жизни твоей не губя,
Смерть не тронула крыльями только тебя.
Поражают врага и копьем тростниковым.{242}
Сердце кровоточит, уязвленное словом.
Подгоняя своих жеребят, облака
Шли на копья трепещущего тростника,
Или то негритянки ходили кругами,
Потрясая под гром золотыми жезлами?
Если кто-нибудь зло на меня затаит,
Я, провидя коварство, уйду от обид,
Потому что мои аваджийские кони{243}
И верблюды мои не боятся погони.
«Кто купит кольчугу?..»
{244}Кто купит кольчугу? По кромке кольчуга моя
Тверда и подобна застывшему срезу ручья.
Кошель за седлом, где в походе хранится она,—
Как чаша, которая влаги прохладной полна.
Расщедрится кесарь и князю пошлет ее в дар.
Владельцу ее смертоносный не страшен удар.
Он сердцем влечется к струящимся кольцам ее
И пить не желает: ее красота — как питье.
Меня заставляет расстаться с кольчугой моей
Желанье одаривать хлебом голодных людей.
«Она и в знойный день…»
Она и в знойный день была как сад тенистый,
Который Сириус поит водою чистой.
Я приоткрыл суму с кольчугою моей,
Что всадника в седле на перст один длинней.
Увидела она кольчугу и сначала
Сережки из ушей и золото бросала,
Потом запястья мне и кольца принесла.
Кольчуга все-таки дороже мне была.
Отец твой мне сулил своих верблюдов стадо
И лучшего коня, но я сказал: не надо.
Мужчине продал бы — и то кольчуге срам.
Неужто женщине теперь ее продам?
Хотела опоить вином темно-багряным,
Чтоб легче было ей кольчугу взять обманом.
Я не пригубил бы и чаши тех времен,
Когда своей лозой гордился Вавилон.
Ресницы подыми, весна уже в начале,
И голуби весны окрест заворковали.
Мне самому еще кольчуга по плечу,
Когда я пастухам на выручку лечу.
Сулейму бедную одна томит остуда,
Что ни жиринки нет в горбу ее верблюда.
Забудь о нем и взор на мне останови:
Я вяну, как побег. Я гибну от любви.
Она пугливее и осторожней лани,
Убежище ее — в тенистой аладжане{245}.
Когда от Йемена к нам облака идут,
Найдет обильный корм на пастбище верблюд.
«Я знаю, что того…»
{246}Я знаю, что того, кто завершил свой путь,
Нельзя ни пением, ни воплями вернуть.
Мне весть печальная, услышанная ныне,
Как радостная весть о новой благостыне.
Кто может мне сказать: голубка средь ветвей
Поет о горестях иль радости своей?
Источен щит земли могилами, и надо
Считать их множество с возникновенья ада{247}.
Да будет легок шаг идущего! Покой
Тела истлевшие вкушают под стопой.
Хоть наших пращуров и след исчез мгновенный,
Не должно оскорблять их памяти священной.
Пускай по воздуху пройдет твоя тропа,
Чтоб гордо не топтать людские черепа.
В иной могиле смерть двух мертвецов сводила,
И радовалась их различию могила.
Но где один костяк и где другой костяк,
Спустя столетие не различить никак.
Созвездья севера поведать нам попросим —
Как много повидать прохожих довелось им,
В который раз они зардели в горней мгле,
Указывая путь бредущим по земле?
Изнеможение земная жизнь приносит,
И я дивлюсь тому, кто долголетья просит.
Печаль в тот час, когда несут к могиле нас,
Сильнее радости в наш изначальный час.
Для вечной жизни мы сотворены из глины,
И наша цель не в том, чтоб сгинуть в час кончины:
Мы только дом труда меняем все подряд
На темный дом скорбей иль светлый дом отрад{248}.
Смерть — это мирный сон, отдохновенье плоти,
А жизнь — бессонница, пристрастная к заботе.
Воркуйте, голуби{249}, и пусть ваш хор сулит
Освобождение от горя и обид.
Благословенное вас молоко вскормило,
В надежном дружестве благая ваша сила.
Вы помните того, кто был еще не стар,
Когда в могильный мрак сошел Йад ибн Низар{250}.
Пока вы носите на шее ожерелье,
Вам, голуби, милей не горе, а веселье.
Но песни счастья — прочь, и украшенья — прочь!
Одежды черные пусть вам одолжит ночь,
И, в них на сборище печальное отправясь,
Вы причитайте в лад рыданиям красавиц.
Рок посетил его, и завершил свой круг
Мудрец Абу Хамза, умеренности друг,
Великий златоуст, он мог бы силой слов
Преобразить в ягнят кровелюбивых львов.
Правдиво передав священные сказанья,
Он заслужил трудом доверье и признанье.
Отшельником он жил, в науки погружен,
Хадисы{253} древние умом поверил он
И, над писанием склоняясь неустанно,
Опустошил пером колодец свой стеклянный.
Он видел в золоте приманку суеты,
И не могло оно привлечь его персты.
Ближайшие друзья Абу Хамзы, вы, двое,
Прощание как снедь возьмите в путь с собою.
Слезами чистыми омойте милый прах,
Могилу выройте в сочувственных сердцах.
На что покойному халат золототканый?
Да станут саваном страницы из Корана!
Пусть восхваления идут за мертвым вслед,
А не рыдания, в которых смысла нет.
Что пользы — горевать! Уже остывшей плоти
Вы никаким путем на помощь не придете.
Когда отчаяньем рассудок помрачен,
На средства мнимые рассчитывает он.
К молитве опоздав, так Сулейман{254} когда-то
Своих коней хлестал, унынием объятый,
А он, как сура «Сад»{255} нам говорит о нем,
Для духов и царей был истинным царем.
Не верил людям царь и сына счел за благо
Предать ветрам, чтоб те его поили влагой.
Он убедил себя, что день судьбы настал,
И сыну своему спасения искал,
Но бездыханный прах судьба во время оно
Повергла на ступень родительского тропа.
В могиле, без меня, лишенному забот,
Тебе, мой друг, тяжел земли сыпучий гнет.
Врач заявил, что он ничем помочь не может.
Твои ученики тебя не потревожат.
Горюющий затих и понял, что сюда
Не возвратишься ты до Страшного суда.
Кто по ночам не спал, заснул сегодня поздно,
Но и во сне глаза горят от соли слезной.
Сын благостной семьи, без сожалений ты
Покинул шлюху-жизнь у гробовой плиты.
Переломить тебя и смерть сама не в силе.
Как верный меч в ножнах, лежи в своей могиле!
Мне жаль, что времени безумный произвол
Смесит в одно стопы и шеи гордый ствол.
Ты с юностью дружил. Она была готова
Уйти, но друга ты не пожелал другого,
Затем, что верности нарушить ты не мог,
А верность — мужества и доблести залог.
Ты рано дни свои растратил дорогие.
Уж лучше был бы ты скупее, как другие!
О уходящие! Кто в мире лучше вас?
И кто достойнее дождя в рассветный час,
Достойнее стихов, исполненных печали,
Что смыть бы тушь могли, когда б слезами стали?
Сатурн свиданию со смертью обречен,
Хоть выше всех планет в круговращенье он.
Дыханье перемен погасит Марс кровавый,
На небе высоко встающий в блеске славы,
Плеяды разлучит, хоть был до этих пор
Единством их пленен любующийся взор.
Пусть брат покойного своим врагам на зависть
Еще сто лет живет, с великим горем справясь,
Пусть одолеют скорбь в разлуке сыновья
И раны заживят под солнцем бытия!
Когда из моря мне напиться не хватило,
Бессильна мне помочь ручья скупая сила.
Как разрушению подвержен каждый дом —
И свитый голубем, и сложенный царем,
Мы все умрем равно, и не дворца громадой,
А тенью дерева довольствоваться надо.
По воле суеты не молкнет спор, и вот
Один приводит зло, другой к добру зовет.
Но те хулители, смущающие ближних,—
Животные, чья плоть бездушна, как булыжник.
Разумен только тот, кто правде друг и брат,
Кто бытию не лжет, несущему распад.
«Тебе, рыдающий…»
{256}Тебе, рыдающий, не лучше ль терпеливо
Ждать возвращения огня в твое огниво?
Тот, кто унынию подвержен в скорбный час,
Способен лишь на то, чтоб слезы лить из глаз.
Но не жалейте слез над гробом Джаафара:
Из жителей земли никто ему не пара.
Когда мы восхвалить достоинство хотим,
Всего уместнее одно сравнить с другим.
Благоуханьем ренд{257} не стал бы славен прежде,
Чем дерево кулям раскрыло листья в Неджде.
Неодинаково скорбит о друге друг —
Один в минуты встреч, другой в часы разлук.
Блаженно спящая покоится зеница,
Но устает, когда бессонницей томится.
Терзайся, если жизнь у гробовой плиты
И мог бы выкупить, да поскупился ты.
Звезда высокая, блуждающим в пустыне
Он путь указывал — и закатился ныне.
Он ближе, чем рука — руке, и навсегда
Останется теперь далеким, как звезда.
Рок, исполняющий жестокие угрозы,
Испепеляющий обещанные розы,
Какой обновы ты не превратил в старье?
Кто выжил, испытав нашествие твое?
Ты гордого орла хватаешь выше тучи,
Ты дикого козла свергаешь с горной кручи.
И благородному и подлому — свой срок,
Но смоет их равно могучий твой поток.
От знаний пользы нет, ум — тягостное бремя,
Неразумение доходней в наше время,
И опыт жизненный к спасенью от невзгод
В уединение разумного зовет.
Но, как язычники кумирам рукотворным,
Так сердце молится своим страстям тлетворным.
Приучен к бедствиям течением времен,
Я радуюсь цепям, которым обречен.
Когда бы стоимость себе мы знали сами,
Не похвалялся бы хозяин пред рабами.
Мы — деньги мелкие, мы — жалкая казна,
Нас тратят, как хотят, дурные времена.
Вчерашний день еще совсем недавно прожит,
Но выкормыш земли вернуть его не может.
Младенцу малому при тождестве могил
Уподобляется мудрец в расцвете сил.
И все равно теперь лежащему в могиле —
Под брань иль похвалы его похоронили.
Когда приходит смерть, равно бессилен тот,
Кто одинок, и тот, кто воинство ведет.
Потомка своего иль пращура хороним,
Равно мы слезы льем, печалимся и стонем.
Зачем же у детей, рождая их на свет,
Мы отымаем то, чего добился дед?
К почету следует идти дорогой правой,
А мы наследственной довольствуемся славой.
Когда б врожденных свойств лишился человек.
Богач в ничтожестве влачил бы жалкий век.
По маю месяцу скорбит душа людская,
А нужен ей не май, а только розы мая.
Мы просим господа с небес, как благодать,
Жизнь долголетнюю любимым ниспослать.
Нам сердце веселят влачащиеся годы,
Хоть и сулят они обиды и невзгоды.
Кто человеку враг? Его душа и плоть.
От воинов твоих избави нас, господь{258}!
Беда влюбленному от собственного пыла,
Мечу булатному — от верного точила.
Те, что румянец щек от ласки берегли,
Покорно падают в объятия земли
И терпят гнет ее, а мы и не успели
Забыть их жалобу на тяжесть ожерелий.
О, если б жаждущий, склоняясь над ключом,
Заране видел смерть, змеящуюся в нем!
Храбрец, чьей волею дорогами погони
Стремились красные и вороные кони,
Муж, океан войны в испытанном седле
Пересекавший вплавь на горестной земле,
Муж, для которого был как удар в лицо
Удар, чуть тронувший его брони кольцо,
Могучий муж — в бою, и нет врага в округе,
Способного копьем достичь его кольчуги.
Удары сыплются, растет их быстрый счет:
Так счетчик-фокусник число к числу кладет.
В один кратчайший миг, а может быть, быстрее
Он войско повернул десницею своею.
Но тут коварный рок спешит врагам помочь
И день блистательный преображает в ночь.
О брат погибшего под бурный гул сраженья!
Пять сыновей его — порука утешенья.
Беда пришла к тебе терпенье вымогать;
Не отдавай его, оно тебе под стать.
На бога уповай, затем что он, единый,
Источник истинный отрады и кручины.
От смерти не уйдут и превратятся в прах
Копье в чехле своем и меч в своих ножнах.
Кто и мечтать не мог при жизни о покое,
Вкушает под землей забвение благое.
И как находит лев жилье в лесу густом,
Так солнце истины да придет в каждый дом.
«Человек благородный…»
Человек благородный везде отщепенец
Для своих соплеменников и соплеменниц,—
Он вином темно-красным их не угощает
И неопытных девственниц не обольщает.
Наилучшая доля на свете — смиренье:
Даже хлеб наш несытный — благое даренье
Рассыпается пеплом сгоревшая младость,
И чертоги средь звезд человеку не в радость
На любовь я отвечу любовью по чести,
Буду льстить, и любовь ослабеет от лести.
Завершается детство к пятнадцатилетью,
К сорока увлеченья не кажутся сетью.
Ты навряд ли доволен одеждой простою,
Но глупцом прослывешь без абаи{259} зимою.
Возрастает на этой земле каменистой
Защищенный шипами терновник душистый.
Нет еще окончанья Адамову роду,
Но женитьбой свою не связал я свободу.
Амр зевает, и Халид{260} зевнул большеротый,
Но меня миновала зараза зевоты.
Крылья знаний меня от людей отлучили,
Я увидел, что люди — подобие пыли.
Опален мой камыш и подернут золою,
И теперь я бессилен исправить былое.
Пред судьбою склоняется лев, не противясь,
Держит страх куропатку степную, как привязь.
Преступленье свершает отец, порождая —
Все равно — мудреца иль правителя края;
Чем твой сын даровитей, тем выше преграда
Между вами, тем больше в душе его яда:
Тьмы загадок на сына обрушил ты разом,
Над которыми тщетно терзается разум.
Днем и ночью писателей алчная стая
Завывает, к обману людей призывая.
Смерть таится средь скал и в долинах просторных
И на поиски жертв посылает дозорных.
Лев дрожит, если близко мечи зазвенели.
Как судьбы не страшиться пугливой газели?
«Молюсь молитвой лицемера…»
Молюсь молитвой лицемера, прости, мой боже!
Но лицемерие и вера — одно и то же.
Порою человек бывает приятен с виду,
А слово молвив, заставляет глотать обиду.
Твердить без веры божье имя и лгать о боге —
Нам с лицемерами такими не по дороге.
«Побольше скромности!..»
Побольше скромности! Я — людям не судья.
Не покриви душой — себя судил бы я.
Когда нам, господи, забвенье ниспошлют,
И мы в земле найдем последний свой приют?
Но не спешит душа из-под недвижных век:
Вплоть до нетления страдает человек.
«За ночью день идет…»
За ночью день идет, и ночь сменяет день,
Густеет злой судьбы губительная тень.
В могилах без числа почиют хаджарийцы{263}
И Йемена цари — святые и убийцы.
Былым правителям давно потерян счет,
А вот Египет — цел, и Аль-Ахса живет.
Будь проклята, земля! Пред нами ты в ответе.
Исчадья подлости подлее всех на свете.
О горе, мать-земля! Поистине, сама
Ты наставляла нас, и лгут, что ты нема.
На что нам Сахр ибн Амр{264}, иссохший, как Сахара?
Быть может, Аль-Ханса блуждает ланью старой.
Твой океан кипит. Плывущих по волнам
Терзает сто страстей. Когда причалить нам?
И если ты, земля, когда-нибудь любила,
То в гневе своего избранника губила.
Бьет ненависть в чело и валит с ног живых,
И дикость кровь струит из вен отверстых их.
Да не смутит тебя ни вид их величавый,
Ни власть мгновенная, ни блеск их дутой славы!
Не много радостей изведали они,
И не по воле их пришли дурные дни.
«Когда присмотришься к живущим…»
Когда присмотришься к живущим на земле —
Что человек, то нрав. Но все равны во зле.
И если на меня похожи дети Евы,
То что вы стоите? Да пропадите все вы!
Как бейт с неправильным по метрике стихом,
Как вздор, написанный неграмотным писцом,
Так ваша близость мне под жалкой вашей сенью.
Пора недужный дух предать уединенью.
Хоть до Лива ар-Рамль ты, странник, не дошел,{265}
Довольно, отойди! Засох древесный ствол,
И на висках твоих в напоминанье света
Белеет старости печальная примета,
И веки у тебя слезятся потому,
Что жаль последних звезд, чуть брезжущих сквозь тьму.
«Отдай верблюда людям…»
Отдай верблюда людям по правилу мейсира{266},
Молчи: твои созвучья — что звук пустой для мира.
Огню подобна юность; гляди же, чтоб недаром
За днями дни сгорели, воспользуйся их жаром.
Мой уголь гасит стужа и проникает в кости,
А я огонь раздую, скажу: «Погрейтесь, гости!»
Мой поздний собеседник, сдружившийся со мною,
Последний жар засыпал остывшею золою.
«От взора свет бежит…»
От взора свет бежит. Сиянье меркнет. Вера —
Вооружение лжеца и лицемера.
Ужель прольется дождь небесных благ для тех,
Кто забывает стыд среди земных утех?
О, лживый мир! А мы не знали, что в мечети
Безгрешны все подряд, как маленькие дети!
О жалкая земля, обитель горя, плачь!
Тебя хулил бедняк и посрамлял богач.
О вы, обман и ложь призвавшие в подмогу!
Поистине, из вас никто не близок богу.
Когда бы по делам господь судил людей,
Не мог бы избежать возмездия злодей.
А сколько на земле мы видели пророков,
Пытавшихся спасти людей от их пороков,
И все они ушли, а наши беды — здесь,
И ваш недужный дух не исцелен поднесь,
Так предопределил господь во дни творенья
Созданьям рук своих, лишенным разуменья.
«Восславим Аллаха…»
Восславим Аллаха, кормильца земли!
Отвага и стыд от людей отошли.
Для щедрого сердца в смертельной болезни
Могильный покой всех бальзамов полезней.
Опеку возьму я над опекуном —
Душой, обитающей в теле моем.
И денно и нощно в толпе правоверных
Искал я молящихся нелицемерных.
Нашел я, что это бессмысленный скот,
Который вслепую по жизни бредет.
А кто половчей, тот с повадкой пророка
В гордыне великой вознесся высоко.
Посмотришь, одни — простецы и глупцы,
Другие — обманщики и хитрецы.
Безропотность за благочестье сочли вы,
Тогда и ослы ваши благочестивы,
Чесоточные, под ветрами степей,
Они, безглагольные, вас не глупей.
Мы нищие души: то рвань, то заплаты…
Но всех на поверку беднее богатый.
Мы смерть ненавидим и в жизнь влюблены,
А радостью любящих обойдены.
При жизни мы верных друзей не встречали,
По смерти мы внемлем притворной печали.
Познало бы солнце, что блещет впотьмах,
Жалело бы о расточенных лучах.
«Мне улыбаются мои враги…»
Мне улыбаются мои враги, пока
Их стрелы сердце мне язвят исподтишка.
Я избегаю их, и нам не будет встречи:
Мы — буквы «за» и «заль» в словах арабской речи{267}
«Я горевал…»
Я горевал, когда под оболочкой дня
Все больше голова белела у меня.
Но чернота волос… быть может, это грязь?
И зубы чистые блестят, как день, светясь.
Мы любим эту жизнь, подобную любви
Тем, что сердца у нас и от нее в крови.
Стенает человек: «Продлись!» А жизнь — в ответ:
«Ни часа лишнего! Теперь на мне запрет».
Когда же кончится безвременье разлук
И встретит жизнь свою ее влюбленный друг?
Не раз твой верный щит спасал тебя от стрел.
Смирись и брось его, когда твой час приспел.
Я не похож на тех, кто, чуя смерти сеть,
Твердит, что все равно — жить или умереть.
Молитву совершать приходится, когда
Для омовения принесена вода.
Решимости былой тебя лишает ночь.
Друзья-созвездия спешат тебе помочь.
О верные друзья моих незрячих глаз,
Ведите и меня встречать последний час!
Нет горше ничего, чем жизни маета.
А горек твой глоток, так выплюнь изо рта.
«Что со мною стряслось?..»
Что со мною стряслось? Я сношу терпеливо беду,
Бейтам Рубы{268} под стать, перемены судьбы я не жду.
Стал я точным подобием слабого звука в глаголе.
Над врачами смеются мои застарелые боли.
Жизнь моя затянулась, пора мне домой из гостей,
Мать-пустыня взыскует моих долгожданных костей.
Разве я из-за пьянства дойти не могу до постели?
От ночных переходов колени мои ослабели.
Надоела мне жизнь, истомил мою душу народ,
Чей правитель нещедрый лишил его добрых забот.
Говорят, что правитель — народу слуга и защита,
А у нас попеченье о благе народа забыто.
Убедился я в том, что не вдосталь еды у людей,
Что подлейших из подлых писатели наши подлей.
То и дело хадисы твердят наизусть грамотеи,
А богатство их сделало крыс ненасытных жаднее.
Преступи хоть на палец предел установленных прав,
Отвернется твой друг, отщепенцем тебя обозвав.
Так размеренный стих, измени в нем единое слово,
Даже букву одну, — от себя отвращает любого.
Спящий сном любовался, а жизнь безвозвратно прошла.
Чем же сон одарил его, кроме убытка и зла?
Славь деянья создавшего землю тебе на потребу,
Над которой созвездия пламень проносят по небу!
Знает зависть и конь, на чужую косится судьбу
И завидует тем, что со звездочкой белой во лбу.
Жизнь — как женщина в дни очищенья: желанна,
Да помочь нам не может. Но жизнь такова постоянно.
Не пресытившись ею, от жизни уходит богач;
Бедный тоже уснет и не вспомнит своих неудач.
Спорят, ссорятся жизнелюбивые законоведы,
Ищет мудрость их мнимая славы и легкой победы.
Я пристрастие к жизни хотел бы себе запретить,
Но лица не могу, не могу от нее отвратить.
«Ученых больше нет…»
Ученых больше нет, и мрак объемлет нас,
А человек простой в невежестве погряз,
Приметных некогда, как вороные кони,
Наставников лишась в годину беззаконий.
И жены и мужи, мы все до одного —
Рабы ничтожные для бога своего.
Ему подвластно все: и месяц, и Плеяды,
И полная луна, и горные громады,
Звезда Полярная, созвездье Льва, заря,
И солнце, и костер, и суша, и моря.
Скажи: «Велик господь, руководитель света!» —
Тебя и праведник не упрекнет за это.
О брат, недолго мне терпеть земную боль.
У неба испросить прощенья мне дозволь!
Ты скажешь: праведность. Но это только слово,
Есть лица, имена — и ничего иного.
Хадисы вымыслил обманщик в старину,
Чтоб ради выгоды умы держать в плену.
Взгляни на сонмы звезд. По мне, узоры эти —
Судьбою над людьми раскинутые сети.
Дивлюсь: невыносим судьбы железный гнет,
Один ее удар сильнейшим спину гнет,
А людям невдомек, что смерть играет ими,
Когда горбы могил встают над их родными.
Неправда на земле царит с начала дней
И в ярости казнит мудрейших из людей.
От смерти, Асами{269}, бежать не стоит в горы:
Непререкаемы у смерти приговоры.
Четыре составных{270} слились в живую плоть,
Одна стремится часть другие побороть;
Здорова плоть, когда в ладу они друг с другом,
А несогласье их предшествует недугам.
Наш век и нем и груб; напрасно хочешь ты
Понять невнятные сужденья немоты.
Жизнь — полосы ночей, сменяющихся днями:
Змея двуцветная, ползущая за нами.
Пред смертью мы в долгу; в определенный час
Заимодавица всегда находит нас.
Из чистого ключа спешит напиться каждый
С тех пор, как в оны дни погиб Кааб от жажды.{271}
И лилии садов, и мирные стада,
И стаи хищные равно поит вода.
Когда бы дел своих последствия мы знали,
Как воду, кровь тогда мы лили бы едва ли.
Кто сострадателен от первых лет своих,
Тот сострадания достойней остальных.
Мы правды не хотим и гневно хмурим брови,
Когда нам говорят, что грех у нас в основе.
Адам, я вижу твой поросший шерстью лоб
И Еву из числа пятнистых антилоп.
Мы — пища времени. Никто в заботах света
Не плачет над конем разбойного поэта{272}.
Мир в замешательстве, как зверь в морских волнах,
Как птица в грозовых кипящих облаках.
Душистый аль-бахар{273}, питомец мирной лени,
Шипами защищен от наших покушений.
Жизнь — быстролетный миг, и мало пользы в том,
Что колют нас копьем и рубят нас мечом.
В ком сердце черное, тот черен сам и слуха
Лишен, тогда как я — всеслышащее ухо.
Ты выпустил стрелу, попала в цель стрела,
Зато душа твоя до цели не дошла.
Рок благородного ввергает в море бедствий.
Амр{274} матери своей лишился в раннем детстве.
Главою крепости был Самуил{275}-поэт,
Она еще стоит, а Самуила нет.
На собеседника Плеяда перст уставит,
И смерть ваш разговор прервать его заставит.
Персты шести Плеяд, причастных небесам,
О силе божией свидетельствуют нам.
Разумный человек — безумного подобье,
Все беды для него судьба готовит в злобе.
В могиле мать и дочь. Коса расплетена,
Коса заплетена… Но смерти смерть равна.
Видения весны кромешной белизною
И дикой чернотой подменит время зноя.
Пересекающий безводные края,
Ведущий к смерти путь возненавидел я.
Окрест ни шороха, ни дружественной речи.
Мой путь — двуострый меч, всегда готовый к сече.
Зачем же благ земных не делит с бедным тот,
Кто вдоволь ест и пьет и в роскоши живет?
«Живу я надеждой на лучшие дни…»
Живу я надеждой на лучшие дни.
Надежда советует: «Повремени!»
Душа моя тешится горьким вином,
Доколе мне смерть не прикажет: «Идем!»
«Добивается благ только тот…»
Добивается благ только тот, кто привык
И в горячке держать за зубами язык.
Обернется грехом торопливая речь,
А молчанью дано от греха уберечь.
Если низкий вознесся превыше горы,
То высокий — посмешище смутной поры.
Ты, что хочешь бежать от невзгод, не спеши!
Что ни дом — ни одной беспечальной души,
Нет под кровлями необесчещенных жен,
Сын Адама багряным вином опьянен.
Скоро в нищей одежде правитель страны
Снидет в царство, где нет ни дворца, ни казны.
«Дочерей обучайте шитью…»
Дочерей обучайте шитью да тканью, а письму
Или чтению внятному их обучать ни к чему.
Сила женских молитв — добродетель и память добра,
А Коран не для них: что им Юнус и что Бараа{276}?
Ты певиц из-за полога слышишь, и видит твой взор,
Как бездушную ткань сотрясает и морщит позор.
«Уединись! Одинок твой создатель…»
Уединись! Одинок твой создатель поистине.
В дружбе царей не ищи утешительной пристани!
Ищет приятелей бедность, но если их нет,
Юноше легче уйти от пороков и бед.
Чтоб вам пропасть, дни глухие и ночи кромешные,
Род мой ничтожный, мужчины и женщины грешные!
О, умереть бы младенцу в пеленках, пока
Он из сосцов роженицы не пил молока!
Вот он — живет и клянет ее без языка еще:
«Много вреда я еще принесу ей, страдающей!»
«Когда в науке нет…»
Когда в науке нет ни сердцу обороны,
Ни помощи уму — пускай умрет ученый!
Судьбы не изменить: ее судил Аллах,
И мудрость мудрецов развеялась, как прах.
Не может человек бежать велений бога,
От неба и земли отвлечься хоть немного.
По торному пути покорным чередом —
Потомки умерших — мы к пращурам идем.
Давно я не дивлюсь тому, что пресыщенье
И муки голода — в противоположенье.
Стреляю, но врага щадит моя стрела,
Зато стрела судьбы мне прямо в грудь вошла.
В побеге лиственном сокрыта кость людская,
И кровь от корня вверх течет, не иссякая.
Зло не смыкает глаз и головы сечет,
Как предугадывал разумный звездочет.
Растратив золото на щедрые даянья,
Великодушие лишается признанья.
Жизнь порождает страх, и люди как во сне
Летят во весь опор у страха на спине.
Проснитесь наконец, обманутые дети!
Вы слепо верите лжецам былых столетий.
Корыстолюбие, не знавшее препон,
В могилу их свело, и умер их закон.
Они твердили вам, что близок день последний,
Что свет кончается, — но это были бредни,
Но это ложь была! Не слушайте речей
Извечной алчностью палимых главарей!
И ближний, как чужак, порой наносит рану.
Благоразумие да будет вам в охрану.
Я сердце оградил от радостей земных,
Когда увидел смерть в числе врагов своих.
«О земные цари!..»
О земные цари! Вы мечтаете смерть обмануть,
Но единым злодейством означили жизненный путь.
Что же истинной доблести вы не спешили навстречу?
Даже баловень женский порой устремляется в сечу.
Люди верят, что будет наставник ниспослан судьбой,
Чья высокая речь зазвучит над безмолвной толпой.
Не томись в ожиданье, надежду оставь, земножитель!
Для тебя твой рассудок — единственный руководитель.
Он во благо тебе, чти его справедливый устав
И в скитаньях своих, и на якорь у пристани став.
Это множество сект для того существует на свете,
Чтоб царей и рабов завлекать в хитроумные сети.
Люди чашами пьют наслаждений губительных яд,
Ни смиренницы юной, ни гордой жены не щадят,
Как восстания зинджей{277} жестокий главарь или злобный
Вождь карматский… Поистине, все на земле им подобны.
Удались от людей, только правду одну говорящий,
Ибо правда твоя для внимающих желчи не слаще.
«Ни на один приказ…»
Ни на один приказ, ни на один совет
Мне от моей души в ответ ни слова нет.
В ошибках каяться? Но поглядите сами:
Числом они равны песчинкам под стопами.
Существование не стоит мне забот.
Не все ли мне равно, кто хлеба принесет
И кто мне уделит от своего запаса —
Плеяды, Сириус иль звезды Волопаса?
«О сердце, горсть воды…»
О сердце, горсть воды, о сердце наше, где
Причуды мечутся, как пузырьки в воде!
Что изменяет их, и что там колобродит,
И что Асму и Хинд в минувшее уводит?
Словарь — что человек: в нем и добро и зло.
В составе нашем все, что мрачно и светло.
Мы будем времени служить питьем и пищей,
Доколе в богача не превратится нищий.
Как сокол — кроликов, лишенный прежних сил,
В несчастье Кайс{278} врагов о милости просил.
По мне, к достойнейшим такой не сопричтется:
Душе пристало пить из чистого колодца.
«В Египте — мор…»
В Египте — мор, но нет на свете края,
Где человек живет, не умирая.
Рассудок наш у смерти на виду
Пытается предотвратить беду.
Какой араб, иль перс, иль грек лукавый
В расцвете сил, величия и славы —
Пророк иль царь — остался невредим,
Когда судьба открылась перед ним?
Закон стрелы: лететь быстрей, чем птица,
Щадить стрелка и крови не страшиться.
Своей спиной, как пленные рабы,
Мы чувствуем следящий взор судьбы.
«Разумные созданья…»
Разумные созданья бессмертного творца
Идут путем страданья до смертного конца,
И смертным смерть вручает подарок дорогой:
Наследникам — наследство, покойнику — покой.
«Говорящим: «Побойся…»
Говорящим: «Побойся всезрящего бога!» —
Отвечай: «Хорошо, погодите немного!»
Семизвездью, играющему в буккару{279},
Уподоблю цветы и траву на ветру.
Но никто из живых ни в почете, ни в славе
Уподобиться канувшим в землю не вправе.
Я другим подражаю, стараюсь и я
Приспособиться к путанице бытия.
Многим смысл бытия разъясняет могила,
А меня жизнелюбие опустошило.
Мне, по правде сказать, не опасен сосед,
Я и знать не желаю — он друг мне иль нет,
Потому что моя не красива невеста
И насущный мой хлеб не из лучшего теста.
«Преследователь спит…»
Преследователь спит. Мы в темный час идем.
Отважный свой поход мы будем славить днем.
Богатства на земле взыскует человек —
И в чистой кипени надмирных звездных рек.
Воитель со щитом, жнец со своим серном.
Чьим хлебом первый сыт, обходят землю днем
И возвращаются под звездами домой —
С убытками один, со славою другой.
И все, кто сеет хлеб, и все, кто ищет клад,
Стригут своих овец и прочь уйти спешат.
Где быть седлу — окно, где быть окну — седло.
Все в жизни у тебя навыворот пошло.
И время у тебя скользит, как темнота,
Как саранча, когда бледнеет красота
Изглоданной травы… О, сирые края!
Из рта верблюжьего так тянется струя
Слюны из-под кольца, когда в глуши степной
Тиранит всадника невыносимый зной.
Ты брата своего всегда судить готов,
А на твоем челе — печать твоих грехов.
Ты вовсе не похож на льва из аш-Шари{280},
Ты — волк. Тогда молчи и брата не корп.
Жизнь медленно ползет, пока надзора нет;
Посмотришь — нет ее, давно пропал и след
Повсюду власть свою распространило зло,
Проникло в каждый дол и на горы взошло.
Пусть говорливостью гордится острослов,
Что Мекку восхвалял: «О матерь городов!»
«О матерь тьмы ночной!» — так он лозу нарек
Пусть будет молчалив разумный человек.
Стремишься к выгоде, а что находишь ты?
Сам назовешь себя добычей нищеты.
И пусть не лжет злодей, что он аскет прямой!
О, как мне обойти такого стороной?
Когда ты смерть свою увидишь впереди,
Скажи: «Презренная, смелее подходи!»
Скажи: «Убей меня!» Когда она грозит,
Не стоит прятаться за бесполезный щит.
Возвышенных надежд моя душа полна;
Столкнут ее с горы дурные времена.
С престола своего нисходит гордый князь,
Бледнеет плоть его, преображаясь в грязь,
Уходит, бос и наг, и князю не нужны
Ни земли многие, ни золото казны.
Когда приходит гость еще в пыли пустынь,
Встань и приветь его и хлеб к нему придвинь.
Не презирай того, кто беден, слаб и мал,
Такой и льву не раз в несчастье помогал.
Стремятся юноши к походам боевым,
А рассудительность потом приходит к ним.
На смерть мой сон похож, но пробуждаюсь я,
А смерть — всевечный сон вдали от бытия.
И пусть бранят меня, пусть хвалят — все равно,
Раз тело бренное уже погребено.
И все равно теперь истлевшему в земле,
В чем повод к смерти был: в копье или в стреле.
Кто воду из бадьи в степи безлюдной пьет,
А кто с людьми живет и собирает мед.
Есть мед — и хорошо, а меда нет — беда,
Но не тужи, не плачь, не жалуйся тогда.
И мы состарились, как пращуры до нас.
А миг похож на миг, и час похож на час,
И ночь сменяет день, и ясная звезда
Восходит в небесах и тает — как всегда.
«Одно мученье — жизнь…»
Одно мученье — жизнь, одно мученье — смерть.
Но лучше плоть мою прими, земная твердь!
Пуста моя рука и нёбо пересохло,
Но жадно смотрит глаз и ухо не оглохло..
Глядите: человек выходит со свечой,
Чтоб высоко поднять огонь во тьме ночной.
Ему потребен врач, он тешится надеждой
Насытить голод свой и плоть прикрыть одеждой.
Но тот, кто спит в земле, избавясь от забот,
Ни разорения, ни прибыли не ждет.
Копье, петля и меч ему всю жизнь грозили,
Он покорялся их неодолимой силе,
Но не страшится он в объятиях земли
Ни длинного копья, ни шелковой петли,
Ни острого меча. Лишившемуся тела
До кличек и обид нет никакого дела.
За брань и похвалы, покинув этот свет,
Он благодарен всем. Но мертвым счастья нет!
Пускай завистники своей достигнут цели,
Чтоб смерть у мертвецов отнять не захотели.
Душа-причудница служанку-плоть бранит,
А плоть покорствует и верность ей хранит,
И каждый замысел своей хозяйки вздорной
Спешит осуществить исправно и покорно.
Растение плоду все соки отдает,
А человек ножом срезает этот плод.
И кто-то седину закрашивает хною;
Но как же быть ему со сгорбленной спиною?
И кто-то вздор несет, рассудок потеряв,
Пока не схватит смерть безумца за рукав.
Все на одно лицо: исполненный гордыни
Сын знатной женщины и жалкий сын рабыни.
Смерть приготовила напиток для меня
И сохранит его до рокового дня.
Хоть время говорит отчетливо и внятно,
А все же речь его не каждому понятна.
И тлен и золото — у времени в руках.
Где прежде был дворец, там вьется мелкий прах.
Обитель райская открыта человеку,
Зане он совершилпаломничество в Мекку!
«Довольствуй ум досужий…»
Довольствуй ум досужий запасом дум своих,
Не обличай порока, не укоряй других.
Своей бедой не надо судьбе глаза колоть,
Когда преступно сердце и многогрешна плоть.
Хоть привяжись он втайне веревкою к звезде,
От смерти злой обидчик не спрячется нигде.
Разит, как рот девичий, смертельное копье,
Меж ребер клык холодный — и ты в руках ее.
Она и без кольчуги — что дева без прикрас.
Хинд и Зейнаб — вот поле ее войны сейчас.
Верблюд изнемогает и дышит тяжело,
А смерть опять бросает добычу на седло.
Повержен храбрый воин, и кровь, как водомет,
Шипит в глубокой ране и прямо в небо бьет.
Теперь его согбенной не выпрямят спины
Ни конь великолепный, ни трубный клич войны.
«Ты в обиде на жизнь…»
Ты в обиде на жизнь, а какая за нею вина?
Твой обидчик — ты сам. Равнодушно проходит жена.
И у каждого сердце палящей любовью объято,
Но красавица в этом пред встречными не виновата.
Говорят, что — бессмертная — облика ищет душа
И вселяется в плоть, к своему совершенству спеша.
И уходит из плоти… По смерти — счастливым награда
В благодатном раю, а несчастным — страдания ада.
Справедливого слова не слышал питомец земли,
Истязали его, на веревке по жизни влекли.
Если мертвая плоть не лишается всех ощущений,
То, клянусь тебе, сладостна смерть после стольких мучений.
«От мертвых нет вестей…»
От мертвых нет вестей, ушли, не кажут глаз,
Но, может быть, они богоугодней нас?
В неотвратимый час душа дрожит от страха.
Но долголетие… уж лучше сразу — плаха.
Все люди на земле сойдут в могильный прах —
И здесь, в родном краю, и там, в чужих краях.
Обречена земля искать питья и пищи;
Вода и хлеб ее — то царь, то жалкий нищий.
Нам солнце — лучший друг, а мы бесстыдно лжем,
Что поделом его бранят и бьют бичом.{281}
Во гневе месяц встал, едва земля заснула;
Но и его копье с налету смерть согнула.
Всевидящий рассвет уже заносит меч,
Чтоб людям головы сносить наотмашь с плеч.
«Подобно мудрецам…»
Подобно мудрецам, и я теперь обрушу
Разгневанную речь на собственную душу.
Из праха плоть пришла и возвратится в прах,
И что мне золото и что стада в степях?
О низости своей толкует жизнь земная
На разных языках и, смертных удивляя,
Разит без промаха своих же сыновей.
Мне, видно, суждено не удивляться ей.
Я жил — и жизнью сыт. Жизнь — курица на блюде,
Но в сытости едой пренебрегают люди.
У жизнелюбия — причина слез во всем;
И в солнечных лучах, и в сумраке ночном.
От вздоха первого в день своего рожденья
Душа торопится ко дню исчезновенья.
Верблюды и быки спешат на водопой
Прямой, проверенной и правильной тропой.
И как путем кривым идти не страшно людям
Под копьями судьбы, нацеленными в грудь им?
Мне опротивел мир и мерзость дел мирских,
Я вырваться хочу из круга дней своих.
Отбрось тяжелый меч и щит свой бесполезный.
Смерть опытней тебя. Она рукой железной
И голову снесет, и в цель стрелу пошлет,
И распылит войска — непрочный твой оплот.
Она взыскует жертв и насыщает щедро
Телами нашими земли немые недра.
«Никогда не завидуй…»
Никогда не завидуй избранникам благополучия.
Жизнь их тоже смертельна, и все мы зависим от случая.
Чувства тянутся к миру, и страждет душа неразумная.
Есть у времени войско, а поступь у войска — бесшумная.
Если б знала земля о поступках своих обитателей,
Верно, диву далась бы: на что мы свой разум растратили?
Лучше б не было Евы с повадкой ее беспокойною.
Влажность ранней весны превращается в засуху знойную.
О невыгодном выборе ты не жалеешь пока еще,
Но ты сломлен, очищен и ветвью поник увядающей.
Не для мирной молитвы ты прячешься в уединении,
Ты себя устыдился, бежал от стороннего мнения.
Мне — душа: «Я в грязи, я разбита и обезоружена!»
Я — душе: «Примирись! Эта кара тобою заслужена».
«На свете живешь…»
На свете живешь, к наслаждениям плоти стремясь,
Но то, что приносят тебе наслаждения, — грязь.
Измыслил названия, сушу и воды нарек,
И месяц, и звезды… Но как ты солгал, человек!
Тот взор, что на солнце порочная плоть возвела,
К земле на поверку притянут веревками зла.
«Так далеко зашли мы…»
Так далеко зашли мы в невежестве своем,
Что мним себя царями над птицей и зверьем;
Искали наслаждений в любом углу земли,
Того добились только, что разум растрясли;
Соблазны оседлали и, бросив повода,
То вскачь, то рысью мчимся неведомо куда.
Душа могла бы тело беречь от всех потерь,
Покуда земляная не затворилась дверь.
Учи тому и женщин, чье достоянье — честь,
Но будь поосторожней! Всему границы есть.
Прелюбодейка спрячет под платом уголь глаз,
И верная откроет свое лицо подчас.
Дни следуют за днями, а за бедой — беда.
От зла на белом свете не скрыться никуда.
Гостить у нас не любят ни тишь, ни благодать;
Того, что ненавистно, от нас не отогнать.
Порой благодеянье ущерб наносит нам,—
Тогда врагов разумно предпочитать друзьям.
Приди на помощь брату, когда он одинок.
Душе во благо веет и слабый ветерок.
«Муж приходит к жене…»
Муж приходит к жене, ибо страсть отягчает его,
Но от этого третье родится на свет существо.
И пока девять раз будут луны друг друга сменять,
Истомится под бременем тяжким страдалица мать.
К тем извечным стихиям она возвратится потом,
От которых мы все родословные наши ведем.
«Сыны Адама с виду хороши…»
Сыны Адама с виду хороши,
Но мне по нраву ни одной души,—
Отрекшейся от суеты сует
И алчностью не одержимой, — нет.
Я камень всем предпочитаю: тот
Людей не притесняет и не лжет.
«О племя писателей!..»
О племя писателей! Мир обольщает ваш слух
Напевом соблазнов, подобным жужжанию мух.
Кто ваши поэты, как не обитатели мглы —
Рыскучие волки, чья пища — хвалы и хулы.
Они вредоносней захватчиков, сеющих страх,
Как жадные крысы, они вороваты в стихах.
Ну что же, примите мои восхваленья как дань:
В них каждое слово похоже на резкую брань.
Цветущие годы утратил я в вашем кругу
И дней моей старости с вами делить не могу.
Уже я простился с невежеством ранним своим,
И хватит мне петь племена ар-рабаб и тамим{282}.
«Если в нашем кочевье…»
Если в нашем кочевье объявится мудрый ар-раид{283},
Кто в награду его не приветит и не обласкает?
Он сказал бы: «Вот земли, где колос недугом чреват,
Где в колодцах отрава и влага источников — яд.
Здесь мучительна жизнь. Как ни бились бы вы, все едино,
Вам не будет пощады. Взыскуйте иного притина.
Уходите отсюда! Примите разумный совет,
Ибо здесь не бывает ни часа без горя и бед.
Ускоряйте шаги! Путь спасения вам не заказан.
Правду я говорю, — я веревками кривды не связан».
«В обиде я на жизнь иль не в обиде…»
В обиде я на жизнь иль не в обиде,
Но смерть свою приму я, ненавидя.
В ожесточенье ждет моя природа
Ее неотвратимого прихода.
Но я столь грозной силе не перечу
И терпеливо движусь ей навстречу.
Уйду — и все несчастья и тревоги
Останутся на жизненной дороге.
Я — как пастух, покинутый в пустыне,
Забочусь о чесоточной скотине.
Как дикий бык, лишенный прежней мощи,
Ищу губами хоть травинки тощей.
Но вскоре у забвения во власти
Я распадусь на составные части.
Не знаю дня такого, чтобы тело
Помолодело, а не постарело.
И у меня, о дети Евы, тоже
Проходит страх по ежащейся коже.
Непритуплённый меч, готовый к бою,
Навис и над моею головою.
Удар меча тяжел, но смерть в постели,
А не в сраженье во сто раз тяжеле.
С природой нашей вечное боренье
Приводит разум наш в изнеможенье.
Я заклинаю: встань, жилец могилы,
Заговори, мой брат немой и хилый.
Оповести неопытного брата —
Какими хитростями смерть богата?
Как птичью стаю сокол бьет с налета,
Так на людей идет ее охота.
Как волк бродячий режет скот в загоне,
Так смерть — людей в юдоли беззаконий.
Ее клеймо — на стае и на стаде,
Она не слышит просьбы о пощаде.
Я думаю, все небо целокупно
У смерти под рукою неподкупной,
Настань их время — звезд не сберегли бы
В своих пределах ни Весы, ни Рыбы.
Все души зрит ее пустое око
Меж точками заката и востока.
Подарком не приветив человека,
Смерть входит в дом араба или грека.
И, радуясь, не отвращает лика
От смертной плоти цвета сердолика.
Она — любовь. У любящих в природе
Пренебреженье к прежней их свободе.
Ушедших не тревожит посетитель:
Удалена от мира их обитель.
И я гордился черными кудрями,
Как вольный ворон черными крылами.
Но жизнь прошла, и старость поразилась:
Как в молоко смола преобразилась?
Бурдюк с водой — и ничего иного
Нет у меня для странствия ночного.
«Рассудок запрещает…»
Рассудок запрещает греховные поступки,
Но к ним влечет природа и требует уступки.
В беде житейский опыт не может нам помочь:
Мы доверяем кривде, а правду гоним прочь.
«Я мог на горе им…»
Я мог на горе им увлечь их за собою
Дорогой истины иль близкой к ней тропою.
Мне надоел мой век, я веку надоел.
Глазами опыта я вижу свой удел.
Когда придет мой час, мне сам собою с плеч
Седую голову снесет индийский меч.
Жизнь — верховой верблюд; мы держимся в седле,
Пока воровка смерть не спрячет нас в земле.
Аль-мутакарибу{284} подобен этот мир,
И на волне его я одинок и сир.
Беги, утратив цель! С детьми Адама связь
Наотмашь отруби, живи, уединясь!
Сражайся иль мирись, как хочешь. Друг войны
И мирной жизни друг поистине равны.
«Лучше не начинайте болтать…»
Лучше не начинайте болтать о душе наобум,
А начав, не пытайте о ней мой беспомощный ум.
Вот прощенья взыскав, человек многогрешный и слабый
Носит крест на груди иль целует устои Каабы{285}.
Разве скину я в Мекке невежества душный покров
Средь паломников многих из разноязыких краев?
Разве чаша познанья для уст пересохших найдется
У паломников йеменских, не отыскавших колодца?
Их пристанища я покидаю, смиренен и тих,
Чести их не задев, не унизив достоинства их.
Молока не испив, ухожу, и погонщикам стада
Слова я не скажу, будто мне молока и не надо,
И в могиле меня обоймет утешительный плен,
Не разбудит в ночи завывание псов и гиен.
Тьмы рабов у тебя, ты несметных богатств обладатель,
Но не рабской неволей ты столь возвеличен, Создатель!
«Сколько было на свете красавиц…»
Сколько было на свете красавиц, подобных Плеядам,
А песок и для них обернулся последним нарядом.
Горделива была, отворачивалась от зеркал,
Но смотреть на нее — другу я бы совета не дал.
«Поистине, восторг…»
Поистине, восторг — души моей природа,
Я лгу, а ложь душе — напиток слаще меда
Есть у меня господь, и, если в ад сойду,
Он дьяволу меня терзать не даст в аду
И жить мне повелит в таких пределах рая,
Где сладкая вода тенет, не убывая.
Тогда помои пить не мне в аду на дне,
Смолу на темя лить никто не будет мне.
«Человек — что луна…»
Человек — что луна: чуть свеченье достигнет предела,
Начинает истаивать белое лунное тело.
Люди — что урожай: снятый, он возрождается в поле
И, волнуясь, как прежде, сдается жнецу поневоле.
Не на пользу ли нам расточения вечное диво?
Мускус благоуханней, растертый рукой терпеливой.
«Мы на неправде сошлись…»
Мы на неправде сошлись и расстались, и вот — на прощание
Понял я нрав человека: его драгоценность — молчание.
Лжет называющий сына: «Живущий». Зато никогда еще
Не был правдивее тот, кто ребенка назвал: «Умирающий».
«Мы сетуем с утра…»
Мы сетуем с утра и жизнь спешим проклясть:
Разуверением чревата наша страсть.
Для каждого из нас у жизни есть в запасе
Обиды, бедствия и горечь в каждом часе.
Двух царств поборники сошли во прах, и вот
Нет больше этих царств. Нам только смерть не лжет.
Развей мирскую жизнь иль на нее не сетуй.
Но редко следуют разумному совету.
Во избежание неисчислимых бед
Не торопись бежать красавицам вослед.
А если на тебя призывно поглядели,
Пускай истает взор на полпути до цели.
Не взять бы людям в толк, что ты — гроза сердец
И что средь женщин ты — как волк среди овец.
Закроем свой Коран, когда под чтенье это
Все громче в памяти звучат заботы света.
Твой голос — вопль самца, зовущего газель,
Откочевавшую за тридевять земель.
Надежней женщины для достиженья славы
Ночной поход, верблюд, булат и подвиг правый.
Четыре качества соединились в нас,
Но смерть расторгнет их, когда настанет час.
Превозносил бы ты, когда бы цену знал им,
Людей, умеющих довольствоваться малым.
Учись и на челе величья различать
Корыстолюбия позорную печать.
Два полчища — надежд и разочарований
Глумятся над людьми, рубясь на поле брани.
Как быстрых молний блеск — времен поспешный бег,
И только миг живет на свете человек.
Блюсти законы дней ленивым неохота,
И пятницей для них становится суббота.
О, сколько раз мне слал рассвет свои лучи
В тот час, когда в домах не брезжит ни свечи!
Когда же наконец подымется с постели
Тот, у кого глаза от снов остекленели?
Без смысла засухи терзали грудь земли,
А тучи на луга дождей не привели,
Как будто господа ни горлица, ни роза
Не хвалят, как псалмов рифмованная проза.
Того, кто любит жизнь, одни страданья ждут,
Беду к его беде прибавит тяжкий труд.
И разум говорит: не верь надежде ложной,
К началу прошлых дней вернуться невозможно.
А если бодрствовать тебе запрещено,
Вот ложе: спи в земле! Другого не дано.
Мирская жизнь — мираж, и пусть ее обманы
Не выпьют по глотку твой разум богоданный.
За днем приходит ночь: жизнь — пестрая змея,
И жало у нее острее лезвия.
Порывы юности дряхлеют понемногу,
Мы сдержанность берем в дальнейшую дорогу.
Благоразумия спасительная власть
Поможет усмирить бунтующую страсть.
Живые существа от века скорбь тиранит,
Она крылом своим с налету насмерть ранит.
Напиток бытия испробовать спеша,
Захлебывается взалкавшая душа.
Хоть сердце в глубине к посеву не готово,
С наружной стороны взошли побеги слова.
Хоть и сгущается томительная тень,
Порой благую весть приносит новый день.
Касыда иногда родится от обиды,
И вопль минувших дней звучит в стихах касыды.
Дряхлеет человек, слабеет с жизнью связь,
И смерть удар ему наносит, притаясь.
Потише говори и в раздраженье духа:
Чем громче голос твой, тем тягостней для слуха.
Под власть небытия страшимся мы подпасть,
Но, может быть, не столь опасна эта власть?
Любовью к жизни плоть от смерти не спасется:
Жена безлюбая о муже не печется.
Душа в смятении латает жизнь свою;
В заплатах толку нет могилы на краю.
Безбожным тягостно молитвенное бденье,
Для них — что груз горы, коленопреклоненье.
Несет клеймо греха вершитель черных дел.
Сверкающий добром избрал благой удел.
Где красота страны, что нас очаровала?
А ведь она была уродлива сначала!
Ты пламени хоть раз касался ли рукой?
Пойми, что боль твоя хранит его покой.
Быть может, в темноте меняет суть природа,
И обитает ночь близ солнца в час восхода.
«На волю отпущу…»
На волю отпущу, поймав блоху, затем,
Что воля — лучший дар, чем нищему дирхем.
Как чернокожему из Кинда{286}, что в короне,
Так этой черненькой, что на моей ладони,
Мила земная жизнь: и у нее одна
Душа — не более горчичного зерна.
«Вино для них светильники зажгло…»
Вино для них светильники зажгло.
Что им копье, уздечка и седло!
Они встают с постелей в поздний час.
Вино блестит, как петушиный глаз{287},
Под кожей пальцев их, как муравьи,
Ползет — и разбегается в крови,
Освобождает разум от забот
И горести нежданные несет.
Пьют — и судьбы не ведают своей,
Лишившей их дворцов и крепостей.
И благородства первую ступень
Преодолеть не потрудилась лень.
А жизнь моя проходит, как в аду,
И от нее подарков я не жду.
Одна теперь надежда у меня
На господина звездного огня.
«Он юлит и желает успеха во всём…»
Он юлит и желает успеха во всём.
Было б лучше тебе повстречаться со львом!
Обманули тебя: ничего, кроме зла,
Эта дружба коварная не принесла.
Если ты не бежишь от людей, почему
При тебе ни лисицы, ни волка в дому?
Не теряй головы при нашествии бед.
Ты преступней, чем твой многогрешный сосед
Ты встаешь на рассвете для мерзостных дел,
Хоть немало в ночи совершить их успел.
Море зла на погибель нам сотворено:
Умирая от жажды, уходишь на дно.
«Я не спугнул ее…»
{288}Я не спугнул ее, но птица улетела,
И я доверился крылам ее всецело.
Мне проповедники разнообразных вер
И толкователи с их бредом — не в пример.
«Плоть — в землю, а душа — куда спешит из плоти?»
У них на свой вопрос ответа не найдете.
Когда наступит срок, хотим иль не хотим,
Душа, полна грехов, пойдет путем своим.
Избрали бы грехи другую оболочку —
Судья простил бы их и нам не ставил в строчку.
«Ты болен разумом и верой…»
Ты болен разумом и верой.
Приди за словом,
И тело снова станет сильным
И дух здоровым.
Не убивай того, кто в море
Нашел жилище,
Четвероногих плоть живую
Не делай пищей.
Красавиц молоком животных
Поить не надо:
Чем обворованное вымя
Утешит чадо?
Не нападай врасплох на птицу,
Не грабь крылатой:
Насилье — тяжкий грех, который
Грозит расплатой.
Пчелиного не трогай меда:
Из дола в долы
За ним к цветам благоуханным
Летали пчелы,
И не затем даянья утра
Слагали в соты,
Чтоб мы благодарили сборщиц
За их щедроты.
Слезами руки отмываю.
Зачем же ране —
До седины — не понимал я
Своих желаний?
Ты разгадал ли, современник,
Мой брат случайный,
Оберегаемые мною
Простые тайны?
О заблудившийся во мраке
Подобно тени!
Ты не спешил на светлый голос
Благих стремлений.
Но проповедник заблуждений
Пришел — и сразу
Ты предал совесть, покорившись
Его указу.
Взгляни на собственную веру:
В ее пустыне
Увидишь мерзость лицемерья
И срам гордыни.
Прозрев, не окропляй булата
Росой багряной,
Не заставляй врача склоняться
Над свежей рапой.
Пришелся бы и мне по нраву
Служитель бога,
Когда б из твоего достатка
Не брал так много.
По правде, тот хвалы достойней,
Кто ранней ранью
Встает и трудится до ночи
За пропитанье.
Не помышлял для благочестья
Бежать в обитель,
Среди людей, как бедный странник,
Ходил Спаситель.
Зарой меня, когда почуешь
Зловонье тлена,
Иль пусть зловонная схоронит
Меня гиена.
А кто свои страшится кости
Смешать с костями
Тот вживе сам — что кость сухая
В могильной яме.
Дурной обычай: мы приходим
В одежде черной
И, с плакальщицами согласно,
Скорбим притворно
Я накануне рокового
Переселенья
Врагу и другу отпускаю
Их прегрешенья.
Твоей хвалы не принимаю:
И лучший воин
Похвал моих за подвиг ратный
Не удостоен.
Моя душа — верблюд надежный
В краю песчаном,
Еще по силам ей угнаться
За караваном.
Под тяжестью плиты могильной
Былую силу
Не восстановит щедрый ливень,
Омыв могилу.
Была б вода живой водою,
Тогда бы люди
Дрались из-за могил в болотах,
Молясь о чуде.
«Удивляюсь тому, кто кричит…»
Удивляюсь тому, кто кричит: «Я не пью!» —
И вином угощает подругу свою.
Отхлебнула немного — и навеселе
Вкось да вкривь побежала по ровной земле.
И до этого глупой была, но питье
Совершенно лишило рассудка ее,
Заикалась и прежде она за столом,
А теперь мы ни слова ее не поймем.
«О, если б, жалкое покинув пепелище…»
О, если б, жалкое покинув пепелище,
Беглянку-молодость найти в другом жилище!
Но нечего мне ждать! Уж разве прежней силы
Исполнится Низар{289} и выйдет из могилы…
Исчезла молодость. Не я охрип в разлуке
От слез, и не мои ее хватают руки.
Так свертывает ночь румянец, как рабыни —
Покровы алые на женской половине.
Земная жизнь — война. Мы тягостное бремя
Несем, покуда нас не остановит время.
«Я одинок, и жизнь моя пустынна…»
Я одинок, и жизнь моя пустынна,
И нет со мной ни ангела, ни джинна.
Сгубило время трепетных газелей,
И лишь места их пастбищ уцелели.
Душе нельзя остаться беспорочной:
Порочна плоть, ее сосуд непрочный.
Кто не избрал подруги в дни расцвета,
Тот одинок и в старческие лета.
Я шел путем смиренья и печали,
Я звал людей, но люди опоздали.
«Предвестия судьбы…»
Предвестия судьбы — обманутый судьбой —
Читает звездочет на ощупь, как слепой.
Что за напрасный труд! До смысла этих строк
И написавший их добраться бы не мог.
За Пятикнижием{290} и Книгой христиан
Послом Создателя начертан был Коран.
И вера, говорят, еще одна придет{291}.
Так мы бросаемся к заботам от забот.
Кто веру обновит? Где чистая вода —
Награда за три дня лишений и труда?{292}
Но как бы ни было, никто нас не лишил
Возможности следить за сменою светил.
В явлениях своих все те же ночь и день,
И прежним чередом проходят свет и тень.
Все повторяется: рождение детей
И бегство стариков на волю из сетей.
Кляну, о злобный мир, обман коварный твой,
Опутавший людей в пучине мировой!
Твержу бессмыслицу, и голос мой — что гром,
А правду говорить придется шепотком…
«Нет на свете греха…»
Нет на свете греха. Что же мы осуждаем его?
Право, было бы лучше свое упрекать естество.
Вот лоза, вот вино. Если ты от вина опьянел,
Кто виновней из вас: винопийца? вино? винодел?
«На погребальные носилки…»
На погребальные носилки
Слепому лечь —
Ногам его не спотыкаться,
Слезам не течь.
Не странно ли — старик столетний,
Горбат, как лук,
И слаб, как тень, дрожит на солнце,
Бредет — и вдруг
Бросается в обход мечети,
И напрямик
Через пустыню за подачкой
Бежит старик.
«Если корень зачах…»
Если корень зачах, то скажите: понятно ли нам,
Что листвой никогда не покрыться голодным ветвям?
Если брат восстает против единокровного брата,
Как согласья законов нам требовать от шариата?
Не бранись, увидав, что скупится иная рука:
Может статься, что вымя уяге лишено молока.
Обращайся к беспечным, об истине напоминая:
Без поливки развиться не может и зелень земная.
Как, наследники Евы, от вас мне себя уберечь,
Если злобой у вас переполнены сердце и речь?
Не нужны ни кольчуги, ни шлемы, ни дерзкая сила,
Если вправду исполнится то, что судьба вам судила.
«Час придет, — говорю, — время всадника сбросит с коня».
Я пугаю сердца. Впрочем, кто побоится меня!
«Твори добро без пользы для себя…»
Твори добро без пользы для себя,
В нем благодарность за него любя.
Хоть землю всю обшарь за пядью пядь,
Души благочестивой не сыскать.
Здесь подданным цари внушают страх,
Как ястреба добыче в их когтях.
Царь у одних достойный, у других
Подлее в притязаниях своих.
Наш обобрал до нитки свой народ,
И слезный дождь из глаз людских идет,
Не размягчая каменных сердец
Придворных, переполнивших дворец,—
Грабителей мечетей и шатров,
Которым гнет — веселье и покров.
«Он взял себе жену…»
Он взял себе жену, потом еще троих{293}.
«Довольствуйся одной из четвертей моих!» —
Так первой он сказал. Но та нашла замену,
И муж побил ее камнями за измену.
Наследования неявственный закон
И при двубрачии не будет соблюден.
Ты ослабел умом и стал игрушкой сплетни
Как семилетний — ты, семидесятилетний!
И ты несправедлив и злобой обуян,
И ты, подобно всем, преступник и тиран.
И радуешься ты, что пусто в доме брата,
А у тебя в дому и сытно и богато.
Когда бы жадности ты не был верный раб,
Ты сжег бы свой колчан и лук из древа наб{294}.
«Сердца у вас — кремень…»
Сердца у вас — кремень, в чертах лица уныние,
Рты перекошены, глаза от злобы синие{295}.
Я сил не соберу, чтоб странствовать отправиться,
Мне, старому слепцу, не светит даль-красавица.
Забрезжил новый день, и разлетелись вороны{296},
И голуби стремглав метнулись во все стороны.
И я в дороге был, домой в изнеможении
Принес бесстыдства кладь и груз неразумения.
Да не сочтешь наград за верность беспорочную,
За искренность молитв на сторону восточную!{297}
Земные твари прочь бегут при блеске молнии,
И сводит смерть с ума их души, страха полные.
О птица! О газель! Не бойтесь ни величия,
Ни мудрости людской: меж нами нет различия.
«Зардели сонмы звезд…»
Зардели сонмы звезд на ясных небесах,
И веры темный плат разорван в ста местах.
Нет царства, коему не угрожают страсти.
Все, что составилось, рассыплется на части.
Вероучения — плоды земных забот
И себялюбия. Кто к этому придет,
Пусть побоится тот и своего дитяти,
Как высекший огонь бежит его объятий.
Мы — зло. Но не о вас, о люди, говорю:
На секты розные со страхом я смотрю.
Не жди от ближнего ни добрых чувств, ни блага,
Хоть по щекам его бежит смиренья влага.
Но из врагов твоих опасней всех — душа,
Она покинет плоть, изменою греша.
Почившего царя, дарившего улыбки,
Мы за ягненка счесть готовы по ошибке.
О вере не пытай наставников общин:
От каждого из них услышишь вздор один.
Быть может, мнимому дивлюсь я урожаю:
И сад еще не цвел, а я плоды срываю.
Как часто уходил от воздаянья вор,
И честная рука ложилась под топор.
Жемчужница сдалась ныряльщику на милость,
А сколько времени на дне морском таилась.
Все время люди лгут, во лжи не видят лжи
И, ложь обосновав, за ложь идут в ножи.
Не стоит спрашивать: «Где ум твой, земножитель,—
Твоих безумных снов напрасный посетитель?»
Еды отведавшим не избежать беды,
Воды возжаждавшим нет в засуху воды.
И черными смотреть иль синими глазами,
Чтоб этот мир понять, кружащийся пред нами?
А вы, келейники… вам снится не игра
В уединении, а золота гора!
«Быть может, прав мудрец…»
Быть может, прав мудрец{298}, и мир не знал времен,
Когда бы не был я в живое воплощен.
То распадаюсь я, то вновь соединяюсь,
То вяну лотосом, то пальмой возрождаюсь.
Хоть скупость — грех большой, но медлю я, скупясь
Прервать безропотно с самим собою связь.
Мечта богатого — приумноженье рода,
А был бы он умней — чурался бы приплода.
«Толкуют, что душа…»
Толкуют, что душа легко и смело
Переселяется из тела в тело.
Не принимай суждений ни о чем,
Когда проверить их нельзя умом.
Что тело? Пальма с гордою главою;
Она — трава и сменится травою.
Ты должен мысль от лишнего беречь:
При полировке тает лучший меч.
«Звезды мрака ночного…»
Звезды мрака ночного, — живые они или нет?
Может быть, и разумны, и чувствуют собственный свет?
Говорят: «Воздаяние ждет за могилой людей».
Говорят и другое: «Мы сгинем, как злаки полей».
Я же вам говорю: совершайте благие дела,
Не бегите добра, сторонитесь неправды и зла!
Мне воочию видно: пред тем, как начать переход{299},
Покаянные слезы душа истомленная льет.
Наши души заржавели в наших телах, как мечи,
Но вернется их блеск, столь же яркий, как звезды в ночи.
«Вы скажете…»
Вы скажете: «Премудр податель бытия!»
«Вы правы, — я скажу, — согласен с этим я».
Тут вы добавите: «В числе его примет
Не только времени, но и пространства нет{300}».
А я скажу в ответ, что это спор пустой:
Проникнуть в суть его не может ум людской.
«Все тайны проницает…»
Все тайны проницает всевидящее око.
А разум полон кривды, сердца полны порока.
Мы образною речью ласкаем свой язык
И знаем, что от правды и этот лжец отвык.
«Если воли свободной…»
{301}Если воли свободной преступник лишен,
То его не по праву карает закон.
Вседержитель, когда он руду создавал,
Знал, что эта руда превратится в металл.
Чем убийца коня подковал? Из чего
Меч, румяный открови, в руках у него?
Ты на пламень сомнений летишь, — не спеши!
Опасайся пожара смятенной души!
«Чему ни учит жизнь…»
Чему ни учит жизнь — уроки нам не впрок.
Кто попадает в цель? Удачливый стрелок.
С глаголом зло всегда сравниться бы могло:
В прошедшем, в будущем и в настоящем — зло.
Где море щедрости, где скупости гора?
Все перепутала безумная пора.
Землеправителям и баловням судьбы
Оставь усладу их и ешь свои бобы.
Колодезной водой мы радуем уста,
Когда мы пить хотим и чаша не пуста.
Сын благородного Кораном торговал
И с благородством связь на этом оборвал.
И Асим сочинял, и не было того,
Что Кунбуль{302} передал от шейха своего.
Ягнят, без привязи оставленных в горах,
Подстерегает смерть и ослепляет страх.
Кутруббулийского ты требуешь вина,
Хоть и глотком воды напьешься допьяна.
Из четырех — одна попала в цель стрела.
Довольно и того, что первая взяла.
Заговори судьба — она бы над людьми
Смеялась, как в былом Дибиль и ар-Руми{303}.
Я жизнью поклянусь: судьба в душе — поэт,
Но только у нее ни слов, ни слуха нет.
Хоть честный человек в оковах, словно тать,
Никто ума его не властен заковать.
Так в правильный размер закован каждый стих,
Но нет преград в стихах для замыслов моих.
Я не советую завидовать в нужде
Излишеству людей в одежде и еде.
Увянет жизни ветвь, когда придет пора,
И Йазбуль{304} сдвинется, как всякая гора.
О Ева, если бы, людского рода мать,
Ты не могла родить и не могла зачать!
О, если бы ты, Сиф{305}, смирил свой дикий пыл,
Не подошел к жене и нас не породил!
О, если бы в пыли недвижные тела,
Как цвет акации, лежали без числа!
Проснись же, человек, игралище страстей!
Причина мук твоих — горит в крови твоей.
В пшеничном колосе, возникшем из зерна,
Колосьев будущих судьба заключена.
Невежда к нам пришел, исправить нас хотел,
Но с детства темный страх достался нам в удел.
Пусть бедствует старик. Должно быть, жизнь права:
И львята никогда кормить не станут льва.
В земной обители без кровли мы живем;
Невзгоды моросят и рушатся дождем.
И мы обителью случайной дорожим,
Хоть и горюем в ней и без огня дрожим.
Я стар, покрыт корой. Сколь от меня далек
Зеленолиственный и полный сил росток!
«Пойми значение сменяющихся дней…»
Пойми значение сменяющихся дней.
Чем ты внимательней, тем речи их слышней.
Все, что случается, поистине похоже
На то, что видел мир, когда он был моложе.
«Умы покрылись ржавчиной…»
Умы покрылись ржавчиной порока и разлада.
Когда проржавел меч насквозь, точить его не надо.
Жизнь обещала праздники, а слова не сдержала.
Как ни обидно, истины в хадисах наших мало.
Из множества наставников я лишь рассудку внемлю.
Земное бремя тяжкое повергну я на землю,
На путь добра спасительный ступлю, расправив спину,
Покину мир губительный и суету отрину.
О, эта жизнь коварная, царящая над нами,
Столь цепкая веревками, столь крепкая цепями!
Мы в пору созревания встречаемся для боя,
Потом, под старость, прячемся в одной тени от зноя.
А кто живет умом своим, спокоен сердцем, зная,
Что и любовь и ненависть — равно тщета пустая.
«У добродетели две степени…»
У добродетели две степени. Иль три?
Без предпочтения на спорящих смотри.
В день Страшного суда Аллаху станет жалко
Прилежных тружениц, склонявшихся над прялкой.
Душеспасителен их заработок был.
Терпенье в слабости — залог избытка сил.
Из нитей солнечных носили покрывала,
А пряжу нищете их щедрость раздавала.
Делились крохами опресноков сухих,
И взыщет их судья и возвеличит их.
Комар, которого Всевышний не осудит,
Слону индийскому по весу равен будет.
Когда земля, трясясь, качнулась тяжело,
Горчичное зерно идущего спасло.
От мук обиженных проистекают муки
Того, кто кровью их свои окрасил руки.
Изгнанник застонал, и, потеряв престол,
Несправедливый царь в изгнание побрел.
«Понятна разумному наша природа…»
Понятна разумному наша природа.
Достойный правитель — прислужник народа.
Спокойней правителя нищий живет:
Без денег, зато и без лишних забот.
На время пускают в мирскую обитель:
Придет, поживет и уйдет посетитель.
Скорбишь, потому что ушел он сейчас;
Потом не припомнишь закрывшихся глаз.
Приди добровольно в державу разлуки —
Себе я изгрыз бы в раскаянье руки.
Не плачь: разбудивший вернет забытье;
Воздвигший Каабу — разрушит ее.
«Когда тебе жену…»
Когда тебе жену и впрямь избрать угодно,
Останови, мой друг, свой выбор на бесплодной.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел,
Но путнику прямой особенно тяжел.
Таков земной приют: один подходит к дому,
И дом освободить приходится другому.
«Пора бы перестать…»
Пора бы перестать печалиться о том,
Что истинных людей не сыщешь днем с огнем.
Ирак и Сирия — добыча разоренья,
И нет правителя, достойного правленья.
У власти дьяволы, и каждая страна
Владыке-сатане служить обречена.
Царь объедается и пьет из чаши винной,
Пока голодный люд терзается безвинно.
Присваивает грек и портит наш язык;
От речи прадедов араб-тайит отвык.
В бою килабский лис достиг такой сноровки{306},
Что копья у него обвисли, как веревки.
Когда же наконец объявится имам,
Который цель и путь укажет племенам?
Молись как вздумаешь, теперь не станет хуже
Стране, загаженной, что твой загон верблюжий.
«О, ранней свежести глубокие морщины…»
О, ранней свежести глубокие морщины,
Эдема юных лет сухие луговины!
Цель молодой души — утеха и отрада,
Но трудным временам пустых забав не надо.
Надежда смелая беспечный нрав утратит,
Когда ее, как стих, подрубят или схватят.{307}
Неутомима жизнь в изобретенье горя,
А мы свои сердца вверяем ей, не споря!
Давно уже меня газели не страшатся,
Когда в моей степи, насторожась, ложатся.
Оставь, о человек, имущество пернатым,
Не тронь снесенного и будь им старшим братом
Причесывается, торопится умыться,
Но пусть уходит прочь красавица певица.
Один ей снится сон: струящиеся платья,
Купанье в золоте и жадных рук объятья.
Твой урожай велик: ты вырастил пороки,
Но не поместится число их в эти строки.
А Кайсу{308} волосы укладывали девы,
И тешили его их нежные напевы.
О всадник, ты в седле на несколько мгновений
Гляди, слетишь с коня безудержных влечений!
Ты полон свежести, тебе прикрас не надо:
Что краше чистоты потупленного взгляда?
Отдай просящему последнюю монету;
Все, собранное впрок, рассеется по свету.
Пускай горят ступни от зноя Рамадана —
Плоть усмиряй постом. Все — поздно или рано
Закроются глаза, земное в землю канет,
Но небо звездами блистать не перестанет.
Пророки умерли, но западает в души
Остаток их речей, хоть и звучит все глуше.
Я вижу: прошлое — сосуд воспоминаний,
Открытый памятью для дружеских собраний.
Хосроев больше нет, но летопись осталась,
А там забвение изъест и эту малость.
Лети, когда крылат, не бойся непогоды!
И коготь кречета обламывают годы.
Припомни, сколько птиц в дни поздней их печали
К насестам клеток их навечно привязали.
Хоть разум и велик в суждениях о боге,
Но мал окажется у бога на пороге.
Ложь в сердце у того, а правды нет и тени,
Кто лечит шариат лекарством рассуждений.
Судьба по правилам видения склоняет —
То подымает их, то снова опускает{309}.
Вот облаков судьбы проходит вереница,
И разум кроткого бушует и мутится.
И в споре доводы рождаются без счета,
Мгновенно лопаясь, как пузыри болота.
Быть может, каждого почившего могила
За жизнь безумную сполна вознаградила.
Нет следствий без причин, и я скажу: едва ли,
Когда бы не болезнь, мы, люди, умирали.
Вода уходит вглубь, а прежде на просторе
За плещущим дождем шла напролом, как море.
«Как море — эта жизнь…»
Как море — эта жизнь. Средь бурных воли плывет
Корабль опасностей, неверный наш оплот.
От страха смертного неверующий стонет,
Клянет всеобщий путь и в черной бездне тонет.
Когда б он только знал, что вера для него
Была бы горестней, чем смерти торжество!
Я тщетно прятался, как труп в немой могиле;
Меня и под землей обиды посетили.
Чутье не приведет ко мне гиен степных:
Дыханье лет сотрет следы ступней моих.
Ибн аль-Фарид Перевод З. Миркиной
{310}«Прославляя любовь…»
{311}Прославляя любовь; мы испили вина.
Нам его поднесла молодая Луна.
Мы пьяны им давно. С незапамятных лет
Пьем из кубка Луны заструившийся свет.
И, дрожащий огонь разведя синевой,
Месяц ходит меж звезд, как фиал круговой.
О вино, что древнее, чем сам виноград!
Нас зовет его блеск, нас манит аромат!
Только брызги одни может видеть наш глаз,
А напиток сокрыт где-то в сердце у нас.
Уши могут вместить только имя одно,
Но само это имя пьянит, как вино.
Даже взгляд на кувшин, на клеймо и печать
Может тайной живой, как вином, опьянять.
Если б кто-нибудь мертвых вином окропил,
То живыми бы встали они из могил;
А больные, отведавши винной струи,
Позабыли б всю боль, все недуги свои.
И немые о вкусе его говорят,
И доплывший с востока его аромат
Различит даже путник, лишенный чутья,
Занесенный судьбою в иные края.
И уже не заблудится тот никогда,
В чьей ладони фиал, как в потемках звезда.
И глаза у слепого разверзнутся вдруг,
И глухой различит еле льющийся звук,
Если только во тьме перед ним просверкал,
Если тайно блеснул этот полный фиал.
Пусть змеею ужален в пути пилигрим —
До хранилищ вина он дойдет невредим.
И, на лбу бесноватым чертя письмена,
Исцеляют их дух возлияньем вина.
А когда знак вина на знаменах войны,—
Сотни душ — как одна, сотни тысяч пьяны.
О вино, что смягчает неистовый нрав,
Вспышку гнева залив, вспышку зла обуздав!
О вино, что способно весь жизненный путь
Во мгновенье одно, озарив, повернуть —
Влить решимость в умы и величье в сердца,
Вдохновенным и мудрым вдруг сделать глупца!
«В чем природа вина?» — раз спросили меня.
Что же, слушайте все: это свет без огня;
Это взгляд без очей и дыханье без уст;
Полный жизни простор, что таинственно пуст;
То, что было до всех и пребудет всегда;
В нем прозрачность воды, но оно не вода;
Это суть без покрова, что лишь для умов,
Неспособных постичь, надевает покров.
О создатель всех форм, что, как ветер сквозной,
Сквозь все формы течет, не застыв ни в одной,—
Ты, с кем мой от любви обезумевший дух
Жаждет слиться! Да будет один вместо двух!
Пращур мой — этот сок, а Адам был потом.
Моя мать — эта гроздь с золотистым листом.
Тело — наш виноградник, а дух в нас — вино,
Породнившее всех, в сотнях тысяч — одно.
Без начала струя, без конца, без потерь,—
Что есть «после», что «до» в бесконечном «теперь»?
Восхваленье само есть награда наград,
И стихи о вине, как вино, нас пьянят.
Кто не пил, пусть глядит, как пьянеет другой,
В предвкушении благ полон вестью благой.
Мне сказали, что пьют только грешники.
Нет! Грешник тот, кто не пьет этот льющийся свет.
И скиталец святой, и безгрешный монах,
Опьянев от него, распростерлись во прах.
Ну, а я охмелел до начала всех дней
И останусь хмельным даже в смерти своей.
Вот вино! Пей его! Если хочешь, смешай
С поцелуем любви, — пусть течет через край!
Пей и пой, не теряя священных минут,
Ведь вино и забота друг друга бегут.
Охмелевший от жизни поймет, что судьба —
Не хозяйка его, а всего лишь раба.
Трезвый вовсе не жил — смысл вселенский протек
Мимо губ у того, кто напиться не мог.
Пусть оплачет себя обнесенный вином —
Он остался без доли на пире земном.
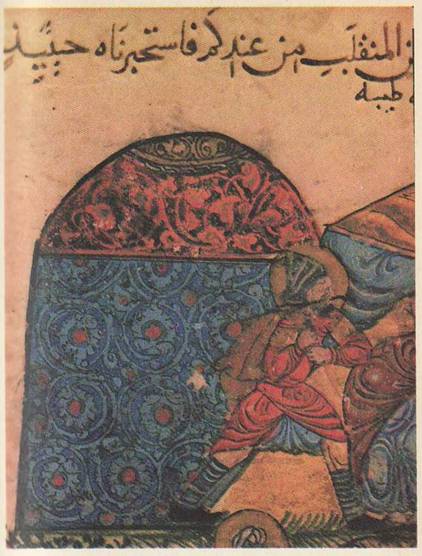
«О, аромат, повеявший с востока…»
{312}О, аромат, повеявший с востока,
Пьянящий сердце тонкий аромат!
Он рассказал, что где-то у потока,
Склонившись, ивы гибкие стоят.
И там, где ветки тихо шелестели,
Там, где плескалась темная вода,
Любимая, укутанная в зелень,
Склоняя стан, стояла у пруда.
О аромат, донесшийся с востока!
Ты точно вестник из далеких стран,
Ты — как напев и зов ее далекий
И зыбкий облик, спрятанный в туман.
Пьянеет сердце, и мутнеет разум,
И все лицо мое в потоках слез.
О запах трав, о ветр с лугов Хиджаза,
В какие дали ты меня унес!
Я ослабел, я пьян от аромата,
Готов как мертвый на землю упасть.
Я до нее любил других когда-то,
Но с чем сравниться может эта страсть!
О путник, задремавший на верблюде,
Скрестивши ноги на своем седле!
Когда вдали виднеться будет Тудих,
С холмов Урейда поверни к скале.
И пусть тебя сопровождает благо —
Найди в ущелье отдаленный кров,
Где день и ночь в камнях струится влага
И ветки ив трепещут у шатров.
Там у воды, под ивой тонкорукой,
За острых копий черною стеной —
Та, что щедра на горькую разлуку,
А на свиданье так скупа со мпой.
Зачем нужна ей грозная охрана?
Она моей душой защищена,—
Сама наносит гибельные раны
И равнодушья к гибнущим полна.
Не умерев, приблизиться нельзя к ней.
Но что мне смерть, когда в единый миг
Свиданья с ней все помыслы иссякли
И я вершины всех надежд достиг?
Она, меня на гибель посылая,
Верна. Грозя, оказывает честь.
Ее жестокость я благословляю,
Ее обман — душе благая весть.
О, этот образ выше разуменья,
И если он не явится во сне,
То я умру от жажды и томленья.
Ведь наяву его не встретить мне!
Моя любовь сильней, чем страсть Маджнуна{313}.
Кого сравню с возлюбленной моей?
Как блекнут звезды перед ликом лунным,
Так Лубна с Лейлой{314} блекнут перед ней.
Едва поманит блеск, едва повеет
Благоуханье, — о, как грудь полна! —
В какие выси я иду за нею!
Я — небеса. Она во мне — Луна.
Она, в подушках рук покоясь, тонет
И вновь встает, чтоб, продолжая путь,
Из этих жарких вырвавшись ладоней,
Взойти в душе, в глазах моих блеснуть.
Весь Млечный Путь — бессчетных слез горенье,
А молния — огонь души моей.
О нет, любовь — не сладкое волненье,
А горечь мук и искус для людей!
Я создан для любви. Но что за сила
Меня в такое пламя вовлекла?
Она сегодня сердце опалила,
А завтра жизнь мою сожжет дотла.
О, если б смог какой-нибудь влюбленный
Снести хотя бы малость, только часть
Моих мечтаний и ночей бессонных,
Его вконец бы истощила страсть.
Я истощен. И сердца не излечат
Те, кто меня за боль мою корят.
О, как жалки благоразумья речи,
Когда блеснет ее мгновенный взгляд!
Иссякла сила, кончилось терпенье,
И вот победу празднует беда.
Я худ и слаб, я стал почти что тенью,
Исчез из глаз, как в облаке звезда.
И жажду своего уничтоженья,
И впадины моих поблекших щек
Горят, когда в часы ночного бденья
Кровавых слез бежит по ним поток.
В честь гостя — в честь великого виденья
Я в жертву сон и свой покой принес.
Глаза — два жертвенника, и в немом моленье,
Как жертвы кровь, стекают капли слез.
Когда б не вздох и этих слез кипенье,
Я б весь исчез, не я живу, а страсть.
О, помогите! Лишь глоток забвенья!
Забыться сном, в небытие упасть!
Когда-то… (О, какой далекий вечер!)
Мы шли вдвоем. Холмов виднелся ряд.
Она меня дарила тихой речью,
Как будто возвела на Арафат{315}.
Но луч погас — и нет ее. Бесшумный
Кивок один — и плещутся листы…
Безумным станет здесь благоразумный,
И трезвый — пьяным, — Каба{316} красоты!
О, этот блеск, как краток он и ярок!
Улыбка, вдруг раздвинувшая мрак,—
Моим глазам, моей душе подарок!
Мгновенье света — твой великий знак!
Пронзивший небо росчерк дальних молний,
Голубки голос, взволновавший грудь,—
Каким восторгом душу мне наполнив,
Они к тебе указывают путь!
Но где ты, где? Опять меж нами — дали.
О, сколько их — пустынь, долин и рощ?.
Я смелым слыл, но как ненужны стали
Былая смелость и былая мощь!
Теперь я только жаждущий и ждущий.
Мои друзья — тревога и тоска.
Я раб и не желаю быть отпущен.
Мне ты нужна! О, как ты далека!
Любовь к тебе меня разъединила
С друзьями. Дом мой бросила родня.
Покой и разум, молодость и сила —
Все четверо оставили меня.
И вот жилищем стала мне пустыня
И другом — зверь. Как он, я дик на вид,
И на висках засеребревший иней
Красавиц гонит, юношей страшит.
Что ж, пусть глумятся юность и здоровье,
Пусть в их глазах я высохший старик —
Я только тот, кто поражен любовью.
О, если б вам она открыла лик!
Тогда бы тотчас смолкли все упреки,
Хула б погасла, поперхнулась ложь,
И тот, кто обличал мои пороки,
Шепнул бы мне: «Ты праведно живешь».
Как часто равнодушье нападало
И мне твердило: «Хватит, позабудь!
Ты еле жив, душа твоя устала!» —
Но у души один есть в жизни путь.
Благоразумие не снимет муки,
Совет рассудка сердца не спасет.
(Как будто сердцу легче от разлуки
И для души забвенье — это мед!)
Живу любя и не могу иначе.
И не утешит сердца ничего.
Кипит слеза в глазах моих горячих.
О, дай прохлады лика твоего!
Слеза к слезе стекает, обмывая
Мои зрачки — двух черных мертвецов.
Рука застыла, будто восковая,
А цвет лица — как гробовой покров.
Как будто мы клялись перед Всевышним
В бесстрастии. Я верным быть не смог.
Она ж на зов предательский не вышла
И каменеет, как немой упрек.
Но есть обет любви, обеты братства,
Мы их давали там, в родном краю.
Она решила, их порвав, расстаться,
Но я расторгнуть узы не даю.
И верностью я обманул своею
Ее обман, свидетелем Аллах!
О, пусть луга щедрее зеленеют,
Цветет земля в ее родных горах!
О кибла счастья, родина желанья!
О вечный друг, владетельница чар,
С кем встреча — жизнь и гибель — расставанье,
Но даже гибель — мне сладчайший дар.
И я горжусь тем гибельным недугом
И лишь о нем хочу поведать всем:
В ущелье Амир — вечная подруга.
О племя амир, о родной эдем!
Дыханье благовоннейшего края,
Восточный ветр, принесший забытье!
Я блага всем соперникам желаю —
Ведь все они из племени ее.
Как я тоскую по любви в долине,
По прошлым дням, которых не вернуть!
О сад живой, приснившийся в пустыне!
От боли хочет разорваться грудь.
В бессоннице горит воспоминанье
О тех давно утраченных часах,
Когда вся жизнь моя была свиданье
И только милость мне дарил Аллах.
Что сделал я? Лишь на одно мгновенье
Я отошел, чтобы прийти назад,
Урвав у жизни крохи наслажденья,—
И вот теперь закрыт эдемский сад.
О, разве я хотел ее покинуть?!
И разве можно тосковать сильней?
Мне без нее и родина — чужбина,
И ад — эдем, когда я рядом с ней.
О слезы, лейтесь вечною рекою!
О, жги, любовь, терпенье, истощись,
Душа, упейся болью и тоскою!
О, не упорствуй и разбейся, жизнь!
Все счастье отвернулось вместе с нею.
Вся радость жизни — блеск ее лица.
О, мсти, судьба, ударь еще больнее,—
Я все равно ей верен до конца.
Я не любить, как не дышать, не в силах.
Будь я богат и славен, что мне в том?
Так спой, певец, о той, что опоила
Меня разлукой горькой, как вином.
Душа пьяна. О, тесное сплетенье
Тоски и счастья! О, сверканье-тьма!
Мне открывает тайну опьяненье,
Закрытую от трезвого ума.
«О, этот лик…»
О, этот лик, эта нежность овала!
Как далека ты, а я недвижим.
Если ты смерти моей пожелала,
Дух мой упьется бессмертьем твоим.
О, возврати мне хотя бы частицу
Жизни, которую ты отняла!
В душу сумела внезапно вонзиться
С лука бровей твоих взгляда стрела!
О, почему ты со мною сурова?
Взор отвела и замкнула уста…
Кто-то сказал тебе лживое слово,
Чья-то сразила меня клевета.
Подлый болтун, не достигнешь ты цели!
Верным останется сердце мое.
Вечно я буду в плену у газели —
Что мне свобода вдали от нее?
Что мне покой? Не любя и не веря,
Жить? — Свой покой я бросаю в пожар…
Радость горенья, богатство потери!
Зарево в сердце — бесценнейший дар!
Дар красоты ее — высшее диво!
Веки — как ножны, а взгляд ее — меч.
Перевязь тонкая — лика стыдливость.
Лезвие блещет, чтоб сердце рассечь.
О, колдовство мимолетного взгляда!
Меньшая власть и Харуту дана.
Небо, хвалиться луню не надо,
В блеске любимой померкла луна.
Никнет в смущенье газель перед нею,
Ей подражает изгиб ивняка,
Нежность ее — дуновенья нежнее,
Роза на облике белом — щека.
Мускус волос ее, вкус сладковатый
Утренних уст, поцелуя вино,
Сердце, сравнимое с твердым булатом,—
О, как пьянить ей влюбленных дано!
В каждой частице прохладного тела,
В родинке каждой, склонясь, узнаю
С благоговеньем немым винодела,
Светом поящего душу мою.
Стянутый пояс — в кольцо толщиною,
Стройностью стан подражает стихам,
И, восхищенный его прямизною,
Стих мой становится строен и прям.
Слов целомудрием, глубью молчанья
Дух мой от мира она увела.
Полночь, залитая этим сияньем,
Стала, как полдень прозрачный, светла.
Племя живет на предгориях Мины.
Там, где крутой обрывается склон,
Зреют плоды заповедной долины,
Путь к ним потоком седым прегражден.
Слезы — бурлящие воды потока.
Сколько влюбленных из дальних земель
Шли, изнуренные жаждой жестокой,
Чтобы увидеть твой лик, о газель!
Шли, чтоб погибнуть у скал в водопаде.
Ты ж удалялась, за горы маня.
Скрылась из глаз, поселилась в Багдаде,
В стойбищах Сирии бросив меня.
О, как мне тягостно это изгнанье!
Точно дожди, по каменьям шурша,
В душу струятся твои обещанья,
Но ведь не камень живая душа!
Нет мне спокойствия, нет утешенья!
Только лишь смерть принесет забытье.
Сладкая боль — бесконечность терпенья,
Тайная рана — богатство мое.
Белая лань, антилопа степная,
Дай лицезреть мне твой образ святой!
Счастием муки тебя заклинаю
И унижений моих высотой.
Сердце великой тоски не избудет
И никогда не погасит огня.
Только печаль мою видели люди,
Как к наслажденью ни звали меня.
Пусть говорят обо мне: «Он когда-то
Силою был и бесстрашьем велик,
Мог состязаться со львом у Евфрата,—
Нынче же гнется, как слабый тростник.
Пламя любви его тело колышет,
Все истончилось и высохло в нем.
Только любовью одною он дышит,
Входит в огонь и сгорает живьем.
Вечно без сна воспаленные вежды,
Празднует мука свое торжество.
Все лекаря потеряли надежду,
Но безнадежность и лечит его.
Траур по юности сердце надело.
Впалые щеки темны от тоски,
Вот уж чалмой обвивается белой
Ранняя проседь, ложась на виски.
Ложе в шипах его, зовом бессильным
Грудь его полнится ночью и днем,
Слезы, как горные ливни, обильны,
Склоны сухие питают дождем.
Молча приникни к его изголовью
И над веленьем судьбы не злословь.
Если бывает убитый любовью,—
Вот он. Как смерть, всемогуща любовь!»
«Глаза поили душу красотой…»
Глаза поили душу красотой…{317}
О, мирозданья кубок золотой!
И я пьянел от сполоха огней,
От звона чаш и радости друзей.
Чтоб охмелеть, не надо мне вина —
Я напоен сверканьем допьяна.
Любовь моя, я лишь тобою пьян,
Весь мир расплылся, спрятался в туман,
Я сам исчез, и только ты одна
Моим глазам, глядящим внутрь, видна.
Так, полный солнцем кубок пригубя,
Себя забыв, я нахожу тебя.
Когда ж, опомнясь, вижу вновь черты
Земного мира, — исчезаешь ты.
И я взмолился: подари меня
Единым взглядом здесь, при свете дня,
Пока я жив, пока не залила
Сознанье мне сияющая мгла.
О, появись или сквозь зыбкий мрак
Из глубины подай мне тайный знак!
Пусть прозвучит твой голос, пусть в ответ
Моим мольбам раздастся только: «Нет!»
Скажи, как говорила ты другим:
«Мой лик земным глазам неразличим».
Ведь некогда раскрыла ты уста,
Лишь для меня замкнулась немота.
О, если б так Синай затосковал,
В горах бы гулкий прогремел обвал,
И если б было столько слезных рек,
То, верно б, Ноев затонул ковчег!
В моей груди огонь с горы Хорив{318}
Внезапно вспыхнул, сердце озарив.
И если б не неистовство огня,
То слезы затопили бы меня,
А если бы не слез моих поток,
Огонь священный грудь бы мне прожег.
Не испытал Иаков{319} ничего
В сравненье с болью сердца моего,
И все страданья Иова{320} — ручей,
Текущий в море горести моей.
Когда бы стон мой услыхал Аллах,
Наверно б, лик свой он склонил в слезах.
О, каравана добрый проводник,
Услышь вдали затерянного крик!
Вокруг пустыня. Жаждою томим,
Я словно разлучен с собой самим.
Мой рот молчит, душа моя нема,
Но боль горит и говорит сама.
И только духу внятен тот язык —
Тот бессловесный и беззвучный крик.
Земная даль — пустующий чертог,
Куда он вольно изливаться мог.
И мироздание вместить смогло
Все, что во мне сверкало, билось, жгло —
И, истиной наполнившись моей,
Вдруг загорелось сонмами огней.
И тайное мое открылось вдруг,
Собравшись в солнца раскаленный круг.
Как будто кто-то развернул в тиши
Священный свиток — тайнопись души.
Его никто не смог бы прочитать,
Когда б любовь не сорвала печать.
Был запечатан плотью тайный свет,
Но тает плоть — и тайн у духа нет.
Все мирозданье — говорящий дух,
И книга жизни льется миру в слух.
А я… я скрыт в тебе, любовь моя.
Волною света захлебнулся я.
И если б смерть сейчас пришла за мной,
То не нашла б приметы ни одной.
Лишь эта боль, в которой скрыт весь «я»
Мой бич? Награда страшная моя!
Из блеска, из надмирного огня
На землю вновь не высылай меня.
Мне это тело сделалось чужим,
Я сам желаю разлучиться с ним.
Ты ближе мне, чем плоть моя и кровь, —
Текущий огнь, горящая любовь!
О, как сказать мне, что такое ты,
Когда сравненья грубы и пусты!
Рокочут речи, как накат валов,
А мне все время не хватает слов.
О, этот вечно пересохший рот,
Которому глотка недостает!
Я жажду жажды, хочет страсти страсть,
И лишь у смерти есть над смертью власть
Приди же, смерть! Сотри черты лица!
Я — дух, одетый в саван мертвеца.
Я весь исчез, мой затерялся след.
Того, что глаз способен видеть, — нет.
Но сердце мне прожгла внезапно весть
Из недр: «Несуществующее есть!»
Ты жжешься, суть извечная моя,—
Вне смерти, в сердцевине бытия,
Была всегда и вечно будешь впредь.
Лишь оболочка может умереть.
Любовь жива без губ, без рук, без тел,
И дышит дух, хотя бы прах истлел.
Нет, я не жалуюсь на боль мою,
Я только боли этой не таю.
И от кого таиться и зачем?
Перед врагом я буду вечно нем.
Он не увидит ран моих и слез,
А если б видел, новые принес.
О, я могу быть твердым, как стена,
Но здесь, с любимой, твердость не нужна.
В страданье был я терпеливей всех,
Но лишь в одном терпенье — тяжкий грех
Да не потерпит дух мой ни на миг
Разлуку с тем, чем жив он и велик!
Да ни на миг не разлучится с той,
Что жжет его и лечит красотой.
О, если свой прокладывая путь,
Входя в меня, ты разрываешь грудь,—
Я грудь раскрыл — войди в нее, изволь,—
Моим блаженством станет эта боль.
Отняв весь мир, себя мне даришь ты,
И я не знаю большей доброты.
Тебе покорный, я принять готов
С великой честью всех твоих рабов:
Пускай меня порочит клеветник,
Пускай хула отточит свой язык,
Пусть злобной желчи мне подносят яд —
Они мое тщеславье поразят,
Мою гордыню тайную гоня,
В борьбу со мною вступят за меня.
Я боли рад, я рад такой борьбе,
Ведь ты нужней мне, чем я сам себе.
Тебе ж вовек не повредит хула,—
Ты то, что есть, ты та же, что была.
Я вглядываюсь в ясные черты —
И втянут в пламя вечной красоты.
И лучше мне сгореть в ее огне,
Чем жизнь продлить от жизни в стороне.
Любовь без жертвы, без тоски, без ран?
Когда же был покой влюбленным дан?
Покой? О нет! Блаженства вечный сад,
Сияя, жжет, как раскаленный ад.
Что ад, что рай? О, мучай, презирай,
Низвергни в тьму, — где ты, там будет рай.
Чем соблазнюсь? Прельщусь ли миром всем? —
Пустыней станет без тебя эдем.
Мой бог — любовь. Любовь к тебе — мой путь.
Как может с сердцем разлучиться грудь?
Куда сверну? Могу ли в ересь впасть,
Когда меня ведет живая страсть?
Когда могла бы вспыхнуть хоть на миг
Любовь к другой, я был бы еретик.
Любовь к другой? А не к тебе одной?
Да разве б мог я оставаться мной,
Нарушив клятву неземных основ,
Ту, что давал, еще не зная слов,
В преддверье мира, где покровов нет,
Где к духу дух течет и к свету свет?
И вновь клянусь торжественностью уз,
Твоим любимым ликом я клянусь,
Заставившим померкнуть лунный лик;
Клянусь всем тем, чем этот свет велик,—
Всем совершенством, стройностью твоей,
В которой узел сцепленных лучей,
Собрав весь блеск вселенский, вспыхнул вдруг
И победил непобедимость мук:
«Мне ты нужна! И я живу, любя
Тебя одну, во всем — одну тебя!
Кумирам чужд, от суеты далек,
С души своейодежды я совлек
И в первозданной ясности встаю,
Тебе открывши наготу мою.
Чей взгляд смутит меня и устыдит?
Перед тобой излишен всякий стыд.
Ты смотришь вглубь, ты видишь сквозь покров
Любых обрядов, и имен, и слов.
И даже если вся моя родня
Начнет позорить и бранить меня,
Что мне с того? Мне родственны лишь те,
Кто благородство видит в наготе.
Мой брат по вере, истинный мой брат
Умен безумьем, бедностью богат.
Любовью поли, людей не судит он,
В его груди живет иной закон,
Не выведенный пальцами писца,
А жаром страсти вписанный в сердца.
Святой закон, перед лицом твоим
Да буду я вовек непогрешим.
И пусть меня отторгнет целый свет! —
Его сужденье — суета сует.
Тебе открыт, тебя лишь слышу я,
И только ты — строжайший мой судья».
И вот в молчанье стали вдруг слышны
Слова из сокровенной глубины.
И сердце мне пронзили боль и дрожь,
Когда, как гром, раздался голос: «Ложь!
Ты лжешь. Твоя открытость неполна.
В тебе живу еще не я одна.
Ты отдал мне себя? Но не всего,
И себялюбье в сердце не мертво.
Вся тяжесть ран и бездна мук твоих —
Такая малость, хоть и много их.
Ты сотни жертв принес передо мной,
Ну, а с меня довольно и одной.
О, если бы с моей твоя судьба
Слились — кясра и точка в букве «ба»!{321}
О, если б, спутав все свои пути,
Ты б затерялся, чтоб меня найти,
Навек и вмиг простясь со всей тщетой,
Вся сложность стала б ясной простотой,
И ты б не бился шумно о порог,
А прямо в дом войти бы тихо смог.
Но ты не входишь, ты стоишь вовне,
Не поселился, не живешь во мне.
И мне в себя войти ты не даешь,
И потому все эти клятвы — ложь.
Как страстен ты, как ты велеречив,
Но ты — все ты. Ты есть еще, ты жив.
Коль ты правдив, коль хочешь, чтоб внутри
Я ожила взамен тебя, — умри!»
И я, склонясь, тогда ответил ей:
«Нет, я не лжец, молю тебя — убей!»
Убей меня и верь моей мольбе:
Я жажду смерти, чтоб ожить в тебе.
Я знаю, как целительна тоска,
Блаженна рана и как смерть сладка,
Та смерть, что, грань меж нами разрубя,
Разрушит «я», чтоб влить меня в тебя.
(Разрушит грань — отдельность двух сердец,
Смерть — это выход в жизнь, а не конец,
Бояться смерти? Нет, мне жизнь страшна,
Когда разлуку нашу длит она,
Когда не хочет слить двоих в одно
В один сосуд — единое вино.)
Так помоги мне умереть, о, дай
Войти в бескрайность, перейдя за край,—
Туда, где действует иной закон,
Где побеждает тот, кто побежден.
Где мертвый жив, а длящий жизнь — мертвец,
Где лишь начало то, что здесь конец,
И где царит над миром только тот,
Кто ежечасно царство раздает.
И перед славой этого царя
Тускнеет солнце, месяц и заря.
Но эта слава всходит в глубине,
Внутри души, и не видна вовне.
Ее свеченье видит внешний взор,
Как нищету, бесчестье и позор.
Я лишь насмешки слышу от людей,
Когда пою им о любви своей.
«Где? Кто? Не притчей, прямо говори!» —
Твердят они. Скажу ль, что ты внутри,
Что ты живешь в родящей солнце тьме,—
Они кричат: «Он не в своем уме!»
И брань растет, летит со всех сторон…
Что ж, я умом безумца наделен:
Разбитый — цел, испепеленный — тверд,
Лечусь болезнью, униженьем горд.
Не ум, а сердце любит, и ему
Понятно непонятное уму.
А сердце немо. Дышит глубина,
Неизреченной мудрости полна.
И в тайне тайн, в глубинной той ночи
Я слышал приказание: «Молчи!»
Пускай о том, что там, в груди, живет,
Не знают ребра и не знает рот.
Пускай не смеет и не сможет речь
В словесность бессловесное облечь.
Солги глазам и ясность спрячь в туман —
Живую правду сохранит обман.
Прямые речи обратятся в ложь,
И только притчей тайну сбережешь.
И тем, кто просит точных, ясных слов,
Я лишь молчанье предложить готов.
Я сам, любовь в молчанье углубя,
Храню ее от самого себя,
От глаз и мыслей и от рук своих,—
Да не присвоят то, что больше их:
Глаза воспримут образ, имя — слух,
Но только дух обнимет цельный дух!
А если имя знает мой язык,—
А он хранить молчанье не привык,—
Он прокричит, что имя — это ты,
И ты уйдешь в глубины немоты.
И я с тобой. Покуда дух — живой,
Он пленный дух. Не ты моя, я — твой.
Мое стремление тобой владеть
Подобно жажде птицу запереть.
Мои желанья — это западня.
Не я тебя, а ты возьми меня
В свою безмерность, в глубину и высь,
Где ты и я в единое слились,
Где уши видят и внимает глаз…
О, растворения высокий час.
Простор бессмертья, целостная гладь —
То, что нельзя отдать и потерять.
Смерть захлебнулась валом бытия,
И вновь из смерти возрождаюсь я.
Но я иной. И я, и ты, и он —
Все — я. Я сам в себе не заключен.
Я отдал все. Моих владений нет,
Но я — весь этот целокупный свет.
Разрушил дом и выскользнул из стен,
Чтоб получить вселенную взамен.
В моей груди, внутри меня живет
Вся глубина и весь небесный свод.
Я буду, есмь, я был еще тогда,
Когда звездою не была звезда.
Горел во тьме, в огне являлся вам,
И вслед за мною всех вас вел имам.
Где я ступал, там воздвигался храм,
И кибла{322} киблы находилась там.
И повеленья, данные векам,
Я сам расслышал и писал их сам.
И та, кому в священной тишине
Молился я, сама молилась мне.
О, наконец-то мне постичь дано:
Вещающий и слышащий — одно!
Перед собой склонялся я в мольбе,
Прислушивался молча сам к себе.
Я сам молил, как дух глухонемой,
Чтоб в мой же слух проник бы голос мой;
Чтоб засверкавший глаз мой увидал
Свое сверканье в глубине зеркал.
Да упадет завеса с глаз моих!
Пусть будет плоть прозрачна, голос тих,
Чтоб вечное расслышать и взглянуть
В саму неисчезающую суть,
Священную основу всех сердец,
Где я — творение и я — творец.
Аз есмь любовь. Безгласен, слеп и глух
Без образа — творящий образ дух.
От века сущий, он творит, любя,
Глаза и уши, чтоб познать себя.
Я слышу голос, вижу блеск зари
И рвусь к любимой, но она внутри.
И, внутрь войдя, в исток спускаюсь вновь,
Весь претворись в безликую любовь.
В одну любовь. Я все. Я отдаю
Свою отдельность, скорлупу свою.
И вот уже ни рук, ни уст, ни глаз —
Нет ничего, что восхищало вас.
Я стал сквозным — да светится она
Сквозь мой покров, живая глубина!
Чтоб ей служить, жить для нее одной,
Я отдал все, что было только мной:
Нет «моего». Растаяло, как дым,
Все, что назвал я некогда моим.
И тяжесть жертвы мне легка была:
Дух — не подобье вьючного осла.
Я нищ и наг, но если нищета
Собой гордится — это вновь тщета.
Отдай, не помня, что ты отдаешь,
Забудь себя, иначе подвиг — ложь.
Признанием насытясь дополна,
Увидишь, что мелеет глубина,
И вдруг поймешь среди пустых похвал,
Что, все обретши, душу потерял.
Будь сам наградой высшею своей,
Не требуя награды от людей.
Мудрец молчит. Таинственно нема,
Душа расскажет о себе сама,
А шумных слов пестреющий черед
Тебя от тихой глуби оторвет,
И станет чужд тебе творящий дух.
Да обратится слушающий в слух,
А зрящий — в зренье! Поглощая свет,
Расплавься в нем! — Взирающего нет.
С издельем, мастер, будь неразделим,
Сказавший слово — словом стань самим.
И любящий пусть будет обращен
В то, чем он полн, чего так жаждет он.
О, нелегко далось единство мне!
Душа металась и жила в огне.
Как много дней, как много лет подряд
Тянулся этот тягостный разлад,
Разлад с душою собственной моей:
Я беспрестанно прекословил ей,
И, будто бы стеной окружена,
Была сурова и нема она.
В изнеможенье, выбившись из сил,
О снисхожденье я ее просил.
Но если б снизошла она к мольбам,
О том бы первым пожалел я сам.
Она хотела, чтобы я без слез,
Без тяжких жалоб бремя духа нес.
И возлагала на меня она
(Нет, я — я сам) любые бремена.
И наконец я смысл беды постиг
И полюбил ее ужасный лик.
Тогда сверкнули мне из темноты
Моей души чистейшие черты.
О, до сих пор, борясь с собой самим,
Я лишь любил, но нынче я любим!
Моя любовь, мой бог — душа моя.
С самим собой соединился я.
О, стройность торжествующих глубин,
Где мир закончен, ясен и един!
Я закрывал глаза, чтобы предмет
Не мог закрыть собой глубинный свет.
Но вот я снова зряч и вижу сквозь
Любой предмет невидимую ось.
Мои глаза мне вновь возвращены,
Чтоб видеть в явном тайну глубины
И в каждой зримой вещи различить
Незримую связующую нить.
Везде, сквозь все — единая струя.
Она во мне. И вот она есть я.
Когда я слышу душ глубинный зов,
Летящий к ней, я отвечать готов.
Когда ж моим внимаете словам,
Не я — она сама глаголет вам.
Она бесплотна. Я ей плоть мою,
Как дар, в ее владенье отдаю.
Она — в сей плоти поселенный дух.
Мы суть одно, сращенное из двух.
И как больной, что духом одержим,
Не сам владеет существом своим,—
Так мой язык вещает, как во сне,
Слова, принадлежащие не мне.
Я сам — не я, затем что я, любя,
Навеки ей препоручил себя.
О, если ум ваш к разуменью глух,
И непонятно вам единство двух,
И душам вашим не было дано
В бессчетности почувствовать одно,
То, скольким вы ни кланялись богам,
Одни кумиры предстояли вам.
Ваш бог един? Но не внутри — вовне,
Не в вас, а рядом с вами, в стороне.
О, ад разлуки, раскаленный ад,
В котором все заблудшие горят!
Бог всюду и нигде. Ведь если он
Какой-нибудь границей отделен,—
Он не всецел еще и не проник
Вовнутрь тебя, — о, бог твой невелик!
Бог — воздух твой, вдохни его — и ты
Достигнешь беспредельной высоты.
Когда-то я раздваивался сам:
То, уносясь в восторге к небесам,
Себя терял я, небом опьянясь,
То, вновь с землею ощущая связь,
Я падал с неба, как орел без крыл,
И, высь утратив, прах свой находил.
И думал я, что только тот, кто пьян,
Провидит смысл сквозь пламя и туман
И к высшему возносит лишь экстаз,
В котором тонет разум, слух и глаз.
Но вот я трезв и не хочу опять
Себя в безмерной выси потерять,
Давно поняв, что цель и смысл пути —
В самом себе безмерное найти.
Так откажись от внешнего, умри
Для суеты и оживи внутри.
Уняв смятенье, сам в себе открой
Незамутненный внутренний покой.
И в роднике извечной чистоты
С самим собой соединишься ты.
И будет взгляд твой углубленно тих,
Когда поймешь, что в мире нет чужих,
И те, кто силы тратили в борьбе,
Слились в одно и все живут в тебе.
Так не стремись определить, замкнуть
Всецелость в клетку, в проявленье — суть.
В бессчетных формах мира разлита
Единая живая красота,—
То в том, то в этом, но всегда одна,—
Сто тысяч лиц, но все они — она.
Она мелькнула ланью среди трав,
Маджнуну нежной Лейлою представ;
Пленила Кайса и свела с ума
Совсем не Лубна, а она сама.
Любой влюбленный слышал тайный зов
И рвался к ней, закутанной в покров.
Но лишь покров, лишь образ видел он
И думал сам, что в образ был влюблен.
Она приходит, спрятавшись в предмет,
Одевшись в звуки, линии и цвет,
Пленяя очи, грезится сердцам,
И Еву зрит разбуженный Адам.
И, всей душой, всем телом к ней влеком,
Познав ее, становится отцом.
С начала мира это было так,
До той поры, пока лукавый враг
Не разлучил смутившихся людей
С душой, с любимой, с сущностью своей.
И ненависть с далеких этих пор
Ведет с любовью бесконечный спор.
И в каждый век отыскивает вновь
Живую вечность вечная любовь.
В Бусейне, Лейле, в Аззе он возник{323},—
В десятках лиц ее единый лик.
И все ее любившие суть я,
В жар всех сердец влилась душа моя.
Кусаййир, Кайс, Джамиль или Маджнун
Один напев из всех звучащих струн.
Хотя давно окончились их дни,
Я в вечности был прежде, чем они.
И каждый облик, стан, лица овал
За множеством единое скрывал.
И, красоту единую любя,
Ее вбирал я страстно внутрь себя.
И там, внутри, как в зеркале немом,
Я узнавал ее в себе самом.
В той глубине, где разделений нет,
Весь сонм огней слился в единый свет.
И вот, лицо поднявши к небесам,
Увидел я, что и они — я сам.
И дух постиг, освободясь от мук,
Что никого нет «рядом» и «вокруг»,
Нет никого «вдали» и в «вышине»,—
Все дали — я, и все живет во мне.
«Она есть я», но если мысль моя
Решит, паря: она есть только я,
Я в тот же миг низвергнусь с облаков
И разобьюсь на тысячи кусков.
Душа не плоть, хоть дышит во плоти
И может плоть в высоты увести.
В любую плоть переселяться мог,
Но не был плотью всеобъявший бог.
Так, к нашему Пророку Гавриил{324},
Принявши облик Дихья, приходил.
По плоти муж, такой, как я и ты,
Но духом житель райской высоты.
И ангела всезнающий Пророк
В сем человеке ясно видеть мог.
Но значит ли, что вождь духовных сил,
Незримый ангел человеком был?
Я человек лишь, и никто иной,
Но горний дух соединен со мной.
О, если б вы имели благодать
В моей простой плоти его узнать,
Не ждя наград и не страшась огня,
Идти за мной и полюбить меня!
Я — ваше знанье, ваш надежный щит,
Я отдан вам и каждому открыт.
Во тьме мирской я свет бессонный ваш.
Зачем прельщает вас пустой мираж,
Когда ключом обильным вечно бьет
Живой источник всех моих щедрот?!
Мой юный друг, шаги твои легки!
На берегу остались старики,
А море духа ждет, чтобы сумел
Хоть кто-нибудь переступить предел.
Не застывай в почтении ко мне —
Иди за мною прямо по волне,
За мной одним, за тем, кто вал морской
Берет в узду спокойною рукой
И, трезвый, укрощает океан,
Которым мир воспламененный пьян.
Я не вожатый твой, я путь и дверь.
Войди в мой дух и внешнему не верь!
Тебя обманет чей-то перст и знак,
И внешний блеск введет в душевный мрак.
Где я, там свет. Я жив в любви самой.
Любой влюбленный — друг вернейший мой,
Мой храбрый воин и моя рука,
И у Любви бесчисленны войска.
Но у Любви нет цели. Не убей
Свою Любовь, прицел наметив ей.
Она сама — вся цель своя и суть,
К себе самой вовнутрь ведущий путь.
А если нет, то в тот желанный миг,
Когда ты цели наконец достиг,
Любовь уйдет внезапно, как порыв,
Слияние в разлуку превратив.
Будь счастлив тем, что ты живешь, любя.
Любовь высоко вознесла тебя.
Ты стал главою всех существ живых
Лишь потому, что сердце любит их.
Для любящих — племен и званий нет.
Влюбленный ближе к небу, чем аскет
И чем мудрец, что, знаньем нагружен,
Хранит ревниво груз былых времен.
Сними с него его бесценный хлам,
И он немного будет весить сам.
Ты не ему наследуешь. Ты сын
Того, кто знанье черпал из глубин
И в тайники ума не прятал кладь,
А всех сзывал, чтобы ее раздать.
О, страстный дух! Все очи, все огни
В своей груди одной соедини!
И, шествуя по Млечному Пути,
Полой одежд горящих мрак смети!
Весь мир в тебе, и ты, как мир, един.
Со всеми будь, но избегай общин.
Их основал когда-то дух, но вот
Толпа рабов, отгородясь, бредет
За буквой следом, накрепко забыв
Про зов свободы и любви порыв.
Им не свобода — цепи им нужны.
Они свободой порабощены.
И, на колени пав, стремятся в плен
К тому, кто всех зовет восстать с колен.
Знакомы им лишь внешние пути,
А дух велит вовнутрь себя войти
И в глубине увидеть наконец
В едином сердце тысячи сердец.
Вот твой предел, твоих стремлений край,
Твоей души сияющий Синай.
Но здесь замри. Останови полет,
Иначе пламя грудь твою прожжет.
И, равновесье обретя, вернись
К вещам и дням, вдохнув в них ширь и высь.
О, твердь души! Нерасторжимость уз!
Здесь в смертном теле с вечностью союз
И просветленность трезвого ума,
Перед которым расступилась тьма!
Я только сын Адама, я не бог,
Но я достичь своей вершины смог
И сквозь земные вещи заглянуть
В нетленный блеск, божественную суть.
Она одна на всех, и, верен ей,
Я поселился в центре всех вещей.
Мой дух — всеобщий дух, и красота
Моей души в любую вещь влита.
О, не зовите мудрецом меня,
Пустейший звук бессмысленно бубня.
Возьмите ваши звания назад,—
Они одну лишь ненависть плодят.
Я то, что есть. Я всем глазам открыт,
Но только сердце свет мой разглядит.
Ум груб, неповоротливы слова
Для тонкой сути, блещущей едва.
Мне нет названий, очертаний нет.
Я вне всего, я — дух, а не предмет.
И лишь иносказания одни
Введут глаза в незримость, в вечность — дни,
Нигде и всюду мой незримый храм,
Я отдаю приказы всем вещам.
И слов моих благоуханный строй
Дохнет на землю вечной красотой.
И, подчинись чреде ночей и утр,
Законам дней, сзываю всех вовнутрь,
Чтоб ощутить незыблемость основ
Под зыбью дней и под тщетою слов.
Я в сердцевине мира утвержден.
Я сам своя опора и закон.
И, перед всеми преклонясь в мольбе,
Пою хвалы и гимны сам себе.

АНДАЛУССКАЯ (ИСПАНО-АРАБСКАЯ) ПОЭЗИЯ
Абд ар-Рахман Перевод В. Потаповой
{325}«В Кордове, в царских садах…»
В Кордове, в царских садах, увидал я зеленую
Пальму-изгнанницу, с родиной пальм разлученную.
«Жребии наши, — сказал я изгнаннице, — схожи.
С милыми сердцу расстаться судилось мне тоже.
Оба, утратив отчизну, уехали вдаль мы.
Ты чужестранкой росла: здесь чужбина для пальмы.
Утренним ливнем умыться дано тебе благо.
Кажется звездной водой эта светлая влага.
Жителей края чужого ты радуешь ныне.
Корень родной позабыла, живя на чужбине».
«Плачь!» — говорю…»
«Плачь!» — говорю. Но не плачешь ты, пальма немая,
Пышной главою склонясь, равнодушно внимая.
Если б могла ты сочувствовать горю собрата,
Ты зарыдала б о пальмах и водах Евфрата.
Ты очерствела, лишенная почвы родимой. Близких забыл я,
Аббасовым родом гонимый.
«Примчавшись на родину…»
Примчавшись на родину, всадник, ты сердцу от бренного тела
Привет передай непременно!
Я западу тело доверил, востоку оставил я сердце
И все, что для сердца священно.
От близких отторгнутый роком, в разлуке очей не смыкая,
Терзаюсь я нощно и денно.
Господь разделил наши души. Но если захочет Всевышний,
Мы встречи дождемся смиренно.
Аль-Газаль
{326}«Когда в мое сердце вошла любовь…» Перевод М. Петровых
Когда в мое сердце вошла любовь,
От прежних страстей не осталось примет.
Норманнку-язычницу я полюбил,
Ее красота — лучезарный рассвет.
Но чудо живет в чужедальном краю,
Куда не найдешь, не отыщешь след.
Как юная роза, она хороша,
В жемчужные росы цветок разодет.
Она мне дороже и сладостней всех,
Вдали от любимой мне жизни нет.
С другими сравнить ее — значит солгать,
А ложь непривычна мне с малых лет.
Любимая шутит: «Твои виски
Белы, словно яблони вешней цвет!»
А я отвечаю: «Ну что ж, не беда,—
Иной жеребенок с рожденья сед».
Смеется она, а ведь я и хотел,
Чтоб рассмешил ее мой ответ.
«Я люблю тебя…» Перевод Б. Шидфар
«Я люблю тебя», — лгунья твердит без стыда,
Хоть давно поседела моя борода;
Но я знаю: не любит никто старика,
Легковерных обманешь, меня ж — никогда.
Кто поверит тебе, коль похвалишься ты,
Что на ветер надета тобою узда,
Что замерз полыхающий жарко огонь
Иль охвачена пламенем в речке вода?
«Ты с забвеньем вечным…» Перевод Б. Шидфар
Ты с забвеньем вечным не смирился,
Хоть уж близок час твоей кончины.
Повелел воздвигнуть на кладбище
Каменные плиты-исполины.
Как тебя тщеславье ослепило!
Видишь — смерть витает над тобою.
Неужели хочешь и в могиле
Над чужой глумиться нищетою?
Встали рядом — пышная гробница
И раба нагого погребенье;
Но законы смерти справедливы:
Всех удел — могильный червь и тленье,
Как же мне с судьбой не примириться?
Вижу я, напрасны ухищренья:
Те дворцы, что строились веками,
Бури разрушают за мгновенья.
Проросла трава в костях истлевших.
Как теперь узнаешь среди праха
Богача и нищего бродягу,
Воина, певицу иль монаха?
Где надеждой сердце трепетало,—
Ныне лишь сырой песок и глина,
Как узнать эмира и вельможу,
Различить раба и господина?
Нищего рассыпались лохмотья,
И парча румийская истлела.
Как узнать, кого нужда терзала,
Кто в шелках бесценных нежил тело?
Всех поглотит алчная могила.
Все уснут до часа Воскресенья.
Что же стоит знатность и богатство,
Если нам от смерти нет спасенья?
«К тебе невежда…» Перевод Б. Шидфар
К тебе невежда, льстец и мот
Бегут, едва блеснет восход,
За подаянием к тебе
Спешат гадатель, виршеплет.
Лжецов, бездельников, глупцов
В твоих покоях — жадный рой;
И каждый норовит развлечь
Тебя пустою болтовней.
Но ты им в лица посмотри —
Кто их, скажи, людьми назвал?
Вот морда хитрая лисы,
Вот волка хищного оскал,
Вот злой шакал, а вот хорек,
А этот — словно жирный кот,
Что изготовился к прыжку
И мышь в потемках стережет.
«Двое сватов прислали…» Перевод Б. Шидфар
«Двое сватов прислали, — сказал мне отец,—
Оружейник-бедняк и сосед наш купец.
Хоть немолод купец, но он щедр и богат,
Он жене молодой угождать будет рад.
Ты ведь любишь наряды — и шелк и парчу,
Не упрямься — отдам я тебя богачу».
Не сердись, мой отец, — если все решено,
Значит, век мне с купцом горевать суждено.
Хоть и знаю, что жизнь с бедняком не легка,—
Легче бедность терпеть, чем любовь старика.
«Когда на дружеском пиру…» Перевод М. Петровых
Когда на дружеском пиру мы допили вино,
Под мышку взяв пустой бурдюк и распалив отвагу,
Я к винной лавке подошел, хозяина позвал,—
Тот рысью побежал ко мне, не убавляя шагу.
Он дни и ночи служит тем, кто тешится гульбой,
Кто ценит выше всех даров наполненную флягу.
Я крикнул властно: «Эй, живей!» Он налил мне вина,
Я плащ и платье дал в залог за пламенную влагу.
«Но дай мне что-нибудь надеть, — торговцу я сказал,—
Я ни с одной из жен моих, клянусь, в постель не лягу,
Пока с тобой не разочтусь!» Но я ему солгал,
Аллах свидетель, — я солгал, я обманул беднягу.
Вернулся я в кружок друзей с тяжелым бурдюком,
И мы смеялись, говоря, что мой обман ко благу.
«Клянусь Аллахом…» Перевод М. Петровых
Клянусь Аллахом я, что стало мне завидно
На тех, что по земле свой краткий путь прошли.
Я столь давно живу, что затерялся где-то,
Среди живых людей — я ото всех вдали.
Расставшись с кем-нибудь, не думаю, чтоб снова
На этом свете мы друг друга обрели:
Увидит он меня, завернутого в саван,
Иль место, где мой прах когда-то погребли.
Взгляни и убедись: как мало их осталось,
Таких, чтобы мой гроб к могиле понесли.
Все заняты собой; они, еще живому,
Швыряют мне в лицо сухую пыль земли.
«Люди — созданья…» Перевод М. Петровых
Люди — созданья, что схожи друг с другом во всем,
Только деяньями разнятся те и эти.
Все обо всех говорят и правду и ложь,
Судят по зыбкой черте, по неточной примете.
Каждый поступки другого рад осудить,
Каждый проступки свои держит в секрете.
Совесть его отягчают сотни грехов,
Но за малейшую малость ближний в ответе.
Каждый доволен собой, счастлив собой
И наслаждается жизнью беспечно, как дети.
Злобное слово жалит подчас, как змея,
Сплетни сплетаются в нерасторжимые сети.
Если отравленным словом ты не убит,
Радуйся — ты счастливее всех на свете.
Саид ибн Джуди Перевод С. Липкина
{327}«Кознелюбивы и хитры…»
{328}Кознелюбивы и хитры, военной вы пошли тропой,
Но вы нашли в конце тропы позорной смерти водопой.
Восстанье ваше подавив, мы правую свершили месть,
Мы разгромили вас — рабов, отринувших закон и честь.
Рабы и сыновья рабов, вы раздразнили львов и львят,
Что верность братьям, и друзьям, и соплеменникам хранят!
Сгорите ж в пламени войны, упрямства буйного сыны,—
Теперь пылают и мечи, враждою к вам раскалены!
Сражался с вами ратный вождь, которого послал халиф:
Он славы жаждал — и погиб, сердца друзей испепелив.
Пришли мы с мщением за тех, чья жизнь для славы рождена,
Их возвышают с детских лет великих предков имена.
Погибель тысячам из вас мы принесли, ведя борьбу,
Но разве смерть вождя равна той смерти, что дана рабу!
Вы изувечили его, а он с почетом принял вас.
Вам страх пред ним не помешал убить его в кровавый час.
Вы в верности ему клялись, злодеи, черные сердца,
Предательством напоены, вы умертвили храбреца.
Наипрезреннейшим рабам, вам вероломство помогло,
Убийство совершили вы, призвав себе на помощь зло.
Всегда от благородных раб той отличается чертой,
Что раб не соблюдает клятв, для низких клятва — звук пустой!
Поэтому да поразят везде, и всюду, и всегда
Клятвопреступников-рабов гнев, и возмездье, и вражда!
Был полководец храбрым львом, опорой башен крепостных,
Он был защитой бедняков, оплотом слабых и больных.
Он кротость сочетал с умом, бесстрашье — с мудрой добротой.
Кто в мире обладал такой душой — отважной и простой?
О Яхья, мы сравним тебя с богатырями прежних дней…
О нет, и витязей былых затмил ты славою своей!
Да, бог тебя вознаградит и место даст тебе в раю,
Что уготован для мужей, погибших в праведном бою.
«Печаль меня объяла…»
Печаль меня объяла, когда она запела:
Изгнанницею стала, ушла душа из тела!
Я о Джейхан{329} мечтаю, хотя мечтать не смею,
Хотя еще ни разу не виделись мы с нею.
Ее твержу я имя и плачу, потрясенный,
Я — как монах, что шепчет молитву пред иконой.
«Терпенье, друзья!..»
{330}Терпенье, друзья! Пусть свобода — не скоро,
Терпенье — сердец благородных опора.
Немало томилось в цепях бедняков,
Но вызволил узников бог из оков.
И если я ныне — беспомощный пленник,
То в этом повинен презренный изменник;
И если б я знал, что случится со мной,
Пришел бы с копьем и в кольчуге стальной.
Соратники, верьте словам моим правым:
Я — ваш знаменосец в сраженье кровавом!
О всадник, тоскуют отец мой и мать,
Привет им от сына спеши передать.
Жена, я тебя никогда не забуду,
С тобой мое сердце всегда и повсюду:
Представ перед богом, достигнув конца,
Сперва о тебе вопрошу я творца.
А если зарыть меня стража забыла,
У коршуна будет в зобу мне могила.
Ибн Абд Раббихи Перевод М. Кудинова
{331}«О, как он страшен для врагов…»
{332}О, как он страшен для врагов, меч грозный полководца!
Пред ним разверзнется земля, рекою кровь прольется.
Он карой для неверных был, когда в душе их черной
Горела ненависть огнем, вздымаясь непокорно.
Как будто нападает лев, вдруг выскочив из чащи,
И грозен гневный рев его, и грозен взор горящий,
Который словно бы узрел, что смута за собою
Ведет людей во всех краях и всех готовит к бою.
Как много блещущих мечей в огромном войске этом!
Не надо зажигать огня — мир озарен их светом.
Начав поход во тьме ночной, вел полководец войско.
В груди у воинов его пылает дух геройский.
Лавиной мчатся кони их, поджары и высоки,
И каждый всадник — как валун в грохочущем потоке.
Когда кипит на копьях бой и смерть простерла крылья,
Глаза у воинов горят, как угли в тучах пыли.
И, разгромив своих врагов, они им платят местью,
И если здесь не отомстят, в другом захватят месте.
Победоносный Насир их ведет{333}, не зная страха,
И войско следует за ним под знаменем Аллаха.
Когда отряды на конях то знамя окружают,
Мрак всеобъемлющий они в тот миг напоминают.
Все дальше движутся войска, идут в ночи беззвездной,
Клубится облаками пыль над их громадой грозной.
Они на вражескую рать обрушатся жестоко,
Как будто сшиблись две реки, смешались два потока.
Но храбрых битва не страшит, и воин настоящий
Подобен льву, чей рев летит над потрясенной чащей.
Завеса темная висит, и смутным стало зренье —
То между небом и землей повисла пыль сраженья.
И распростертые тела, уж ничему не внемля,
Как облетевшая листва, здесь устилают землю.
Людские головы в ныли валяются повсюду,
И кажется, что диких тыкв здесь раскидали груду.
А по реке плывут тела, которые когда-то
Гордились силой, а теперь истерзаны, разъяты.
И кони наступают здесь на кости человечьи,
Которые индийский меч так яростно увечил.
«Как заставляют встать…»
Как заставляют встать верблюдов на колени,
Так всадников с коней срывает вихрь сражений.
Они неслись вперед, как вестники беды,—
Сраженье грозно разбивает их ряды.
Поля селений превращаются в пустыни,
Где пронеслись войска, подобные лавине.
Как яйца страуса, сверкают шлемы их,
Кольчуги крепкие на их телах сухих.
Их скачущий отряд в потоке слит едином,
В пылу сражения они подобны джиннам.
От предков их мечи, которых крепче нет,
Узоры на мечах — как муравьиный след.
И выдержать их блеск глаза не в состоянье,
Ведь это смерть сама, ее звезды сверканье.
«Вздымаются гибкие копья…»
Вздымаются гибкие копья. На их остриях
Погибель сверкает и сеет смятенье и страх.
А если их древки о землю ударятся разом,
То рухнут холмы, помутится у робкого разум.
Лев грозный ведет это войско. Всегда он готов
Вперед устремиться и дерзко напасть на врагов.
Мечи по приказу его вдруг взлетают, как птицы,
И смерть они сеют, еще не успев опуститься.
Белы их клинки, но от страха чернеют сердца,
Едва только сталь засверкает в руке удальца.
Слетаются воронов стаи и кружат над нами:
Враги наши будут кормить их своими телами.
Я в гущу сраженья бросаюсь, когда даже лев
Пред бездной зияющей смерти стоит, оробев.
На вражеских всадников яростно меч свой обрушив,
Я вижу, как холод смертельный объемлет их души.
Смерть в разных обличьях встает средь кровавых полей.
Герой ненавидит ее — и стремится он к ней.
«С каким терпением тупым…»
С каким терпением тупым судьбы несешь ты бремя!
Но и упрямее тебя и терпеливей время.
Так пусть же разум победит желанья, страсти, бредни.
Живи, как будто этот день — твой день уже последний.
Жизнь — это нива, и на ней, чтоб стать тебе счастливей,
Сей то, что хочешь пожинать на этой трудной ниве.
Когда уходим мы во тьму бездонного колодца,
Что, кроме наших дел, еще как след наш остается?..
Ты разве не слыхал о тех, кого давно не стало?
Одним хвалу мы воздаем, других же ценим мало.
И если ты свое добро растратил неумело,
Ни людям пользы, ни тебе — ты лишь испортил дело.
«Как щедро одаряет тот…»
Как щедро одаряет тот, кто щедр на самом деле!
Всегда он щедр, хотя концы сам сводит еле-еле.
Но много ль стоит щедрость тех, кого просить нам надо?
Пусть даже щедры их дары — им все равно не рады.
«Самою скупостью разведены чернила…»
{334}Самою скупостью разведены чернила,
Рукой писавшего невежество водило,
Листы сворачивала скаредность того,
Кто обещанья не исполнил своего,
Чей злополучен вид, чья близость — оскорбленье
И с кем знакомство вызывает омерзенье.
Остаться гостем в доме у него — беда!
В желудке камнем застревает там еда.
А встретится твой взгляд с его скользящим взглядом,
Почувствуешь, что он насквозь пропитан ядом.
Зато приправами не будешь обделен:
Приправил голодом все угощенья он.
«Упаси меня боже…»
Упаси меня боже защиты искать и опоры
У подобных тебе, от беды отвращающих взоры.
Мои рифмы оделись в кольчуги из черных колец
И блуждают, не зная, где кров обретут наконец.
Разве, слыша стихи мои, стал ты добрей хоть немного?
К милосердью взывали они, в них звучала тревога.
Если б сотая доля души твоей стала щедрей,
Твою черствость и скаредность люди забыли б скорей.
«На них надеяться…»
На них надеяться ты и не думай даже:
Их обещания обманчивей миража.
Настали времена, когда у худших власть,
И волки алчные рычат и скалят пасть.
Куда бы ни пошел, повсюду зла засилье,
Псы поделили мир, всю землю захватили.
Попросишь горсть земли у этих злобных псов,
Они ответят: «Нет!», других не зная слов.
Ты порицаешь тех, кто платит им хулою,
Но зло назвать добром — ведь тоже дело злое.
«Стихи мои, шатаясь…»
Стихи мои, шатаясь, встали в ряд.
Стихи мои и стонут и скорбят.
Среди тупоголовых пропадают
Мои стихи. Скупцы их отвергают.
От алчности рука скупца дрожит.
О, пусть удача от таких бежит!
Как будто в сговор все они вступили —
Не дать просящим, попирать бессилье.
К делам высоким звал я их не раз,—
Мои стихи, они отвергли вас.
Мне мерзко рядом с ними находиться;
Но мир велик, в нем есть куда укрыться.
Не первый я, кому пески пустынь
Нашептывают: край родной покинь!
Аллах меня всех милостей лишает —
Невежд он любит, дурней возвышает.
А ты, погрязший в алчности своей,
Ты, не творящий блага для людей,—
О, не видать бы мне тебя вовеки!
Умрешь — ничьи от слез не вспухнут веки.
К тебе дорогу щедрость не найдет,
Свет славы над тобою не взойдет.
«Вот речь…»
Вот речь, в которой что ни слово,
То радость для ума живого,
И что ни слово — волшебство,
Бальзам для сердца твоего.
Речь эта — правды отраженье,
И нет в ней темных выражений,
И так остра вся эта речь,
Что подражать ей может меч.
Но кровь он только проливает,
А эта речь от зла спасает.
«Хоть мускус был в мешок упрятан…»
Хоть мускус был в мешок упрятан,
Распространяет аромат он.
Так и людей достойных слава:
Ни злой, ни лживый, ни лукавый
Не смогут скрыть ее сиянья,
И не нужны ей оправданья.
Бывает и луна порою
Сокрыта облачной грядою,
Но озарится лунный лик —
И мрак ночной развеян вмиг.
Без корабля, себе на горе,
Переплывать не станешь море.
Коль нитки у тебя сгорели,
Без ниток нет и ожерелий.
Чтоб чистыми металлы стали,
Их на огне переплавляли.
Примеры эти может каждый
В беседе привести однажды.
От них все речи стали схожи
И в Йемене, и в Мекке тоже.
Их андалусец сочинил,—
Не житель Акки их сложил.
«Один достойный сделать шаг…»
Один достойный сделать шаг — для благородных мало:
Все дальше надо им идти во что бы то ни стало.
Желанной цели не достичь — нет хуже наказанья;
Каким бы сильным ни был страх, еще сильней желанье.
Не потому ли Моисей просил когда-то бога:
«Явись мне! Дай мне лицезреть тебя хотя б немного!»
А бог ведь с ним беседы вел и странствовал с ним вместе…
Чего же Моисей хотел? Добиться большей чести!
«Хотя от близких я далек…»
Хотя от близких я далек и в трудном положенье,
Дай оградить мне честь мою от горьких унижений.
Сказали мне: «Покинул ты родных, друзей и брата».
Ответил я: «Мне брат теперь… то, что в руке зажато».
«Ты меня упрекаешь…»
Ты меня упрекаешь… О, горе тебе! Эта боль хуже всех.
Но вина бедняка ведь не так велика, как язычества грех.
На тебя потеряла любовь моя всякое право отныне,
Как должник неоплатный она, как покинутый странник в пустыне
Если тот, кто был щедрым и честным, кровавыми плачет слезами
Извинить его можно: он видит, что мир наш захвачен скупцами
Негодяи богатством гордятся, и нет им отказа нигде,
А хороших людей можешь только увидеть в нужде и в беде.
«Свет седин у меня…»
Свет седин у меня на висках проступает.
Но без света дневного ночь разве бывает?
Получил этот свет я за прежнюю тьму,
Вместо черной он белую дал мне чалму.
Зрелость в новый наряд мою плоть облачила,
Сняв одежды, что в прошлом мне юность вручила
И без всяких условий любовь я сменил:
Права выбора я для себя не просил.
«Мне сказали…»
Мне сказали: «Прошла твоя юность». А я им на это ответил:
«С той поры, как день ночью сменяется, что изменилось на свете?
Если любите вы, то старайтесь встречаться почаще:
Без свиданий двух любящих жизнь не была б настоящей.
Если кто-то стал в тягость, то дружбы водить с ним не надо:
Вместе будет вам худо, коль сердце той дружбе не радо».
«Справедливость забыв…»
Справедливость забыв, седина на меня нападает;
Как правители наши, нечестно она поступает.
Словно ночь надвигается властно на пряди мои,
Но еще не расправилась ночь с белизною зари.
Мрак ночной, уходя, черноту моих прядей уносит,
И уже истощилась она и пощады не просит.
Мои черные волосы день ото дня все белей.
Мои зубы чернеют, простясь с белизною своей.
«Остатки радости твоей…»
Остатки радости твоей — как опустевший дом,
Где только стены, и зола, и немота кругом.
Твои виски с их сединой — свидетели того,
Что близится последний час, не скрыться от него.
Просроченные векселя — морщины, седина.
Хоть ты банкрот, но смерть твоя оплатит их сполна.
«Вот всходят звезды…»
Вот всходят звезды в волосах и не заходят:
И день и ночь они на темном небосводе.
А чернота волос — как будто мрак ночной,
И мрак тот светом весь пронизан — сединой.
Сначала седина предостеречь нас хочет,
И нам она не лжет, хотя беду пророчит.
Посланца смерти направляет к нам она,
Но мы не верим ей и не теряем сна.
«Нам долго жить еще», — мы говорим ей кротко.
Но ведь любая жизнь нам кажется короткой.
Как нас обманывает жизнь и предает!
Всё — обольщенье в ней: приход ее, уход.
Седой старик на жизнь не смотрит безучастно,
Но жизнь свою продлить пытается напрасно…
Как будто девушки не восхищались мной,
А я не сравнивал их с солнцем и луной.
Как будто радости и счастья не бывало,
Когда прозрачные спадали покрывала.
«Ушла твоя молодость…»
Ушла твоя молодость — жил ты под сенью ее,
И трудно сказать, где теперь обретешь ты жилье.
Нет прежней веселости — гонит ее седина.
Считайся с ней: речь ее доводов веских полна.
«Промчалась молодость твоя…»
«Промчалась молодость твоя», — мне люди говорят.
«Промчалась, — отвечаю я, — не возвратить назад».
О, если бы она со мной осталась навсегда,
Благословенным даром жизнь казалась бы тогда.
Без покрывала седина пришла средь бела дня,
И те, кто мною помыкал, покинули меня.
Проходит и уходит жизнь, как тень от облаков,
И кратки радости ее, и призрачнее снов.
«Я другом молодости был…»
Я другом молодости был, и вдруг без сожаленья
Она покинула меня, исчезла, как виденье.
Под сенью дерева я жил, душа забот не знала,
И неожиданно листва с его ветвей опала.
«Когда ты порвалась…»
Когда ты порвалась, о молодости нить?
Как мог я черный цвет на белизну сменить?
Превратности судьбы луг вытоптали юный,
Ночная темнота свет погасила лунный,
Исчезла молодость — и грусть вошла в мой дом,
Теперь глаза мои разлучены со сном.
И радость жизни, что сияла мне вначале,
Покинула меня — пришли ко мне печали.
Как будто, юность, я не знал твоих садов,
Как будто не вкушал их сладостных плодов,
Как будто луг твой увлажнен дождями не был,
И не всходил рассвет, не пламенело небо!
О жажда молодости, как ты велика!
О жажда тайная и явная тоска!
Пора оправданных безумств и заблуждений,
Меня преследуешь ты, словно наважденье.
Дарила юность мне жар своего огня,
Прельщала силою и красотой меня,
Была послушна мне, а я был равнодушен…
И нет ее теперь, когда я стал послушен.
«Он, видно, кается…»
Он, видно, кается, — и с каждым днем сильнее,—
Что плохо пользовался юностью своею.
Явилась седина — и словно кто унес
И молодость его, и черноту волос.
Когда случилась с ним такая незадача,
Былую черноту оплакивать он начал,
И начал радоваться, если мог опять,
Покрасив волосы, на время черным стать.
Так в волосах его сражаются упорно
Голубка белая и черная ворона.
«Если пришел ты к тому…»
Если пришел ты к тому, кто правами своими кичится
И не считается с правом твоим — поспеши удалиться.
Дальше держись от него — и спокойствие ты обретешь:
Он не поможет тебе, справедливости ты не найдешь.
Если ж стерпел униженье — без носа достоин остаться,
Меньший позор быть с отрезанным носом, чем так унижаться.
«О небо кровавое!..»
О небо кровавое! В небе от пыли темно.
Земля станет красной, когда прояснится оно.
День мраку ночному подобен, и звезды во мгле
На копьях сверкают, на каждом горят острие.
На битву поднялся я, как поднимается пыль,
Как темные копья, что пишут кровавую быль,
Как белые лезвия йеменских гладких мечей,
Чья сталь ослепляет сверканьем разящих лучей.
«Мечи, приютившие смерть…»
Мечи, приютившие смерть под своим острием,
Питаются плотью, а кровь для них служит питьем.
Когда со знаменами алыми ветер играет,
То вслед за полотнищем радостно сердце взлетает.
Делами своими герой изъясняться привык:
Отважны поступки — объят немотою язык.
И если герои врагам уготовили встречу —
Копье говорит, меч блистает отточенной речью.
«Сень длинных копий…»
Сень длинных копий над тобою вместо крова,
Спина коня — твой дом, не знаешь ты другого.
Не плащ со складками — кольчуга твой наряд,
Ты воин истинный от головы до пят.
Как будто с малых лет ты вскормлен был войною,
И бедствия ее витают над тобою.
Как велико твое терпение в боях
И жажда гибели в неведомых краях!
И если каждый год несет походов бремя,
То ты Священную войну ведешь все время.
А возвратился ты, победой осенен,—
Как будто дух был нашей плоти возвращен.
Меч, опоясанный мечом, мы созерцали,—
Сталь, озаренную сверканьем грозной стали.
«Войска — словно море…»
Войска — словно море: поверхность покрыта волнами,
В пучине мечи и кинжалы сверкают, как пламя.
Не двигаясь с места, все море приходит в движенье,
У самого края уже закипает сраженье.
И витязи кубок кровавый пускают по кругу,
Вручают тот кубок на поле сраженья друг другу.
Наполнен он влагой, добытой при помощи стали:
Меч белый и черные копья ее добывали.
И слышится воинам песня средь грохота боя,
Звон стали ей вторит, а песня поется судьбою.
«Меч смерти полководец взял с собою…»
Меч смерти полководец взял с собою.
Он сам как меч, и он стремится к бою,
Стремится на свидание с врагом.
Речей любовных на свиданье том
Не произносят — там другие речи,
И хочет враг уйти от этой встречи.
Но вот с ним меч вступает в разговор,
И враг смущен: слова разят в упор.
В смятенье враг: здесь гибель в каждом слове.
Сверкает меч, он жаждет вражьей крови,
Он песнь свою поет, врезаясь в плоть,
Всесилен он, его не побороть.
Так всех врагов, что дерзостно восстали,
Смиряет блеск его разящей стали.
О, сколько бед готовили они!
Но поднят меч — и сочтены их дни.
«Был ненавистен — стал любим…»
Был ненавистен — стал любим: так сердце повелело.
Подобны мы одной душе, вселившейся в два тела.
А кто поссорить хочет нас, не оберется сраму:
Он словно тот, кто в гору лез, а угораздил в яму.
Недаром каждому из нас теперь он ненавистен:
Никто вовеки двух мечей в одни ножны не втиснет.
Ну, что ему до наших дел? Мы разберемся сами.
Пусть держится особняком, как нос между глазами.
«Я думал о тебе…»
Я думал о тебе: ты море иль луна?
И мысль моя была сомненьями полна.
Я «море» говорю, но там отлив бывает,
А море щедрости твоей не убывает.
Я говорю «луна» — а ей ущербной быть,
И потому с луной нельзя тебя сравнить.
«О смерти кто напомнил мне?..»
О смерти кто напомнил мне? Душа о ней забыла,
Когда с женою и детьми так хорошо мне было.
И вдруг холодная рука моей руки коснулась,
И слезы брызнули из глаз, спина моя согнулась.
О, мне судьбы не отвратить от начатого дела!
А дело это — отделить мой скорбный дух от тела.
«Как мог ты пить вино…»
Как мог ты пить вино и пировать с любимой
У края гибели своей неотвратимой?
О ты, кого мечта так долго ослепляла,
Жизнь коротка твоя и дней осталось мало.
И каждый день судьба, что стольких погубила,
Тебе указывает, где твоя могила.
Так жизнь устроена: порадует вначале,
А вслед за радостью приходят к нам печали.
Они отнимут все, что накопил ты прежде,—
Конец твоей мечте, конец твоей надежде!
Их изгоняет явь, и по ее веленью
Приходит истина на смену обольщенью.
«Коль ты разумен…»
Коль ты разумен, то в шелка не облачайся
И благовоньями с утра не умащайся,
Не надевай колец, чьи камни как лучи,
Плащ за собою по земле не волочи.
Не чванься. Пусть твой шаг всегда неслышным будет,
Не должен восседать ты с выпяченной грудью,
Не должен важничать: куда б ни привели
Тебя твои пути, будь скромен, будь в пыли,
Ходи нечесаный, в невзрачном одеяньи
Из самой что ни есть простой и грубой ткани.
И пусть твои глаза без зависти глядят
На тех, кто облачен в сверкающий наряд,
Кто силой наделен и чьи надменны речи,
Кто наслажденьям предается каждый вечер,
Кто совесть заглушил, но отрастил живот
И кто не думает о том, что завтра ждет.
Сегодня на коне он будет красоваться,
А завтра под бичом кричать и извиваться.
То впал в немилость он, то снова на коне…
Нет! Зависть вызывать иль жалость — не по мне.
«И счастья в жизни не найти…»
И счастья в жизни не найти,
И от судьбы мне не уйти,
И сколько б ни старался я,
Другой удел — не для меня.
Так что же взяться заставляет
Меня за дело, что толкает
Тащить весь этот груз опять?
Хотелось бы мне это знать!
«Стары кости мои…»
Стары кости мои — только грусть не стареет моя.
Иссякает терпенье, а слез не иссякнет струя.
О покинувший нас, я не тешусь надеждою ложной:
Лишь на Страшном суде наша встреча с тобою возможна.
Как была бы прекрасна могила, когда бы не ты
Был сокрыт в ней, а я, твой отец, чьи разбиты мечты!
Я в великом терпенье пытаюсь найти утешенье,
Но тому, кто в отчаянье впал, не поможет терпенье.
«О сердце, сердце…»
О сердце, сердце, что с тобою сталось?
От горя мое сердце разорвалось.
Хоть мы живем, оплакав мертвеца,
Не оправданье это для отца.
О милость божья, рядом будь с могилой,
В которой сына сам похоронил я,
И озари могильный мрак тому,
Кто не нанес обиды никому,
Не запятнал себя недобрым делом
И непорочен был душой и телом.
О смерть, зачем тобою призван тот,
Кто в спутники тебе не подойдет?
Зачем ему ошибки не простила?
Тебя избрать — его ошибкой было.
Ведь если б не пошел он за тобой,
То им гордился б край его родной,
Принес бы славу он ему однажды,
О подвигах его узнал бы каждый.
Какой же меч лишила блеска ты!
Какой рассвет стал жертвой темноты!
Какая длань отторгнута от тела!
Как все вокруг померкло, опустело!
Еще до полнолунья полог свой
Раскинуло затменье над луной.
И чья душа скорбеть о нем не станет,
И чьи глаза печаль не отуманит
При этой вести? Сам же я с тех пор
Утратил стойкость, и потух мой взор,
И хоть живу, страданием томимый,
Права мои на смерть неоспоримы.
Моя душа со смертью говорит
И на костре отчаянья горит.
«Судьба наметила его…»
Судьба наметила его — и он потерян нами.
Достойнейший от нас ушел с закрытыми глазами.
О, я бы отдал за него отца и мать родную!
Он — мой единственный… Нет слов сказать, как я горюю.
Был разум светлый у него, и светом озарилась
Могила темная его — тьма в сердце воцарилась.
Зачем же был судьбы удар не на меня направлен?
Зачем похищен только он, а я в живых оставлен?
Он был советником для тех, кто ждал его совета.
Кому был нужен свет его, не уходил без света.
Людей любил он, и они его любили тоже,
Хранил он честь свою и был… в могилу был положен.
На свете ни один отец сражен так горем не был:
Такого сына никому не даровало небо.
Никто не радовался так бесценнейшему дару,
Пока преступная судьба не нанесла удара.
О ты, проливший реки слез, чтоб облегчить страданье,
Тебе забвенья не дадут ни слезы, ни стенанья.
Но сердце, где бушует боль, горя, как адский пламень,
Не хочет превратиться вдруг в железо или в камень.
Из памяти уходят дни, что радость мне давали,
Но никогда не позабыть мне о своей печали.
Такую память на земле ты о себе оставил,
Что и завистников своих ты замолчать заставил.
В тебе я видел все черты и чистоты и силы,
И благородная душа в чертах твоих сквозила.
И вот я плачу о тебе, и льются слезы эти,
Когда воркует под окном голубка на рассвете.
И если бы не мысль о том, что я не понят буду,
Что это ересью сочтут, — я объявил бы всюду
Днем всенародной скорби день, когда сомкнул ты вежды,
А день, когда родился ты, днем счастья и надежды.
«Все дома опустели…»
Все дома опустели, нигде голоса не звучат.
Всюду скорбь воцарилась, весь мир этой скорбью объят
О тебе я горюю. Когда б тебя смерть не скосила,
Ты придал бы исламу и добрым обычаям силу.
Абу Бекр, не хватает мне слез, чтоб оплакать тебя!
Просыпаюсь, стеная, день божий встречаю, скорбя.
Вспоминая тебя, восклицаю: «О, горе мне, горе!»
Мне никто не ответит, теперь только эхо мне вторит.
О, души моей светоч, опора в превратной судьбе,
Почему обошла меня смерть, приближаясь к тебе?
Мы бы вместе тогда погрузились в пучину могилы,
Был бы саван один, и одна бы нас мгла поглотила.
О, какая душа в оболочке телесной жила!
Приюти эту душу, Аллах, она чистой была.
Если б даже весь мир за него предложило мне небо,
Он бы тоже за жизнь его платой достойною не был.
«Я разлучен с ним навсегда…»
Я разлучен с ним навсегда. О, горькая разлука!
Страшнее Страшного суда мне выпавшая мука.
Пришли отчаянье с тоской и сердце сокрушили.
Лишь часть души еще со мной, другая часть — в могиле
Терпи, мне люди говорят, храни в беде смиренье.
Я отвечаю: «В сердце ад, и кончилось терпенье».
Неоперившимся птенцом, что набирался силы,
Он был, и вот своим отцом опущен в тьму могилы.
И если я тебе скажу: боль улеглась немного,
Не верь мне, я с ума схожу, растет моя тревога.
На что бы взор ни бросил я, повсюду смерти жало,
И кажется, что вся земля его могилой стала.
Когда бы птицей в райский сад душа моя летела,
Она к могиле той назад вернуться б захотела.
«Вот маленький колдун…»
Вот маленький колдун{335}, исполнен он отваги,
Хоть слабая рука им водит по бумаге.
Слова, им сказанные, — немы, но глаза
Способны услыхать все то, что он сказал.
Звучать и трепетать сердца он заставляет,
Картины яркие в сознанье вызывает,
Нанизывает не жемчужины — слова,
Велит, чтоб строчками бумага расцвела.
Захочет кратко ли сказать или пространно,
Красноречивее он может быть Сахбана{336}.
Пусть ты отсутствуешь, пусть от него далек —
Он не боится расстояний и дорог.
Ты видишь, он судьбой повелевает даже:
Должна она исполнить все, что он прикажет.
Хоть тонок он и слаб, зато в делах велик:
Зови его в беде — придет на помощь вмиг.
И пусть он мал на вид, огромный отклик сразу
Находит речь его, пленяющая разум.
В людские души проникает эта речь,
Чтоб их утешить и от зла предостеречь.
Когда с бумагою он в разговор вступает,
На ней он словно черный жемчуг рассыпает.
Или как будто ты на ней увидел вдруг
Весенние цветы, усеявшие луг.
Ибн Хани Перевод С. Липкина
{337}«В движенье челюсти…»
{338}В движенье челюсти, а сам он недвижим. Смотри,
Быть может, у него дракон шевелится внутри?
Я думаю, когда смотрю на непомерный рот:
Не проглотил ли он базар? Иль сад? Иль огород?
О, этот ненасытный рот похож на страшный ад,
В котором тысячи чертей от алчности вопят!
Какие зубы у него! Остры и велики,
Как мельничные жернова, вращаются клыки,
Откуда этот гул во рту? Мечи кует кузнец
Иль к фараону держат путь посланцы во дворец?
Работа чья слышна во рту — резцов или клыков?
Иль то гремят, звенят ножи дородных мясников?
Барашек у него в руке, изжаренный, дрожит,—
То не Иону ли в воде схватил свирепый кит?{339}
Смотри, козленка он зажал, когтит его, как зверь,
И жертве из таких когтей не вырваться, поверь.
Глотает уток — по одной и по две иногда:
Как бы засасывает их болотная вода!
От жадности готов сожрать со стеблем вместе рис,
И в музыке его кишок попробуй разберись:
То плакальщиц надгробный плач? Рыданье вдов, сирот
О том, что не вернется тот, кто угодил в сей рот?
Все кости он готов разгрызть иль то крупу он ест?
Иль жернов у него во рту? Иль то со ступой пест?
Чревоугодье свой огонь решило в нем разжечь,
С тех пор напоминает он пылающую печь.
В его желудке и кишках тмин и гвоздика есть
И мельница ручная есть, — побольше только б съесть!
Уйдем же от него быстрей — сожрет он и людей!
Тревоги наши тяжелы, как вьюки лошадей.
Спасайся! Челюсти его нас могут размолоть,
И станет крошевом во рту обжоры наша плоть.
Его не напоит вовек Евфрат своей волной
И не насытит тот ковчег, в котором плавал Ной.
«Вздохи страсти…»
Вздохи страсти превращаются в рыданье,
Говорят они безмолвно о страданье.
Гибнет тот, кто покорен красой газели,
Перед кем любви знамена заблестели:
Рок смягчился и пронзил его стрелою,
Оперенною печалью и бедою…
О, не бойся, о, не бойся, пленник страсти:
Ты узнаешь в счастье — горе, горе — в счастье!
А любовь? Она и радость и страданье.
А судьба? Она и цвет и увяданье.
Ибн Шухайд Перевод М. Зенкевича
{340}«Как много облаков…»
Как много облаков перед рассветной ранью
Завесили дождем небесное сиянье;
И плачут облака тяжелыми слезами,
Как будто горестно им с небом расставанье.
Как море, небеса волнуются над нами,
И в каждой градине — жемчужное блистанье.
«Я так страдаю от любви…»
Я так страдаю от любви, — и в час неотразимый,
Пред смертью, не вкусил бы я подобного страданья,
И только честь моя одна — защита от любимой,
Так что ж: любовь иль честь отдать ей в жертву для закланья.
«Я написал ей…»
Я написал ей, что влюблен, что не могу таиться,
Пусть тайна моего письма меж нами сохранится.
Но мне ответила она одним безмолвным взглядом,
И этот взгляд меня прожег — томлюсь, как в огневице.
Она молчит, но говорят мне языком понятным
Опущенные вниз глаза — сквозь веки и ресницы,
А если взглянет на меня, то сердце затрепещет,
Как будто в этот миг оно — в когтях у хищной птицы.
Ибн Хазм Перевод М. Петровых
{341}«Что такое судьба?..»
Что такое судьба? Только то, что познали, постигли.
Неизменна лишь горечь, а счастье уйдет без возврата.
Ни единой отрады судьба не дает безвозмездно.
Безысходная скорбь — за мгновенную радость расплата.
Лучше было б не жить, лучше было б на свет не рождаться,—
Так мы думаем часто, увидев багрянец заката.
Все, что радостью было, исчезло, прошло, миновало.
Под конец эта жизнь лишь тревогой и скорбью богата.
Безнадежны надежды, дальнейшая жизнь бесполезна,
Сердце страхом предчувствия, грустью о прошлом объято.
Оказалось лишь звуком пустым, лишь туманным виденьем
Все, что жизнью своей называл ты, безумец, когда-то.
«Не говорите о том…»
Не говорите о том, что бумагу сожгли и пергамент,
Говорите о знаньях моих, чтобы люди суть уяснили.
Еще не исчезло, что было написано мною,—
Сокровища мыслей в сознанье моем не спалили.
Иду — со мною они; стою — со мной безотлучно,
И погребут их со мною в моей могиле.
Аль-Мутамид Перевод М. Петровых
{342}«Тебя в разлуке я вижу…»
{343}Тебя в разлуке я вижу ясно глазами сердца.
Будь вечным счастье твое, как слезы моей тоски!
Я не стерпел бы сетей любовных от прочих женщин,
Но мне отрадны, мне драгоценны твои силки.
Подруга сердца, я рад, я счастлив, когда мы вместе.
А здесь горюю, где друг от друга мы далеки.
Тебе пишу я глубокой ночью — пусть не узнает
Никто на свете, что муки сердца столь глубоки.
Скорблю о милой, как о далеком волшебном рае,
Любовью дышит любое слово любой строки.
К тебе умчался б, но ведь не может военачальник
Покинуть тайно, любимой ради, свои полки.
К тебе пришел бы, к тебе прильнул бы, как на рассвете
Роса приходит к прекрасной розе на лепестки.
«Я без труда завладел…»
Я без труда завладел сердцем прекрасной Кордовы —
Воительницы, красавицы, чей нрав и горд и суров.
Она мечом и копьем гнала досадных искателей,
И вот мы празднуем свадьбу в одном из ее дворцов.
Дрожат от гнева и страха мои былые соперники —
Сегодня лев отдыхает, но к близкой битве готов.
Я пью вино, от которого исходит солнца сияние,
Из чаши светлое солнце я пью в разгаре пиров,
Покамест ночь не блеснула величием полнолуния,
Покамест луна не вышла из княжьих своих шатров.
Но вот звезда за звездою во тьме ночной загораются
От блеска луны высокой, от щедрых ее даров.
Луна поплыла со свитой, направясь в сторону Запада
Над ней — балдахин Ориона, краса небесных миров.
Луну окружают звезды — полки с развернутым знаменем,—
Так я иду средь красавиц и славных моих полков.
И если исходит мраком броня, в боях почерневшая,
То чаши в руках прелестных сияньем полны до краев.
Рабыни играют на лютнях, а наши храбрые воины
Мечами такт отбивают на звонких шлемах врагов.
«Пленник, праздником в Агмате…»
Пленник, праздником в Агмате{344} ты унижен, огорчен,
А ведь как любил ты прежде эти шумные пиры!
Дочерей своих голодных, изможденных видишь ты,
Им в обед не бросят люди финиковой кожуры.
Дочки, чтоб тебя поздравить, шли по грязи босиком,—
Прежде ноги их ступали на пушистые ковры!
Входят бледные, худые, — целый день они прядут,
А росли в благоуханье мускуса и камфары.
И умыться и напиться — лишь горючих слез родник.
Летом жнут чужую ниву, изнывая от жары.
Вот и свиделись! Уж лучше б этой радости не знать.
Как судьба щедра порою на недобрые дары!
Раньше ты над ней владычил, стал теперь ее рабом.
Лучше позабыть былое, царский блеск иной поры.
Если кто-то славой счастлив, пусть поймет ее тщету
И стыдится обольщенья, как ребяческой игры.




Последние комментарии
6 часов 26 минут назад
12 часов 10 минут назад
13 часов 17 минут назад
14 часов 15 минут назад
14 часов 29 минут назад
23 часов 39 минут назад