Сыновья полков [Войцех Козлович] (fb2) читать онлайн
- Сыновья полков (пер. П. К. Костиков, ...) 1.25 Мб, 310с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Войцех Козлович - Теофил Урняж - Михаил Воевудзский
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
СЫНОВЬЯ ПОЛКОВ Сборник рассказов


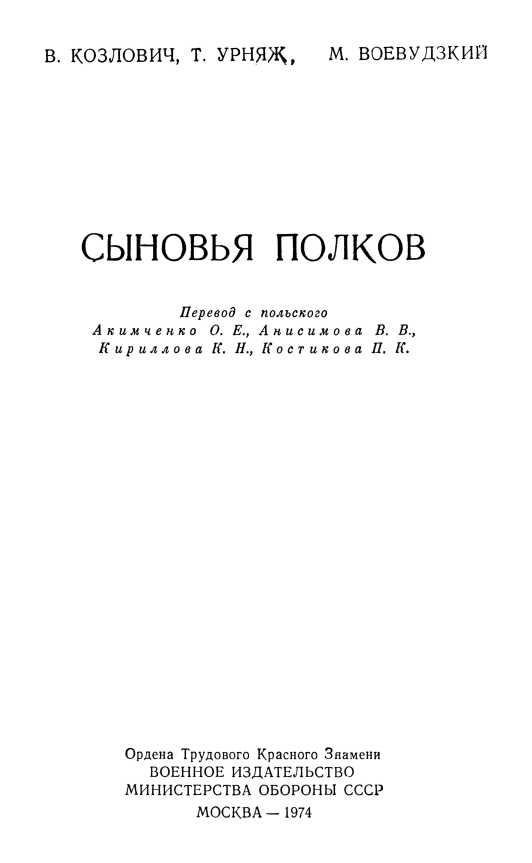
 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Было это в 1968 году. Спустя двадцать три года после войны. В редакцию «Экспресса Вечорного» кто-то прислал старую пожелтевшую фотографию. Со снимка из-под широкого воротника солдатской гимнастерки смотрело лицо мальчугана лет двенадцати. Это была фотография времен войны, когда отнюдь не для маскарада дети носили такую солдатскую форму. Никакого сомнения в том, что это фотодокумент, не было.
Начатая редакциями «Экспресса Вечорного» и «Жолнежа Вольности» широкая кампания по розыску самых молодых солдат минувшей войны, проводилась под девизом: «Ищем сыновей полков». И многие вспомнили о военном поколении юных поляков, которые вместе со взрослыми делили тяготы вооруженной борьбы. Здесь были дети и времен сентябрьской кампании 1939 года, и находившиеся в польских соединениях на западе, и испытавшие трудности и невзгоды партизанских будней и подпольной деятельности на родине, и сражавшиеся в солдатских мундирах в народном Войске Польском, прошедшем от берегов Оки до Берлина и Эльбы.
Нелегкими были судьбы военного поколения польских детей. За 1939–1945 годы их погибло свыше двух миллионов. Оккупанты вывезли на принудительные работы в рейх более семисот тысяч юношей и девушек. Около трехсот тысяч польских детей было вывезено из страны с целью германизации, А о том, какую судьбу гитлеровский фашизм готовил всем польским детям, можно судить хотя бы по лагерю смерти в Лодзи, сооруженному специально для малолетних поляков. Туда отправляли детей в возрасте от четырех до шестнадцати лет. И еще не одно поколение будет помнить отчаяние польских матерей, чьих грудных младенцев гитлеровцы живыми бросали в огонь печей Освенцима, Майданека, Маутхаузена.
Помня об истории мученичества польских детей в те жестокие годы, мы никогда не забудем и об их массовом героизме. Кампания по розыску «сыновей полков» напомнила именно об этих прекрасных страницах героизма военного поколения польских подростков.
Разными путями пришли они в ряды сражающихся. Среди них были дети из осиротевших домов и сожженных, уничтоженных деревень. Среди них были мальчишки, которые сознательно покидали родной дом, чтобы сражаться с оружием в руках. Были убежавшие с принудительных работ. Каждому из них война написала свою трудную биографию.
Сегодня кому-то может показаться негуманным, что взрослые люди привлекали к борьбе детей, что, например, разрешалось, чтобы девятилетние мальчишки и чуть постарше их девчонки носили в своих школьных ранцах подпольные газеты, а нередко и гранаты, пистолеты, патроны. Что четырнадцатилетних уже учили стрелять и убивать. Это все правда. Но ни на минуту нельзя забывать, что так нужно было, иначе быть не могло. Ведь это были годы, когда гитлеризм готовил тотальное физическое истребление всего польского народа. Поэтому дать отпор врагу должен был весь народ, и только вооруженная борьба могла принести ему свободу.
А дети?
Этим детям прежде всего грозила гибель. Они также боролись за свою жизнь, черпая решимость сражаться с врагом из патриотизма и готовности к самопожертвованию народа. Они хотели быть достойными своих братьев и сестер, своих отцов и матерей. Наверное, именно они больше всего ненавидели гитлеровских оккупантов. За что? За голод и мытарства своих родных. За кровь на польских улицах. За то, что у них отняли самое дорогое — детство.
В картотеке Главного Правления Союза борцов за свободу и демократию насчитывается уже 1250 фамилий лиц, которые носят на груди знак «Сын полка». В их числе 872 бывших молодых солдат регулярных воинских формирований, действовавших на территории Польши и за границей, а остальные — это все те дети периода войны, которые разными путями пришли в партизанские отряды или каким-либо другим образом участвовали в движении Сопротивления.
Разумеется, авторы книги о «сыновьях полков» были не в состоянии познакомиться с тысячью двумястами пятьюдесятью биографиями, каждая из которых сама по себе интересна и не похожа на другую. При отборе героев книги мы руководствовались иногда интуицией, иногда случай помогал нам. При поддержке «Экспресса Вечорного» и «Жолнежа Вольности», начавших большое дело по розыску «сыновей полков», мы написали книжку о нескольких подростках, чтобы на их примере показать героизм и судьбы польских детей минувшей войны, их сознательное участие в вооруженной борьбе, в которой родилась Народная Польша.
Мы написали эту книгу с мыслью о молодом поколении Народной Польши. Мы хотели мальчишкам и девчонкам, которые о годах вооруженной борьбы народа знают лишь по рассказам старших, передать средствами художественного репортажа мысли, идеи и дела их ровесников времен войны. Мы писали, помня о том, что у этих «ровесников» уже есть свои подрастающие дети. Эта книга предназначена и для их детей, чтобы они знали, какими когда-то были их родители. Во всяком случае, ни одному из наших героев во время войны не было и семнадцати.
Авторы
 Войцех Козлович
МАЛЬЧИШКИ, ВАМ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ ДО КОНЦА ВОЙНЫ
Войцех Козлович
МАЛЬЧИШКИ, ВАМ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ ДО КОНЦА ВОЙНЫ
Он сидел за столом над раскрытой тетрадью и думал о том, что, собственно, следовало бы узнать — и не когда-нибудь, а сейчас, сегодня вечером, — на каком километре встретятся поезда, выехавшие из двух пунктов, а точнее, станций навстречу друг другу с разной скоростью… Правда, его это не очень интересовало и совсем не волновало, но завтра, когда его вызовет учитель, будет уже слишком поздно.
Он смиренно вздохнул и пододвинул поближе к себе карбидную лампу. Холодный свет ползал по столу — пламя горело неровно из-за того, что выделяющийся из карбида газ поступал неравномерно.
— Ты, конечно, опять не почистил горелку, — упрекнула его мать.
Он не отозвался, потому что она была права. Ему надоело это ежедневное занятие — готовить карбид для лампы, очищать ее от гашеного камня, отвратительный запах которого еще долгие годы ассоциировался с этими вечерами на оккупированной родной земле. Из города сегодня он прибежал поздно, даже отец уже сидел над тарелкой супа, вернувшись со своего завода «Ситко». Однако заправка лампы относилась к домашним обязанностям сына, и хочешь не хочешь, а ему все же пришлось идти в прихожую и делать все что нужно. Ноги у него сильно болели — он обегал почти весь Грохув[1], чтобы засветло установить, где висят эти швабские плакаты. А когда мать, приоткрыв дверь, позвала его и сказала, что обед стынет, он засыпал измельченный карбид в лампу и поставил в воду, не почистив проволочкой горелку. Поэтому сейчас лампа и давала неровный, неспокойный свет, что раздражало и сердило мать.
Тень от ручки начинала прыгать по тетради, когда он в очередной раз пытался установить, где же все-таки, на каком километре, встретятся эти злополучные поезда. Его злило то, что он несчетное число раз решал куда более сложные «коммуникационные» головоломки, получить правильный ответ к которым для него было равнозначно победе в его личной войне с фрицами.
— Справишься, Кшись?
Он посмотрел на отца, лежащего на кровати, и лишь спустя минуту понял, что отец имел в виду совсем не эту математическую задачу.
— Правда? — выдохнул он.
Речь шла о том, что Кшисек должен был закончить учебу раньше, чем наступят каникулы. Правда, всего на два месяца — май и июнь, и даже учитель школы заверил Рейша-старшего, что его сын сможет успешно заниматься в шестом классе.
Кшисек смотрел теперь на отца из-за тетрадки. А отец знал, какой ответ услышит от сына. Иногда он боролся с навязчивой, но простой мыслью, которая поражала сознание бесспорностью факта: ведь твоему сыну всего двенадцать лет…
Но фактом были и затемненные окна, и улицы, пустеющие после наступления комендантского часа, и штукатурка, отбитая от стен домов пулями фашистов…
«Он ведь тоже знает, — думал отец о сыне, — он конечно же меня понимает».
— Значит, мне не придется возиться с этими дурацкими поездами! — обрадовался Кшисек. Он отложил ручку, захлопнул тетрадку с размаху так, что отец счел нужным напомнить ему:
— Но только смотри, после каникул…
Парнишка пробормотал что-то, согласно кивнув головой, и сунул книги в шкаф. Потом покрутился около матери, выказывая беспокойство, и наконец с трудом выдавил из себя:
— Я пойду…
Мать всполошилась:
— Сынок, да куда же ты? Темно же на дворе…
Мальчик на ходу чмокнул ее в щеку и сказал:
— Конечно, темно…
Улица была в эту пору пустынной — приближался комендантский час. Только иногда раздавался стук быстрых шагов. Кшисек внимательно провожал взглядом проезжавшие мимо грузовики с притушенными фарами. Никогда нельзя было предугадать, что может означать скрежет тормозов: высыпется ли из крытого брезентом кузова орущая свора, отрезающая путь к дому и часто обрывающая дорогу жизни, или нет.
Сегодня у него ничего не было с собой. Последнее время это случалось редко. Почти всегда, пробираясь по улицам города, он шел то с подпольной прессой за пазухой, то с пистолетом на животе за поясом брюк.
«Если бы вы знали!» — торжествовал он в мыслях, когда мимо него проходили немцы. Он испытывал чувство чуть ли не личной обиды, что не может ни перед кем похвастаться пистолетом или наганом. Если бы ребята из его класса знали…
Мысленно он видел себя в бою, преследующим врага! Себя, предусмотрительно не уступающим дороги немецким патрулям, прославившимся каким-нибудь героическим подвигом…
Вдруг он остановился. Совсем рядом, на стене дома, белела доска объявлений. Среди прочих распоряжений и приказов оккупационных властей он увидел фотографию молодого парня. Текст под ней гласил, что за помощь в поимке этого «коммунистического бандита» будет выдано вознаграждение в сумме 500 тысяч злотых.
Незадолго до этого, придя из школы, он застал дома незнакомого молодого мужчину. Отец сказал сыну:
— Это Янек. Он останется у нас…
Кшисек уже давно знал, что не надо задавать лишних вопросов. Поэтому он, как всегда, лишь кивнул головой, но вдруг что-то вспомнил. Он начал внимательно и, разумеется, незаметно приглядываться к гостю. Когда отец вышел из комнаты за углем, он последовал за ним.
— Тато… — не выдержал он.
Отец посмотрел на него.
— Этот Янек… — начал Кшисек.
— Янек — это Янек, — обрезал отец.
Но мальчишка не отступал.
— Я его уже видел.
А когда отец удивленно посмотрел на него, он объяснил:
— На плакате…
Немцы повсюду разослали публикацию о розыске скрывающегося Яна Налязека, который имел две подпольные клички: Колеяж (Железнодорожник) и Васька, а в самом городе расклеили плакаты с его фотографией. Гитлеровцы живьем сожгли его мать, старшую сестру Станиславу и отца, старого коммуниста, активного деятеля партии. Янек, вовремя предупрежденный, успел скрыться, но немцы полагали, что он от них никуда не уйдет.
С фотографии на объявлении на Кшися смотрело знакомое молодое лицо. Он осмотрелся. Вокруг тихо, безлюдно. Тучи нависли низко, почти над самыми крышами домов, словно и они хотели укрыть улицу от восходящего вдали месяца. Парнишка подбежал к доске и хотел сорвать объявление, но клей держал крепко. Тогда он быстро сунул руку в карман и достал оттуда кусок листового железа, которым поспешно, но тщательно содрал фотографию разыскиваемого.
«Так, один есть», — подумал Кшисек с удовлетворением.
Он пошел дальше по пустынному коридору улиц Праги[2] с затемненными окнами домов. Сейчас он шагал быстро. По поручению отца он еще днем узнал, где расклеены эти роковые плакаты с фотографией Налязека. Таких мест было много, и нужно было поэтому поторопиться, чтобы успеть все сделать до наступления комендантского часа.
«А все-таки отец знает, что к чему, — подумал он с уважением, когда принялся за следующие плакаты. — Не зря дал мне эту жестянку, а то бы я, точно, содрал все ногти…»
Когда он, запыхавшийся, вернулся домой, дверь ему открыла мать. Он даже не успел постучать. Знал: она ждала его.
«Да, как и отца», — мелькнула в какой-то момент в голове мысль. Из-за ее плеча он увидел знакомое лицо и, улыбнувшись облегченно, сказал:
— Привет, Янек!
…Причиной, из-за которой у Кшиштофа Рейша каникулы в 1943 году начались на два месяца раньше, чем у его одноклассников, был его выезд из Варшавы. Но совсем не для того, чтобы где-то отдохнуть лучше, чем в голодавшей в тот период столице, а из-за того, что прибавилось много дел, забот, поручений, имевших отношение к подпольной деятельности борцов движения Сопротивления.
Несколько лет спустя, когда придет время приняться за прерванную войной учебу в школе в уже освобожденной и независимой Польше, он напишет в своей биографии о военных годах:
«У меня была подпольная кличка Адъютант. В движение Сопротивления я пришел в 1942 году благодаря, можно сказать, родственным связям, а конкретно через моего отца Александра Рейша (подпольная кличка Техник) и мать Янину Рейш (подпольная кличка Яся). Родители были членами организации Гвардии Людовой, на территории варшавского округа Права Подмейска… Вначале я разносил партийную прессу, а затем стал связным по особым поручениям штаба округа Гвардии Людовой и Армии Людовой, так как в квартире моих родителей в Варшаве, в Грохуве, на улице Проховой, 16, до конца 1942 года жил Юзеф Домбровский (подпольная кличка Гишпан), назначенный впоследствии командующим округом. Кроме поручений, получаемых от моих родителей и Гишпана, я выполнял и поручения товарищей Мариана Барылы, Францишека Юзвяка, Францишека Ксенжарчика…»
Кшисек не принимал никакой присяги — ни как участник движения Сопротивления, ни как солдат: ведь ему было в ту пору всего двенадцать лет! Он рос в атмосфере острой политической борьбы. Его отец, Александр Рейш, был известным активным деятелем левицы (левого движения). И Кшисек очень быстро познавал механизм классовой борьбы, сущность которой находила выражение в таких понятных чувствах и ощущениях, как голод, когда в доме не было ни крошки хлеба; нужда, бесконечная и мучительная, когда отец, неусыпно и постоянно находившийся в поле зрения санационной[3] «дефы»[4] и определяемый ею как «красный», не мог найти работы.
Двенадцатилетний мальчишка включился в подпольную партийную работу, которая в этот период сосредоточивалась в квартире варшавского рабочего. Да и невозможно было в однокомнатной квартире скрыть все эти визиты незнакомых людей, остерегаться произнести лишнее слово, прятать таинственные свертки или предметы, в которых даже десятилетний ребенок безошибочно угадывал револьверы или гранаты.
Все началось с ничего не значащих на вид поручений: передать какие-то сведения по указанному адресу, отвести незнакомого «дядю» на определенную квартиру. Кшисек был сообразительный парнишка, толковый. И ко всему прочему он ведь был ребенок. А на детей оккупанты тогда еще не обращали особого внимания.
Но однажды — это было уже год спустя — Гишпан сказал Кшисю:
— В Рыбенек больше не поедешь…
А ездил парнишка туда часто: два-три раза в неделю, выполняя свои обязанности связного с местной подпольной группой. В один из запомнившихся ему дней он выехал раньше обычного. А позже узнал, что поезд, на котором он всегда ездил, гитлеровцы неожиданно задержали на станции Мостувка. Из вагонов выгнали всех мужчин, но искали, как оказалось, мальчишек в возрасте Кшися. Затем их отвели в лес, недалеко от железной дороги, и расстреляли. До этого случая товарищи из Рыбенека уже имели сигналы, что оккупанты разыскивают маленького связного, но мальчишка против этих опасений выдвинул самый, казалось бы, убедительный довод:
— Я же ребенок!..
Но он уже давно им не был. Детство — это ведь никогда не забываемая пора коротких штанишек, когда метко забитый мяч вызывает восхищение сверстников; когда карманы становятся сокровищницей никому не нужных вещей, но которые все же всегда оказываются нужными владельцу; когда даже сон не прерывает военных действий индейцев — апачей или каких-либо других племен, — развернувшихся в лабиринтах дворов или среди скудной зелени городских скверов.
Как-то мать, выглянув в окно, позвала сына со двора домой. Отец с Гишпаном сидели серьезные. Вот тогда дядя Юзеф и сказал запыхавшемуся после только что закончившейся игры мальчишке те самые слова:
— Ну что ж, апачи подождут до конца войны, Кшись…
Так варшавский парнишка ступил на свою «тропу войны» против гитлеровских фашистов.
— Хорошо, только и мне нужно подпольную кличку, — настаивал он, глядя на Гишпана. Юзеф Домбровский, улыбнувшись, согласился:
— Конечно, ты же будешь моим адъютантом.
Так и осталось: Адъютант. Некоторые товарищи часто называли его и так: Наимладший. Он и в самом деле был самым юным гвардистом Гвардии Людовой и Армии Людовой в округе Права Подмейска.
Первым серьезным заданием Кшися были листовки. Их надо было вечером незаметно расклеить на стенах домов. И это удалось ему сделать без помех. Несколько листовок он наклеил на красной стене завода «Ситко» по улице Вятрачной, 15. После этого он не спал всю ночь, с нетерпением дожидаясь утра. Чуть свет он тихонько выскользнул из дома, раньше отца. Рассветало. Новый день на оккупированной земле выгонял людей из домов на работу. Шли, по привычке быстро оглядываясь: нет ли поблизости немецкого патруля, хотя обычно это время было относительно безопасно и не грозило облавами. И вот они увидели на стенах домов вселяющие в сердца надежду слова: «Рабочие Варшавы! Польша живет!» Читали торопливо, жадно и шли дальше. Но теперь это были уже другие люди. Такие же истощенные, такие же измученные беспроглядным кошмаром оккупации, но все же более сильные этим одним, коротким словом: «Польша». Они проходили мимо невзрачного, щуплого мальчишки, необычайно гордого в эту минуту: «Смотрите, эти листовки расклеил я!..»
Люди проходили рядом, быстро, не обращая внимания на мальчугана. Для них эти появившиеся листовки — это непокоренная Польша.
На Проховой и сейчас стоит ничем не примечательный двухэтажный дом. В квартире Рейша, на втором этаже, в период гитлеровской оккупации размещался пункт распространения подпольной печати. Каждую неделю сюда доставлялись еще пахнущие краской газеты «Гвардиста», «Глос Варшавы», «Трибуна Вольности». Отец Кшися был «техником» округа Права Подмейска, откуда и возникла его подпольная кличка. В обязанности «техника» входило обеспечение распространения подпольной прессы. Этим занимался и его сын. 1943 год был особенно важным для партийной работы: организация разрасталась, на местах нуждались в периодической печати. Адъютант регулярно, два раза в неделю, ездил в Рыбенек, три раза — в Миньск-Мазовецки. Часто ему в этом помогала и мать. В общем, семья Рейшей переправляла сотни экземпляров газет левого движения, несмотря на постоянные облавы и обыски немецкой полиции. Каждый раз им грозил провал. А это всегда означало смерть. Люди умирали во время следствия в мучительных пытках, в страхе не столько перед врагом, сколько перед самим собой, боясь не вынести истязаний, сказать то, чего нельзя выдать…
И все же Кшисек ездил.
Кто-нибудь может сказать, что парнишка тогда не представлял, чего стоят эти поездки, не знал настоящую цену жизни, а поэтому не понимал, что рискует погибнуть…
Это верно, что Кшисек был еще ребенок. Но он был ребенок оккупированного города. Больше того — оккупированной Варшавы. Иной была в ту пору в этом городе и мера зрелости. Каждый прожитый день, даже каждый час — это было уже подвигом. Смертная казнь грозила за все: за килограмм хлеба и за подпольную литературу, за опоздание на работу и за непонравившееся лицо. Но город не сдавался. Домашние хозяйки в сетке с картошкой проносили гранаты. В скамеечке для ног парализованной старушки хранилось полковое знамя, в школьном ранце — рация советской радистки…
Она говорила по-польски, но слова произносила медленно, певуче, а этого уже было достаточно, чтобы вызвать подозрение у гитлеровцев. Девушка приземлилась с парашютом ночью в окрестностях Рык, а потом добралась до квартиры Рейша. Ее предстояло переправить в Краков. У нее были надежные документы, так что ехать она могла спокойно. Но требовалось также доставить туда и радиостанцию. Кшисек знал, что отец, Гишпан и Бартек (Мариан Барыла) обсуждали, как выполнить это задание. Время было неимоверно трудное — лето 1943 года. Движение Сопротивления разрасталось. Гитлеровцы все больше неистовствовали — производили наугад неожиданные облавы и обыски, проверку документов и багажа, особенно на транспорте.
Как-то Кшисек ехал с отцом в трамвае. Они везли солидную пачку подпольных газет. Неожиданно на перекрестке Гроховской и Тереспольской послышался крик:
— Облава!
Вагоновожатый затормозил, люди бросились в подворотни ближайших домов, прячась в лабиринтах дворов. Кшисек услышал отца:
— Беги!
Он увидел, как отец запихивает пачку газет под скамейку. Люди толпились, кто-то плакал, никто ни на кого не смотрел — важно было убежать. Всех подняла нарастающая суматоха, подхлестывали автоматные очереди. Кшисек слышал за собой дыхание отца. Он невольно замедлил бег, но сзади раздалось нетерпеливое:
— Жми, жми!..
Через конскую ярмарку они выбрались на какую-то отдаленную улицу. Здесь было спокойно. Шли медленно, не разговаривая, как двое взрослых мужчин, которых объединила вместе пережитая опасность и которые знают, чего стоит игра, которую они ведут…
В таких условиях предстояло переправить радистку на краковскую мелину — подпольную квартиру. Провести через два вокзала, в Варшаве и Кракове, где полицейские посты задерживали каждого, кто вызывал хоть малейшее подозрение. Оберегать ее во время многочасовой поездки в вагоне-западне, из которого в случае опасности почти не было шансов убежать.
Но радистке не дали охраны. Безопасность ей должен был обеспечить… Кшись. Радистка была молодая, веселая и к тому же отважная девушка. Когда она, подавая билет и пропуск жандарму, улыбнулась, только Кшись знал, что улыбка эта была призвана скрывать не только перевозимую рацию, но и обыкновенный человеческий страх. Он знал, что она боялась. Они оба боялись. Его страх, наверное, был иным, даже можно было бы сказать — более легким. Он еще был лишен воображения и жизненного опыта взрослых. Не зная жизни во всей полноте, он, пожалуй, как-то уменьшал тогда цену смерти. Правда, минуло то время, когда хорошо выполненное задание вызывало у него желание похвалиться ребятам из класса. Он уже настолько был зрел, что понимал: основой подпольной работы является конспирация. Этому учил его Гишпан, и отец всегда напоминал:
— Поменьше говорить, поменьше знать…
Поэтому Кшись даже не спрашивал девушку, куда она едет. Ему дали поручение, а точнее, это был боевой приказ — доставить радистку в Краков и провести ее через посты «черных» — оккупационной привокзальной службы. Из Варшавы они выехали благополучно. Оба решили играть роль брата и сестры, едущих на каникулы. Кшись в праздничном темно-синем в белую полоску костюме, купленном за деньги из фонда Гвардии Людовой, с коробочкой леденцов на коленях и такой же леденцовой, сладкой улыбкой на лице. Кто бы подумал, что в ранце этого благовоспитанного мальчика с расчесанными на пробор волосами находится часть рации, а в портфеле, который он прижал ногами, — батареи к ней…
Когда казалось, что опасному путешествию подошел конец, из-за поворота выплыл длинный перрон в Кракове. Девушка быстро отпрянула от окна.
— Стоят!
Они действительно стояли. В непромокаемых, цвета гнилой зелени, плащах, перехваченных поясом с хвастливым: «Готт мит унс» («С нами бог»).
Выстраивались длинные очереди пассажиров для проверки. Шаг за шагом через строй рослых эсэсовцев.
Девушка уже не смеялась. Кшись знал, почему она замолчала: ее певучий акцент не менее опасен, чем содержимое портфеля и ранца.
— Нет, я возьму сам, — сказал он своей спутнице коротко и решительно. Закинул ранец за спину: вот, он ученик, едущий на каникулы к кому-то в гости. На это именно он и рассчитывал, — на то, как выглядит.
Перед зданием вокзала он посмотрел на девушку и пошел вперед, вдоль выстроившихся для проверки пассажиров, не дожидаясь своей очереди. Ему было тяжело, и не только от веса рации. Но он шагал свободно, с невинным видом, и так миновал жандармов, широко расставивших ноги, — одного, второго, третьего, пятого. Дошел до тех, которые проверяли документы.
Когда он услышал короткое, произнесенное с безразличием «Лос!» («Пошел!»), ему показалось, что именно сейчас его свалит с ног это неожиданно спадшее напряжение, та расслабленность, которая оглушила его сильнее, чем ожидаемый окрик.
В Варшаву он возвращался в новых ботинках, объедаясь шоколадом и пирожными. Парашютистка, благополучно довезенная им до Кракова, попрощалась с ним. И снова никому не пришло бы в голову, что этот сладкоежка на дне сумки с лакомствами везет пятизарядный пистолет. Правда, это была скорее игрушка, чем оружие. Подарок на память от девушки-парашютистки, которую он, наверное, никогда больше не увидит и которая хотела вот так, по-солдатски выразить свое признание варшавскому мальчишке, товарищу по оружию.
Сразу же по возвращении домой снова начались «обычные» поездки в Рыбенек и Миньск-Мазовецки. Праздничный костюм он сменил на повседневную одежду, которая тоже была куплена на деньги штаба Армии Людовой и которая также не была обыкновенной. Сшитая из нового шерстяного материала, она состояла из блузы и широких штанов ниже колен, называемых иначе «брюки-гольф». Блуза специально была скроена объемистой, навыпуск, стягиваемой в поясе. За нее можно было положить много газет. Брюки с буфами также хорошо укрывали пачки подпольной прессы, прикрепляемые резинками к ногам. Эти газеты уже ожидал минский сапожник товарищ Рокицкий (подпольная кличка Сухы), ждал у Буга товарищ Скочень… Возвращаясь в Варшаву, Кшись иногда брал с собой оружие, а иногда немного яиц или муки — в городе голод чувствовался все больше.
Дома порой требовалось пристрелять доставленное партизанам оружие. В таких случаях Гишпан просил мальчика:
— Кшисек, пойди поруби дрова в сенях.
Стук топора и сухой треск раскалываемых чурбаков хорошо маскировал звук выстрелов в комнате.
— Вы мне так всю печь разобьете!.. — опасалась мать Кшисека, потому что стреляли в узкий проем между печью и стеной. Однажды отец пошел рубить дрова, и Гишпан дал Кшисю пистолет.
— Неплохо будет, если и ты научишься хорошо стрелять…
Подпольная кличка командующего округом Права Подмейска — Гишпан была не случайной. Юзеф Домбровский был активным деятелем коммунистической партии, сражался в республиканской Испании. Уже в 1935 году под Мадридом, Теруэлем и на реке Эбро коммунисты пытались преградить путь фашизму, предостеречь мир от угрозы надвигающейся мировой войны. И раньше чем польские добровольцы из Интернациональных бригад, пережив мучения в лагерях для интернированных, смогли вернуться в Польшу, туда ворвались танковые колонны гитлеровцев. Когда Домбровский добрался до Варшавы, ему снова пришлось скрывать свое имя. Он нелегально поселился на квартире Рейша.
Однажды Гишпан, вернувшись домой, достал из кармана толстую пачку денег. Сумма была большая. Это было очень кстати: как раз сейчас касса штаба округа Гвардии Людовой очень нуждалась в пополнении.
— Ребята конфисковали это у какого-то швабского графа. Есть еще золото. Завтра привезешь из Рыбенека, — сказал Гишпан Кшисю.
На этот раз парнишка поехал не один. С ним ехали Мариан Барыла и сам командующий округом. «Клад» был и в самом деле крупный. Оказалось, что сын немецкого помещика был комендантом концлагеря и хранил награбленные ценности у своего отца.
Золото в мешочках, которые сшила жена Скоченя, Кшисек спрятал в складках своих брюк-гольф, а большой сверток долларовых банкнот укрыла блуза. Золотые кружочки монет он насыпал в карманы и… в большого размера ботинки, которые специально взял из дому. До станции Рыбенек для охраны парнишки были выделены также Скочень и Чарный (Франек Осевич), командир местного отряда гвардистов, к которому Кшисек приводил евреев, спасенных из варшавского еврейского гетто.
На перроне в Рыбенеке едва не случилась беда. Когда подошел варшавский поезд, жандармы позвали Гишпана и Бартека, недвусмысленно подкрепив свой приказ автоматами. Они приказали им выгрузить из вагонов какие-то мешки. Кшисек увидел, что Бартек побагровел. Он понял, что это означает. Знал вспыльчивый характер этого широкоплечего мужчины. Но Гишпан спокойно подошел к мешкам и стал их выгружать. Наклонившись, он посмотрел на Кшисека и глазами показал на вагоны:
— Залезай!..
Тогда и Бартек остыл, сдержался, понимая, что нельзя дело доводить до стрельбы. Когда наконец стволы автоматов больше не смотрели на них, они успели вскочить в вагон отходящего поезда…
Удивительно выглядели на истертой клеенке стола в комнате бедного рабочего эти сверкающие драгоценности: перстни, кольца, синь и пурпур благородных камней, золотые зубные коронки.
Вдруг все умолкли, будто что-то произошло, словно в доме умер кто-то из близких. Мать поднесла руки к глазам и вышла на кухню. Ее согнутая спина вздрагивала…
Все конфискованное богатство было передано под расписку представителю ЦК партии. Но еще оставались истрепанные оккупационные пятисотзлотовые банкноты.
— Может, их обменяют в банке? — предложил Рейш.
На следующий день Кшисек стоял в банке на Беляньской у окошка кассира.
— Пожалуйста, пан!.. Мы нашли с сестрой спрятанные в шкафу эти деньги. Играли в них и порвали, а теперь мама плачет, потому что это было наше состояние…
Кассир взял разорванные банкноты. Посмотрел на Кшисека. Ловкие, быстрые пальцы пересчитали пачку денег, а потом медленно отсчитали счастливому парнишке новенькие, хрустящие пятисотки. Кшисек повернул голову и в углу зала увидел улыбающегося отца. Он охранял сына. У банка их ждали Гишпан, Чарный и коллега отца по работе на заводе «Ситко» Станислав Гинко.
Такая же многочисленная охрана сопровождала Кшиштофа и в другой раз, когда он шел в книжный магазин покупать карты.
Однажды случайно Кшись зашел в магазин Гебетнера и Вольфа на Тарговой купить какой-то школьный учебник. Оглядывая полки, заставленные тысячами книг, он увидел, что на прилавке лежит большая стопа карт. Присмотрелся поближе, заметил на них штамп Военного географического института. Что-то его подтолкнуло. Он купил несколько листов и дома показал их Гишпану.
Командующий округом посмотрел на него исподлобья:
— Откуда это у тебя?
— Купил, — ответил Кшисек и пожал плечами.
— Что? — подскочил Гишпан.
Оказалось, что это были подлинные военные карты, так называемые штабные, очень подробные, да к тому же как раз охватывающие районы действия гвардистов — Миньска-Мазовецкого, Рык, Демблина, Рыбенека. Они были настолько подробно составлены, что на них нашли даже одну из партизанских мелин (конспиративных квартир) около Рык — домик Стахурских, убитых позднее гестаповцами.
На следующий день Кшисек снова пошел в книжный магазин на Тарговой.
— Прошу пана, мне нужны карты…
— Какие? — посмотрев на мальчишку, спросил продавец.
— Все, — последовал ответ.
Продавец удивился:
— Все? А на что они тебе?
Тогда стоявший около Кшися мужчина произнес тихо, но решительно:
— Заверните, пан, все и ни о чем не спрашивайте.
Атлетический вид Гишпана произвел, видно, более сильное впечатление, чем слова. Карты они получили быстро, тщательно завернутые, без дальнейших вопросов. Ведь в такое время лучше было как можно меньше знать, и эта оккупационная правда не могла быть не известна продавцу варшавского книжного магазина…
Однако ни отец, ни Гишпан не забывали, что Адъютант все же оставался ребенком и что даже в период оккупации лето — время каникул. Тем более что деревня — это не только отдых, но и лучшее питание, и опасности меньше.
Когда Кшисек стал протестовать, отец сказал:
— Я говорю тебе это как твой командир, а не как отец. — А глаза его смеялись, когда он посмотрел на жену. — Яся, поедешь с ним как «охрана». — И когда мать Кшися хотела что-то возразить, он произнес шутливо: — Говорю тебе это тоже как твой командир…
И вот они поехали под Миньск. Но через несколько дней партизанский отряд ночью получил грузы, сброшенные с парашютами, и необходимо было об этом уведомить штаб и Гишпана.
— Я поеду! — сразу же заявил решительно Кшисек.
Был уже вечер, поэтому решили, что надо подождать утра. Когда на рассвете он согласно инструкции пришел к сапожнику Рокицкому, то застал там незнакомого мужчину.
— Ты живешь на Проховой? — спросил он Кшисека.
Мальчик посмотрел на товарища Рокицкого, но тот кивнул головой.
— Да, а что? — в свою очередь спросил Кшисек.
— В таком двухэтажном доме из красного кирпича, в стороне стоит? — допытывался незнакомец.
— Все так, но…
Мужчина посмотрел в глаза мальчика и сказал:
— В вашей квартире засада.
И тут вдруг Кшисек вспомнил тех типов с электростанции. Это было незадолго до выезда в деревню. Утром они постучали в квартиру.
— Проверяем проводку, — сказали они матери, однако больше интересовались планировкой квартиры. Один из них спросил как бы мимоходом:
— Другого выхода нет?
Других дверей не было. Когда утром, в четверг 22 июля, гестаповцы ворвались в квартиру Рейша, там был только Гишпан. Рейша не застали, потому что он уже ушел на завод. Домбровский спал. Он даже не успел сунуть руку под подушку и выхватить пистолет. Гишпана посадили в машину и поехали к заводу «Ситко».
Рейш как раз вышел в проходную: кто-то предупредил его, что поблизости видел машину гестапо. К нему подошел человек в штатском, спросил:
— Пан Рейш?
В вопросе звучала уверенность, видимо, уже было известно, как он выглядит.
В машине, в надвинутой на глаза кепке, уже ждал Гишпан, с замкнутыми наручниками. Оба потом встретились еще раз в тюрьме Павяк. Последний раз…
Отца Кшися увезли в гестапо на аллею Шуха. Допросы в застенках гестапо, долгое ожидание следствия в известном печальной славой «трамвае» — лавках, установленных одна за другой. Без слов, без движения. Только наедине с собственным страхом, с собственной слабостью. С криком истязаемых за стеной. С отзвуками ударов, которые вскоре предстояло испытать на себе.
…Они потом пошли вместе на аллею Шуха. Это было уже после войны. Отец все перенес в застенках Освенцима и Доры. Кшисек дождался освобождения в деревне. За свое военное детство он получил Крест Храбрых. Но он спрятал его в ящик. Все же неудобно было носить его семикласснику. После окончания школы Кшись Рейш начал работать, а затем его призвали в армию. Службу закончил в звании капитана. Сейчас работает в горстрое Варшава-Сьрудмесьце. У него три сына: Кшись, Януш и Роберт.
Теофил Урняж МАЛЫЙ КИЛИНЬСКИЙ ИДЕТ НА ВОЙНУ
Улица Виленьска в правобережном районе Варшавы — Праге. Рядом с паутиной железнодорожных путей тянутся склады, мастерские, штабеля лесоматериалов, длинные ряды уложенных четырехугольниками шпал. Достаточно пролезть с улицы через дырку в заборе, и ты уже совсем в другом мире, где много разных закоулков и потайных мест. Для детей из железнодорожных бараков эта территория была всегда местом для любимых игр. Да и теперь, когда склады охранялись вооруженными баншутцами — железнодорожными охранниками, мальчишки не обращали на это внимания и, как и прежде, ходили сюда играть в прятки и другие игры. Здесь назначали также встречи самые молодые подпольщики — пражские харцеры. — Эй, Малый Килиньский! Куда так бежишь? — кричит кто-то из железнодорожников маленькому, щуплому мальчишке в коротких штанишках и в старой, вылинявшей харцерской блузе. — Что, в футбол сегодня играете?.. — Нет, у нас другие дела, поважнее! — отвечает парнишка и исчезает в дыре забора. — Видал, какой шустрый! — говорит железнодорожник своему коллеге. — Не иначе как харцерское собрание у них. Хорошие у нас дети. Мой тоже харцер и тоже такой же горячий. Наша Польша не погибнет, если у нас такие дети. А этот — малый сын Михала Цацко. Ты не знаешь Михала? Он машинист. Не так давно заявился на работе, а до сих пор с сентября скрывался. Свой мужик. До войны работал в Гдыне, а в войну, кажется, водил бронепоезд. Если бы ты знал, какие интересные люди у него бывают! А как он люто ненавидит немцев! Солидарна железнодорожная братия. Солидарна и патриотична. Почти у каждой семьи, живущей в бараках на Виленьской, были свои традиции, которыми она гордилась. А сейчас всех соединяла общая ненависть к оккупантам. Почти каждый железнодорожник участвовал в подпольном движении. И их дети также ненавидели немецкие мундиры и издалека плевались, завидев жандармов, немецких железнодорожников и баншутцев. У этих детей тоже была своя организация — харцерство. Почти все ребята с Виленьской входили в нелегальные харцерские дружины, что было заслугой прежде всего учителей школы № 48 на улице Ковельской. Тадеку Цацко шел одиннадцатый год, он учился в четвертом классе и был в этой школе новичком. Классным руководителем была страстная деятельница харцерского движения пани Задарновская. Она не могла не обратить внимания на живого как ртуть мальчика, бегающего чаще всего в вылинявшей харцерской форме, которую он получил от матери еще до войны. Однажды учительница, желая узнать о нем побольше, спросила его о родителях. — Мой отец железнодорожник. Он машинист. А дедушка был варшавским сапожником и участвовал в восстании 1863 года, — с гордостью произнес он заученным голосом. — Он был почти такой же храбрый, как когда-то Килиньский[5]!.. Я тоже таким буду!.. С тех пор и прозвали Тадека Цацко Малый Килиньский, за что парнишка ничуть не обижался. Напротив, он воспринял это как свою подпольную кличку, правда, немного неудобную — ведь все на Виленьской только так его и зовут. Но какая опасность могла грозить одиннадцатилетнему мальчишке? Никто же все это не воспринимает всерьез. Тем более отец. Однако случалось иногда, что нужно было куда-то доставить донесение или забрать какой-нибудь пакет или сверток. Посылать маленького мальчика по таким делам представлялось наименее опасным. Да и в самом деле, кто обратит на него внимание? Тадек выполнял эти поручения охотно, но все чаще задумывался: почему в таких случаях отец запрещал ему называть имена, а приказывал произносить какое-то слово, которое часто меняется? Однажды любопытство взяло верх. Он притащил сверток из самого центра города, но так как дома никого не было, он развязал шнурок, и на пол посыпались газеты и информационные бюллетени. Собрать он их не успел — вернулся отец, а с ним какой-то незнакомый мужчина. Отец сильно рассердился: — Как вообще ты мог это трогать? Кто тебе разрешил? Да ты знаешь, чем это мне могло грозить? Мальчик расплакался: — А как ты мог меня посылать за такими вещами и не предупредить, за чем я еду? А если бы этот сверток развернулся на улице? А если бы какой-нибудь жандарм меня остановил и захотел посмотреть, что я везу? Тогда что? Привел бы жандармов домой, да? Михал Цацко был поражен. Он не ожидал услышать таких слов, которые свидетельствовали о том, что его мальчуган вовсе не такой уж ребенок, каким он его считал. И тогда в разговор вступил незнакомец. Он подошел к мальчику и обнял его. — Ты ведь харцер, правда? Значит, можно тебе доверять. Сам понимаешь, что каждый поляк ничего так сильно не жаждет, как жить на свободной родине. Поэтому поляки выступают на борьбу с оккупантами. Твой отец тоже член подпольной польской организации и выполняет ее задания. Думаю, что и для вас, харцеров, там найдется место. Вы можете нам помочь, при условии, что будете действовать обдуманно, осторожно, всегда только в соответствии с приказом, никогда самовольно. Помни также, что нужно уметь молчать, даже в кругу своих самых близких друзей. Ты подойдешь нам как связной. Будешь выполнять ту же работу, какую делал до сих пор, но осмысленно, стало быть, еще более осторожно. Хочешь для нас работать? — Хочу! — Тогда как член организации примешь торжественную клятву. Отец тебе скажет, когда это будет… Это был, как узнал позже Тадек, профессор Грабовский (подпольная кличка Град), один из командиров отца. Принятие клятвы прошло очень торжественно 7 февраля 1940 года. Присутствовали при этом профессор Грабовский и харцмистр Ковальский, один из организаторов харцерского движения. Для мальчика, которому только в сентябре исполнилось одиннадцать лет, это было большое, незабываемое событие. Это был одновременно первый шаг по пути, который через несколько лет приведет его, уже как солдата регулярной армии, к Берлину. Оккупированная Варшава. Серая и неулыбающаяся. Каски жандармов. Обыски. Облавы. Аресты. По городу с воем носятся полицейские машины. Из уст в уста передаются вести о страшных пытках в застенках гестапо на аллее Шуха, о тюрьме Павяк, об истязаниях в Пальмирах. Никто не обращал внимания на маленького мальчугана в коротких штанишках, который со школьным ранцем за спиной отмеривал многие километры. А Малый Килиньский путешествовал из-за Вислы, из Праги, до самой Мокотовской, где в подвале одной прачечной и красильни помещалась тайная типография, наполнял свой ранец газетами и бюллетенями и снова возвращался в Прагу. Потом стучал во многие знакомые двери, говорил пароль, отдавал прессу. В это время он постоянно бывал у Ковальского, который жил на углу Виленьской и Тарговой. Посещал он также и харцмистра Ежи Даргеля, квартира которого находилась у слияния Сталёвой и Конопацкой улиц. Эти посещения участились с 1941 года, когда Тадек, уже двенадцатилетний, становится командиром отряда харцеров и вместе со своей дружиной начинает принимать участие в так называемой акции малого саботажа. В районе улиц Виленьской, Сталёвой и 11 Ноября паренек уже знал каждый двор, каждый закоулок. Он и харцеры из его дружины рисовали здесь мелом на стенах домов виселицу с повешенной на ней свастикой и писали так бесившие немцев слова: «Гитлер капут!» Это их детские руки писали призыв: «Отомстим за Павяк!» — и выводили знак якоря — символборющейся Польши. Это они на перекрестках улиц и трамвайных остановках предостерегали прохожих: «Там облава!..» Однажды жители Сталёвой, Конопацкой, Виленьской и даже 11 Ноября, где находились большие немецкие казармы, выйдя утром на улицу, увидели свисающие с трамвайных проводов бело-красные флаги. В их сердца вселилась надежда, а лица осветились улыбкой. Кто развесил эти флаги? Конечно же это сделали ребята из отряда Малого Килиньского. Наступил новый этап в жизни Тадека. Боевая подготовка. Осталось тайной Малого Килиньского, как и кого ему удалось убедить, что и он должен принять участие вместе со старшими харцерами в этом обучении. Его товарищами по группе были Юрек Хабер, Зигмунт Яблоньский, Витек Плодзишевский и связной железнодорожного батальона в Одолянах Тадеуш Русек. Они собирались на разных квартирах, где проводились теоретические занятия, а на строевую подготовку и полевые учения выезжали чаще всего в лес под Зелёнкой. Произошло и первое знакомство с оружием и осознание того, что оно так необходимо организации. Каждый задался вопросом, не могли бы они, харцеры, помочь добывать его. Случай представился совершенно случайно. Отец привел состав из Лодзи и возился около своего паровоза, а Тадек и его товарищи просто так, из любопытства, шатались вдоль вагонов. — Хлопцы, помогите нам! Они оглянулись. Никого. — Помогите нам, мы сбежали из эшелона. Только теперь они поняли, что кто-то зовет их из-под вагона. — Можете выходить, здесь вам ничто не грозит. Это были две совсем юные девушки, грязные, насмерть перепуганные. — Идите скорее под колонку, умойтесь, — сказал Малый Килиньский, — а то если вас в таком виде заметит какой-нибудь баншутц или немецкий железнодорожник… Они проводили девушек, помогли им привести себя в порядок. Им было по пятнадцать лет. Немцы забрали их из деревни и отправили в рейх. Ночью девчонки убежали и спрятались под вагонами. Они страшно боялись, потому что на соседнем пути стояли вагоны, в которые немцы грузили оружие. И вот только теперь страх отпустил их… Обе были очень голодны, без гроша в кармане. Тадека что-то подтолкнуло: в вагонах оружие и нет охраны!.. Если бы сейчас!.. — Мы поможем вам, обязательно поможем, но вы покажите те вагоны с оружием. Девушки без труда отыскали их. Малый Килиньский отметил вагоны куском мела и побежал к отцу. Девчат отвели к железнодорожникам, которые обещали их накормить и посадить в свой поезд, чтобы они смогли побыстрее вернуться домой. Тем временем Тадек рассказал отцу о вагонах с оружием и боеприпасами. Там до сих пор не был поставлен часовой. Может, попробовать выкрасть немного оружия?.. — Никогда нельзя делать ничего самовольно, сынок! — сказал отец. — И тем более ничего нельзя делать поспешно. Это не дело для твоих харцеров. Ведь вы же как хотите это сделать? Распломбировать вагоны и вынести оружие, здесь, на глазах у всех? Оставьте это нам. Может, и правда что-нибудь получится… Отец записал номера вагонов, проверил их паспорта и куда-то побежал. Вернулся он, наверное, через час, явно довольный тем, что сделал. Много не говорил. Но все-таки Тадек узнал от него, что вагоны перегонят и подцепят к эшелону, который будет формироваться, и что железнодорожники на сортировочной горке постараются «по ошибке» направить эти два вагона на другой путь. И если удастся где-нибудь раздобыть грузовик, то тогда, может… — Собери самых надежных харцеров, расставим их на постах наблюдения. Когда и где, скажу потом. Операция прошла очень удачно. Из какой-то мастерской, где были свои люди, подъехал «одолженный» грузовик с военными знаками на бортах. Участники операции были переодеты в немецкую форму. Вагоны, отведенные на боковую ветку, почти наполовину опорожнили, а оружие развезли по мелинам на Ратушевой и других улицах Праги. Все закончилось благополучно. Но вечером на квартиру Цацко прибежал кто-то с тревожной вестью: организации грозит опасность! Шофер после полных напряжения часов так перенервничал, что, отогнав грузовик в мастерскую, оставил в кабине листок бумаги со схемой всех мелин в Праге, куда развезли ящики с оружием и боеприпасами. Но, когда он это заметил, мастерская уже была закрыта, а у ворот стоял охранник с автоматом. Что делать? Этот документ надо было любой ценой заполучить обратно!.. — Я пойду! — добровольно вызвался Малый Килиньский. — У меня в этой мастерской есть товарищ, Зенек Весоловский… Через дыру в заборе он пробрался во двор мастерской и замер от неожиданности. В кабине машины сидел охранник. К счастью, оказалось, что в одной руке он держит кусок колбасы, а в другой — бутылку водки. Малый Килиньский сделал самое невинное лицо и постучал в кабину. — Тебе чего тут надо? — Я так давно не ел колбасы, может, паи охранник даст немножко попробовать?.. Уже захмелевший немец позвал парнишку в кабину и угостил его колбасой. А когда он снова приложился к бутылке, Малый Килиньский потихоньку вытащил из-за спинки сиденья этот проклятый листок. Он еще лежал там! За спасение такого важного документа Тадеку Цацко вскоре присвоили звание капрала. Тогда ему было тринадцать лет. Тринадцать лет, а мир, обозначенный улицами Виленьской, Ратушовой, 11 Ноября, Сталёвой и Радзыминьской, уже стал казаться ему слишком тесным. Теперь его можно было встретить за пределами Варшавы и Праги, чаще всего — в поездах на линии Варшава — Миньск-Мазовецки. Он перевозил подпольную прессу, а иногда — оружие. В Миньске у него было где остановиться: здесь жил его дядя, брат отца, а также один из активнейших деятелей подполья в этом районе двоюродный брат Тадека, сын тетки, Роман Жак. Организационно он входил в Армию Крайову, однако сотрудничал также с молодежью Гвардии Людовой, которой в районе Миньска-Мазовецкого руководил Янек Налязек. Одним из проявлений этого сотрудничества являлась помощь советским пленным, заключенным в большом лагере под Миньском-Мазовецким. Эта помощь не ограничивалась лишь передачей пленным через проволочную ограду еды и лекарств. Организовывались также побеги из лагеря, переброска советских офицеров и солдат в леса, в партизанские отряды. Все это было связано с огромным риском. Для переброски пленных в лес привлекалось много молодежи Миньска, и не только молодежь. — Поможешь нам? — спросил как-то Малого Килиньского Роман Жак. Тринадцатилетний капрал сразу загорелся — ему не терпелось принять участие в таких делах, где бы он мог проявить свои способности и сообразительность. Он знал уже на память место, где находится лагерь советских военнопленных, каждый подход, каждую тропку в болотистой местности. Ему, конечно, было легче, чем взрослому, подобраться к проволочной ограде. Железнодорожный полустанок Стоядла находился ближе всего к лагерю. Сразу же за длинным земляным валом тянулись болота, на которые раз в день пленные вывозили из лагеря нечистоты. Лагерное начальство запретило использовать для этой цели лошадей. В повозки впрягались люди. Истощенные оборванные пленные, подгоняемые охранниками, с огромным напряжением тащили эти повозки, потом снимали с них побеленные известкой ящики или бочки с нечистотами и выбрасывали их на свалку. Эти выходы за пределы лагеря давали пленным еще один шанс для побега. В лагере действовала организация, которая, в частности, занималась и переброской людей в партизанские отряды. Беглеца прятали в ящике с мусором или в бочке с нечистотами и вывозили на болото. Затем кто-нибудь отвлекал внимание охранников — и прыжок в ближайшие заросли, затем ожидание, пока повозки в сопровождении охранников возвратятся в лагерь, а за беглецом явится кто-нибудь из подпольщиков. Не раз в это время Малый Килиньский получал от Романа Жака подобные задания: — Сегодня будь в Стоядлах. Отведешь человека вот по этому адресу… И он шел. Никто его не спрашивал, боится он или нет, хотя каждый раз ему было тревожно. Он садился на насыпи, делая вид, что его интересуют только проходящие мимо поезда, а сам внимательно следил за тем, что делается на болотах. Он дожидался, пока лагерная команда потащит назад порожние повозки. Только потом знакомыми тропками подкрадывался поближе, свистел, ждал отзыва и показывал беглецу дорогу. Тадек подходил к нему лишь с другой стороны вала и провожал его туда, где их уже ожидали: в дом одной из польских семей. Здесь хозяева отмывали и кормили убежавшего, давали ему возможность отдохнуть. Через несколько дней кто-либо другой из организации или опять Малый Килиньский приходил в этот дом за советским товарищем, уже переодетым в гражданскую одежду. Потом его провожали на железнодорожную станцию, где Роман Жак определял, каким поездом и куда нужно доставить беглеца. Они садились в вагон и ехали до Варшавы, а там советского товарища принимали железнодорожники из организации и отправляли его дальше, в направлении на Тлущ и Воломин. Осуществлялась также переброска к Седльце, организовывавшаяся в основном вместе с партизанами Гвардии Людовой. Для тринадцатилетнего Тадека все это имело оттенок большого приключения. Но не только приключения. В этом было также чувство долга, удовлетворения от того, что он помогал другим, спасал жизнь людям. Именно чувство долга приказало ему через несколько месяцев добровольно вызваться спасать евреев из пылавшего варшавского гетто. В доме на улице Окоповой был проход через подвалы на территорию гетто. Маленький худощавый мальчик в коротких штанишках выводил оттуда группы евреев и провожал их на Западный вокзал. В Одолянах работал ближайший товарищ Малого Килиньского Тадек Русек. Он принимал спасенных из гетто, укрывал их, а железнодорожники организовывали переброску бежавших в сторону Малкини или Седльце… Шел 1943 год. Малому Килиньскому исполнилось всего четырнадцать лет, но ему казалось, что он и его товарищи могли бы делать в организации намного больше. Через знакомую дыру в заборе они часто пробирались на территорию станционных складов, устраивались в одном из своих укрытий и советовались. В голову им приходило сотни замыслов. — А что, если сделать налет и разоружить несколько немецких солдат, чтобы они не чувствовали себя так спокойно на варшавских улицах? — А если поджечь цистерну с горючим? — А может, почистить немецкие склады со снаряжением для фронта? — Неплохо бы раздобыть немного тротила и подорвать паровозное депо. Малый Килиньский докладывал об этих планах старшим, но всякий раз слышал один и тот же ответ: в организации должна быть железная дисциплина, нельзя провоцировать немцев, любые самовольные действия категорически запрещаются, стоять в готовности с оружием у ноги, ждать приказов! Ждать! Сколько же можно ждать? Подобные вопросы задавали себе в то время многие парни из Армии Крайовой. Молодежь рвалась в бой, жаждала проводить диверсии, хотела истреблять немцев в тылу, деятельно участвовать в ведущейся борьбе, мстить врагу за тысячи убитых мужчин, женщин и детей, сражаться с оружием в руках! К тому же в стране все громче говорили о смелых боевых операциях Гвардии Людовой. А для них почему-то был один приказ: «Стоять с оружием у ноги!» Но ни Малый Килиньский, ни его товарищи из Армии Крайовой тогда, разумеется, не ориентировались в обстановке и не понимали, что скрывалось за этим приказом. Откуда они могли знать, что в то время как на советско-германском фронте решались судьбы войны и, следовательно, будущее Польши, ослепленная антикоммунизмом польская реакция решила сдерживать рост движения Сопротивления в тылу врага, чтобы «не помогать Советам». Разве могли эти парни допустить мысль, что реакционное окружение польского буржуазного эмигрантского правительства в Лондоне уже видело для себя опасность со стороны поднимающихся на вооруженную борьбу польских народных масс под руководством польских коммунистов и поэтому стремилось изолировать отряды Армии Крайовой от всех радикальных рабочих и народных группировок, навязывая им слепое повиновение? Откуда эти парни могли знать, что польская реакция в своих политических концепциях отводила Армии Крайовой особую роль, что она хотела сохранить эти хорошо обученные отряды для решающей внутренней борьбы за власть в стране… Этот приказ «стоять с оружием у ноги» вызвал в рядах Армии Крайовой такое возмущение, что его пришлось исправить: было разрешено вести так называемую ограниченную борьбу. Однако многие патриоты, рвавшиеся в бой, покидали ряды Армии Крайовой. Наиболее сознательные шли в отряды Гвардии Людовой. Другие становились членами иных подпольных военных организаций, которые стояли за более радикальную программу ведения борьбы. Программа — это звучало слишком сильно. Редко кто из молодых парней интересовался тогда программными основами организаций. Их привлекали конкретные действия, борьба с гитлеровцами. Вот поэтому и Малый Килиньский и его товарищи из бараков на Виленьской улице в 1943 году стали членами другой организации. Кто-то им сказал, что в Праге создается Военный корпус службы безопасности, что там формируется целая подпольная дивизия. Это их устраивало. И когда узнали, что предстоят конкретные действия, больше не сомневались. Их собрания носили теперь иной характер. Они уже получили задание: добыть для организации как можно больше медикаментов и перевязочных материалов. Собравшись в своем укрытии, они стали обсуждать план операции: в здании железнодорожной дирекции находилась немецкая аптека. В нее можно было проникнуть. Там работала мать Юрека Мишталевича. Юрек должен был раздобыть через нее план здания и узнать, где хранятся лекарства… Несколько дней спустя, в одну из ночей, ребята через окно в подвале проникли в котельную, прошли через все подвалы здания, проскочили по одному мимо двери помещения, где находился целый взвод жандармов, и нашли склад аптеки. Отсюда они по ночам стали выносить медикаменты и перевязочные материалы. — Нужно раздобыть для организации мундиры, консервы и другие вещи, — предложил на очередной встрече Малый Килиньский. — Может, сделать налет на склады на Ратушовой? Сказано — сделано. Малый Килиньский пробирался на территорию складов, залезал в кузов груженой машины и прятался за картонными коробками. Когда грузовик отъезжал от складов, его уже ожидали на дороге товарищи Тадека. Он выбрасывал из кузова одну, вторую, третью коробку, потом выпрыгивал из грузовика. Друзья подбирали коробки и увозили их. Эту охоту на немецкие машины с грузом ребята повторяли несколько дней. Правда, не всегда с одинаковым успехом. Несколько раз попадались коробки с формой, а однажды… одни шнурки для ботинок. Август 1944 года. Варшава в огне восстания. Прага тоже вступила в борьбу. И, хотя сопротивление повстанцев в Праге было сломлено в течение нескольких дней, молодежь в эти дни вписала много прекрасных страниц в книгу мужества, героизма, самопожертвования польского народа. Малому Килиньскому в это время было уже почти пятнадцать лет, но он продолжал бегать в коротких харцерских штанишках. Его назначили командиром отделения связных при штабе восстания. Он подчинялся непосредственно Яну Мишталевичу (по кличке Знич), отцу своего лучшего друга Юрека, того самого, с которым он забирался в склады аптеки и с которым они не раз очищали немецкие грузовики. На пасху Юрек бросил у костела святого Флориана петарды. Его чуть не схватили жандармы, он бросился бежать и попал под трамвай. С того дня его правая рука бессильно повисла, владеть ею он уже не мог. Правда, он научился стрелять левой. Но в Праге ему уже опасно было оставаться, и отец отправил его из Варшавы. Так Малый Килиньский лишился своего верного Юрека, но и те ребята, которые остались в отделении, были замечательные: Рысек Сасин, Зигмуит Яблоньский, Юрек Хабер… Этих юных солдат никто не посылал, разумеется, непосредственно в пекло боя, но задачи связного были тоже очень ответственные и опасные. После первых ожесточенных схваток, которые почти повсюду в Праге кончились неудачей, немцы овладели всеми улицами. Патрули без предупреждения стреляли в каждого прохожего. Все же для раненых повстанцев удалось организовать несколько временных госпиталей. Один из них находился у слияния улиц Сьродковой и Сталёвой, другой — в железнодорожных бараках у Тархоминьской улицы. В эти госпитали необходимо было ежедневно доставлять еду, хлеб, медикаменты. А кто мог более ловко проскочить туда под носом у немецких патрулей, как не мальчишки! И вот Тадек Цацко и ребята из отделения связных, нагруженные сумками с хлебом и тяжелыми термосами с супом, каждый день пробирались от ворот к воротам, от перекрестка к перекрестку и доставляли все необходимое для госпиталей. Пекарня, правда, находилась поблизости, на улице Сьродковой, а вот за супом приходилось ходить до самой Тарговой. Несколько дней спустя Знич приказал им отправиться к Саской Кемпе (Саксонскому парку) — на берегу Вислы еще продолжала держаться группа пражских повстанцев. В том месте, где сейчас находится пристань, организовали пункт переправы. Отсюда группы повстанцев переправлялись на лодках через Вислу в Варшаву. Сюда, на эту полоску берега Вислы, пробирались уцелевшие повстанцы. Все улицы Праги были блокированы, но нашлись проводники, в основном из числа водопроводчиков и рабочих городской канализации, которые вели людей по подземным каналам даже с далекого Грохува. Выход наверх был на улице Сераковского. Здесь повстанцев принимали Малый Килиньский и его товарищи и отводили их безопасными путями к Саксонскому парку. Еще один такой же пункт находился на территории зоологического сада. Сюда собиралась повстанческая молодежь из северных районов Праги. Стояла ночь. На противоположный берег Вислы отправлялась очередная группа пражских повстанцев. Переплыть на лодках через Вислу — это была всего лишь половина грозившей им опасности. Надо было еще знать все проходы на другом берегу и, минуя немецкие посты, добраться до указанного пункта сбора. А кто лучше мог провести людей через все эти привисленские закоулки, как не харцеры! — Пойдешь? — спросил Малого Килиньского командир переправы. — Пункт сбора в госпитале Красного Креста в Сольце, но к берегу пристанете у Кемпы-Черняковской, потому что на мосту немцы… — Так точно! Пойду! Перед этим он успел узнать у других проводников о наиболее безопасных проходах, которые, впрочем, знал на память. Ведь сколько раз ходил он с ребятами к Висле!.. Лодки плыли медленно, огибая песчаные отмели. Там, где течение было быстрым, гребцы с трудом работали веслами, стараясь не спуститься вниз по реке, к мостам. Вот показалась и Кемпа-Черняковска. Отсюда лодки поплыли обратно. А дальше группу повел Тадек. Он шел впереди бесшумно, как кошка. Группа миновала какие-то дворы, свалки мусора, перегороженные улочки, прошла под виадуком моста Понятовского. И вот конечная цель — госпиталь. Малый Килиньский доложил капитану, что привел группу повстанцев из Праги. Капитан улыбнулся, сердечно поприветствовал его, крепко пожал руку. Его лицо показалось Тадеку знакомым. Ну конечно, этот капитан тоже был жителем Праги… — А как же ты вернешься? — Как-нибудь доберусь! Это «как-нибудь» совсем не так просто выглядело. Лодки, которая бы его перевезла на пражский берег, не было. К тому же ему предстояло возвращаться совершенно одному. Он выбрал кратчайший путь. В темноте прокрался к железнодорожному мосту и, прячась в тени от «быков», где вброд, где вплавь, добрался до пражского берега Вислы. Вышел из воды, поднялся к зоологическому саду, долго отдыхал. Лишь тогда он почувствовал, как сильно устал. Но приближался рассвет, надо было идти дальше… Вскоре Тадек получил новое боевое задание. Для госпиталя в Старом Мясте надо было доставить перевязочные материалы. В Праге, где еще осталось много скрытых складов повстанцев, этих материалов было в избытке. Однако как их переправить через Вислу, за которой с каждым днем усиливалось наблюдение? По ночам немецкие прожекторы то и дело обшаривали реку, а в небо взлетали ракеты. В этих условиях лодки не годились — слишком медленно они двигались по воде. Кто-то предложил использовать байдарки. Три байдарки, которые между отмелями быстро проскочат к другому берегу. Решили, что поедут Малый Килиньский, Юрек Хабер и Зигмунт Яблоньский… — Выполняйте! Они повесили на спину и на грудь по два связанных вместе вещмешка и сели в байдарки. Их столкнули в воду, и они поплыли. Это была уже не такая переправа, как на лодках, когда на веслах сидели опытные гребцы. Сейчас река показалась ребятам куда шире и намного грознее, а тяжелые мешки мешали грести. «Только бы не потерять направление», — все время думал Малый Килиньский… «Лишь бы не потерять друг друга в темноте», — с беспокойством думали его товарищи. Со стороны моста вспыхнул луч прожектора и скользнул по реке. В его свете Тадек увидел невдалеке песчаную отмель и машинально направил к ней байдарку. Вот ее дно коснулось песка, он выпрыгнул из нее и упал. Где же товарищи? Луч прожектора перескочил через него и побежал дальше. В полосе света было видно плывущую байдарку. Где же ребята? Увидят их или не увидят? Не заметили. Когда Тадек столкнул с мели в воду свою байдарку, он услышал рядом с собой чьи-то шаги. — Кто там? — Не узнаешь?.. Это был голос Юрека Хабера. Ему тоже удалось уйти от луча прожектора. А Зигмунт Яблоньский был, наверное, впереди… Снова вспыхнул прожектор, а до следующей отмели было еще несколько десятков метров. Немцы все-таки заметили их. В их сторону протянулись трассирующие очереди пулемета. К счастью, неточно. Все трое изо всех сил налегли на весла. Только бы поскорей приблизиться к берегу! Они взмокли от напряжения и усталости. На варшавском берегу Вислы ребят приняли бойцы с электростанции под командованием Рафала. Они хотели взять мешки и доставить по указанному адресу, но Малый Килиньский возразил: — У нас приказ самим отнести в костел Кармелитов, значит, мы и отнесем туда все это!.. — В таком случае получите проводника. Не думайте, что сейчас каждый может запросто гулять по городу! Во-первых, стреляют. А во-вторых, вас наши посты не пропустят. Но раз вам так приказано… Они пошли. От этого ночного путешествия по охваченным восстанием улицам Варшавы у Тадека в памяти остались пылающие дома, обстреливаемые проходы, атака немецких танков на Краковское предместье и чувство страха. «Может, передать эти мешки на первом повстанческом пункте, взять расписку и вернуться?» — мелькнула мысль. Но они все же дошли до цели. Вот и костел Кармелитов, превращенный в большой госпиталь. На каменном полу сотни тяжело раненных мужчин, женщин и детей. Кто-то снял с ребят мешки. Каким же малозначительным показался им сейчас их труд, проделанный для тех, кто ждал их здесь!.. В сопровождении проводника той же дорогой они вернулись к Висле, выйдя в район электростанции. Время подгоняло. Они даже не пытались искать свои байдарки. Боялись на них возвращаться, убедившись, что на освещаемой прожекторами реке даже байдарка становится довольно заметной мишенью для немецких пулеметов. Решили перебираться вплавь. — У вас на электростанции не найдется немного бумаги и веревка? — спросил Тадек. Получив все, что нужно, они скатали из бумаги большие шары и привязали к ним веревку. Получилось что-то вроде поплавков. Потом все трое обвязались веревкой. Если даже течением их снесет, они не потеряются в темноте. Реку переплыли без происшествий. На следующий день они узнали о роспуске повстанческих отрядов в Праге. Так окончилась первая глава истории харцера из железнодорожных бараков, которого все знали как Малого Килиньского. Организация уже не существовала. Не было отделения связных. Кто смог, ночью оставил город, рассчитывая на то, что удастся перейти через линию фронта или присоединиться к какому-нибудь партизанскому отряду. Массовые облавы и аресты ускорили уход молодежи из Праги. Тем временем в Праге гитлеровцы, предполагая, что скоро начнется наступление Красной Армии, принялись за уничтожение всего, что еще не было уничтожено. Специальные подрывные команды («шпренгкоммандо») минировали фабрики, заводы и другие промышленные объекты. Уже лежало в развалинах пражское трамвайное депо. Пылала взорванная фабрика Шихта. С грохотом взлетали на воздух другие фабрики и заводы. Одновременно железнодорожные подрывные команды с помощью специальных плугов разрушали пути. После такого плуга шпалы торчали, словно сломанные пополам спички. Взрывчатка, подложенная под рельсы и телеграфные столбы, дополняла дело. Не скоро по этим путям смогли пойти первые поезда. Тротиловые заряды были заложены и под большое здание железнодорожной дирекции, охранявшееся большим количеством танков. От здания к этим танкам тянулись электрические провода. Польским железнодорожникам, однако, удалось перерезать эти провода и спасти здание, в котором позже в течение нескольких месяцев работало польское временное правительство. Ребятам с Виленьской улицы здесь, в Праге, уже нечего было делать. Надо было уходить из города. И они решили уйти с честью, с оружием в руках. Тадек Цацко для такого случая раздобыл даже бриджи и офицерские сапоги. Седьмого сентября, ночью, они вышли небольшой группой. Выбрали себе даже командира — студента варшавского политехнического института в звании плютонового (сержанта), имевшего подпольную кличку Зайонц. Встал вопрос: где пройти? Какой выбрать путь? Улицы блокированы немцами. Пожалуй, самый безопасный — вдоль железной дороги. А кто лучше всех знал этот путь, как не сын машиниста паровоза Тадек Цацко? Вот он и должен быть проводником группы. Тадек сразу же решил держать направление на Воломин. По железнодорожным путям Тадек и его товарищи добрались до Таргувека и там свернули на улицу Начельниковскую. Но здесь слишком много было немецких патрулей. Приходилось то и дело скрываться в подворотнях домов. Затем, когда железная дорога разделилась на две ветки, Тадек повернул к Утрате. Ребята шли вдоль железнодорожной насыпи. Ни одного немца здесь уже не встретили. Все посты остались где-то позади. С высоты сортировочной горки справа от дороги Тадек и его товарищи увидели полыхающее пламя, а в его свете — фигуры немецких солдат, но, чтобы их обойти, достаточно было держаться левой стороны насыпи. Дальше, в направлении Ольшинки-Гроховской и Гоцлавека, дорога вдоль путей была уже совершенно безопасной. Парни ускорили шаг. Решение Тадека оказалось правильным. Немцы, разрушив железнодорожное полотно, считали, вероятно, что сами пути теперь недоступны, и блокировали лишь улицы и проходы между домами. Здесь, на путях, никого не было. Только со стороны Грохува был слышен шум на шоссе от проезжающих автомашин, а за Вислой небо было светлым от гигантского зарева. Пылала Варшава, из которой долетали отзвуки все еще продолжавшегося сражения повстанцев с врагом. Ребята дошли до Вавера. Надо было осторожно обойти перекресток шоссе, где, вероятно, должен был находиться немецкий пост. Они прошли между домами, а затем по опушке леса направились к Люблинскому шоссе. — Стой! Кто идет? — раздался окрик по-русски. Все замерли. Тот же голос с певучим акцептом, явно принадлежавшим жителю пограничных районов, повторил вопрос по-польски. Ребята вышли из-за деревьев. Кто-то включил фонарик. В полосе света они увидели солдат в польской форме.Восьмого сентября, утром, командир взвода пешей разведки старший сержант Александр Подгурский доложил командиру 2-го пехотного полка полковнику Виктору Сеницкому, что группа его разведчиков встретила в лесу, восточнее Анина, около двадцати вооруженных молодых парией, которые утверждают, что прорвались через немецкие позиции из самой Праги. Они говорят, что шли вдоль железной дороги и в пути встретили лишь немногочисленные немецкие посты, которые им удалось обойти… — Накормить их, пусть немного отдохнут, а потом приведете их ко мне! Когда они предстали перед командиром полка, плютоновый Зайонц подал команду «Смирно!» и доложил, что это группа варшавских повстанцев из Праги. Полковник посмотрел на них с волнением. — Ну что ж, хлопцы! Кончилось ваше путешествие. Благодарю вас за мужество и отвагу. Вы находитесь на польской земле, где уже нет немцев, есть польская власть и Войско Польское. Вскоре мы прогоним немцев изо всей Польши. Расскажите, что там, в Варшаве и Праге? Полковник нахмурился, выслушав ребят. Это были невеселые вести. Впрочем, зарево над пылающей Варшавой и бьющий в небо столб дыма солдаты-костюшковцы уже видели под Варкой. Еще день-два, и укрытые здесь войска ринутся лавиной и прорвут оборону гитлеровцев на подходе к Праге. Вся 1-я дивизия имени Тадеуша Костюшко жила только одним — поспешить на помощь Варшаве. Задача командира 2-го полка заключалась в том, чтобы подготовить свой полк к этим боевым действиям, чтобы как можно быстрее с наименьшими потерями прорвать оборону противника и выйти на заданный рубеж. Еще этой ночью требовалось добыть «языка»… — Еще раз спасибо вам, хлопцы! — поблагодарил полковник. — Вы свободны на свободной польской земле. Можете идти по домам, к своим семьям, знакомым. Можете также вступить в Войско Польское, которое ждет солдат. А пока у меня есть к вам одно предложение. Кто из вас добровольно хотел бы показать нашим разведчикам дорогу, по которой вы пришли этой ночью из Праги?.. — Я, паи полковник! Командир полка с недоверием посмотрел на молоденького, худощавого паренька в харцерской блузе. — А сколько тебе лет, сынок? — Пятнадцать… Через несколько дней будет пятнадцать. Я знаю дорогу вдоль железнодорожных путей, я сын машиниста… и старый харцер… у меня звание капрала. — Капрала? И не побоишься еще раз вернуться с разведчиками в Прагу? — Могу идти хоть сейчас! — Ну, хорошо. А пока иди отдохни.
— Пора вставать!.. Он вскочил, пробудившись от глубокого сна. Уже стемнело. Когда товарищи направились к Отвоцку, он улегся и проспал до самых сумерек. — Давай познакомимся, — сказал солдат, который его разбудил. — Капрал Адам Кучера, разведчик. Меня прислал сюда старший сержант Подгурский. Ты вроде обещал провести нас к Праге. Идем. Не передумал?.. Разведчики были уже готовы. Высокие, крепкие парни, лица в морщинах, усатые. Среди них были плютоновый Войтыра, ефрейтор Михал Мушиньский, рядовой Эдвард Кобыра… Когда Тадек подошел к старшему сержанту Александру Подгурскому, тот посмотрел на него и вздохнул: Тадек не доставал ему даже до плеча. В этом вздохе отчетливо улавливался скептицизм относительно пригодности такого проводника. — А тебя как звать, сынок?.. — Тадеуш Цацко… капрал Тадеуш Цацко!.. — Ну что ж, капрал так капрал, сынок! А немцев ты не испугаешься? Подгурский говорил с певучим приграничным акцентом, то и дело вставляя в речь русские слова. Так, впрочем, говорили и другие солдаты. Они называли Тадека ласково сынком, и в их отношении совсем не было никакой недоброжелательности к нему. Просто они не верили, что такой мальчуган мог пригодиться им в их деле. Им нужно было разведать дорогу и достать «языка». Но, если этот парнишка знает дорогу… — Чертенок, а не хлопец этот сынок! — докладывал потом полковнику командир взвода пешей разведки. — Провел нас по путям почти к зданию железнодорожной дирекции, к самим танкам вокруг него. Он знает каждую тропинку, а в темноте ходит и видит, как кошка. Там мы этих двоих фрицев и сцапали. Эсэсовцы! Пошли с нами, как ягнята… — Передайте благодарность разведчикам. Послезавтра наступление на Прагу. А что с пареньком? — Ловкий, товарищ полковник. Просил меня принять в разведку… пусть останется… Обязательно пригодится нам еще раз. — Но он же еще мальчонка, ему и пятнадцати нет… как такого включить в списки полка? — Порция хлеба и супа всегда для него найдется. Плютоновый Герега постарается об этом. Не обидим…
Так, собственно, решилась на подступах к Праге дальнейшая военная судьба харцера из железнодорожных бараков на улице Виленьской. Он оказался в рядах 2-го полка 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, во взводе полковой пешей разведки. Харцерскую блузу сменил на форму, перехваченную ремнем. Форму сшили немного навырост, поэтому полковой портной приподнял чуть рукава, подшил, подвернул и еще что-то там сделал. Только ни одни брюки не подходили, и тогда строгий старшина роты плютоновый Герега разрешил все же пареньку остаться в бриджах и офицерских сапогах. Разрешил он ему также носить нашивки капрала. С этого времени никто больше не называл его Малым Килиньским. Все обращались к нему так, как его окрестил старший сержант Александр Подгурский, — Сынок! И все — как сына — оберегали его, чтобы не лез зря под пули. Когда 2-й пехотный полк двинулся на штурм Праги, начальник штаба полка майор Ушпалевич оставил Тадека при себе на командном пункте. И только раз, когда прервалась телефонная связь с одним батальоном, майор послал его к командиру батальона с приказом, чтобы тот бросил в атаку еще одну роту. Тадек возражал против такой опеки, возмущался, но только на командном пункте узнавал, что уже взяты Анин и Вавер, что идет бой за кирпичный завод в Кавенчине, что трудная обстановка сложилась под Утратой… В мыслях он рвался на Виленьскую, домой. Что с мамой? Что с семьей? Может, есть какие вести от отца? Но ни с кем он не поделился этими мыслями. Надо было ждать случая. Но пока такой случай едва ли мог представиться.
2-й пехотный полк из Праги передвинулся в Анин. У Вислы, на Медзешинском валу, остался только полковой наблюдательный пункт. Заботливый старшина роты плютоновый Герега каждый день привозил сюда, на наблюдательный пункт, из самого Анина, пробираясь по обстреливаемым улицам Праги, горячую еду для солдат. Именно ему начальник штаба полка майор Ушпалевич доверил позаботиться о мальчишке. Но Тадек не хотел сидеть во взводе без дела и рвался к Висле. — Пусть едет! — решился в один из дней плютоновый Герега. — Поможет носить солдатам термосы с супом. Прагу все время обстреливала немецкая артиллерия. Засевшие на высоком варшавском берегу немцы имели хороший обзор, и достаточно было нескольким машинам появиться на аллее Вашингтона или на Гроховской, как из-за Вислы уже летели снаряды. С правого берега немцам отвечали польские орудия. Разведчики 2-го полка также следили со своего наблюдательного пункта за передвижением противника, а артиллерийская разведка старалась засечь немецкие огневые точки, однако с пражского пологого берега вести наблюдение было не так просто. Солдаты буквально вгрызлись в Медзешинский вал, а сам наблюдательный пункт был оборудован почти наверху вала и обложен мешками с песком. К тому же подходы к НП были совершенно открыты, поэтому доставлять сюда пищу постоянно представляло большую опасность. — Ты смотри только суп не пролей! — наставлял паренька плютоновый Герега, и Тадек первым выходил из-за укрывавших их кустов, чтобы преодолеть несколько десятков метров открытого пространства. Они находились уже на полпути от вала, когда над их головами засвистели пули и со стоном ухнули первые мины. — Бегом! — скомандовал плютоновый. Тадек услышал пронзительный свист снаряда и непроизвольно упал на землю. Снаряд взорвался так близко, что парнишку обсыпало землей и камнями. Он ощутил слабые удары в плечо и под колено, но тут же вскочил и побежал дальше, чувствуя, как что-то мокрое и теплое заливает ему ноги. Наконец он оказался под прикрытием вала. — Ну, как там суп? Не пролил? Тут только он почувствовал, что термос удивительно легок. Он посмотрел на свои брюки и сапоги. Они все были облиты супом, и облеплены песком. Тадек расплакался. Он не мог себе простить этого. Суп пролился в тот момент, когда он, испугавшись подлетающего снаряда, бросился на землю. Что теперь подумают о нем разведчики, которые и днем и ночью сидят здесь на наблюдательном пункте?.. Но кто-то из солдат подошел и внимательно стал осматривать железный термос. — Не из-за чего плакать, — сказал он. — Радуйся, что не тебя так продырявило. Ты посмотри только!.. Действительно, термос был похож на решето. — Не горюй, — утешали его солдаты. — Перебьемся, хватит нам и того, что принес старшина. Снимай автомат, отдохни. А мы пока заберем обед и пойдем к тому домику. Через полчаса управимся и вернемся… Он даже не заметил, что два артиллериста и один из оставшихся на наблюдательном пункте разведчиков обмениваются многозначительными улыбками. — Гражданин капрал, — обратился к Тадеку один из них. — Вы, гражданин капрал, здесь старший по званию, поэтому примите пока командование над этим наблюдательным пунктом. Он не почувствовал шутки. Его даже не насторожило, что эти старые солдаты так серьезно обращаются к нему: «Гражданин!» Однако он не знал, что надо делать ему, как командиру пункта. Он взобрался наверх, на вал, к прикрытой мешками с песком стереотрубе, а потом, склонившись, стал составлять схему обстановки. Он еще успел заметить, что на том берегу замигали какие-то огоньки, и подумал, что это, наверное, немецкие пулеметы, потом почувствовал удар в руку и скатился с насыпи. Так попал он первый раз в санбат. Оказалось, что в этот день его три раза ранило: два раза — в плечо и под колено, — когда он пробирался к валу, а третий — когда рисовал схему. Осколок и по сей день сидит у него в плече. К счастью, все раны оказались легкими, и через несколько дней Тадек Цацко попросту убежал из санбата и явился в разведывательный взвод. Худшее ему пришлось пережить несколькими днями позже. Его, ни много ни мало, официально похоронили на солдатском кладбище. А было это так. Тадек и Герега привезли на наблюдательный пункт обед и возвращались в Анин. Вслед за ними ехала повозка, лошадьми которой управлял молоденький солдатик, наверное, ровесник Тадека — не больше пятнадцати лет. Его фургон был запряжен двумя сильными лошадьми и стал их обгонять. — Ты куда так спешишь? — крикнул ему Тадек. — Как это куда? За снарядами для батареи! Не видишь, что я артиллерист! — Разве что по коням определить можно!.. — А хоть бы и по коням. Не такие клячи, как ваша. Артиллерийские кони! Оба рассмеялись. Паренек очень понравился Тадеку. Он еще подумал, что хорошо было бы иметь такого товарища в разведвзводе. Сразу за круглой площадью Вашингтона они попали под артиллерийский обстрел. Паренек стал нахлестывать лошадей и рванул вперед. Тадек и Герега тоже, не обращая внимания на рвущиеся на улице снаряды, не искали укрытия, а хотели проскочить поскорее этот опасный участок дороги. Доехали до Вятрачной и свернули на Греховскую. Юного артиллериста они догнали где-то в районе площади Шембека. Здесь образовалась пробка из грузовиков и повозок, и один регулировщик тут никак не мог управиться. Оба паренька слезли с повозок поговорить немного. И в этот момент из-за Вислы неожиданно выскочили два немецких самолета. — Укрывайся! — крикнул Герега и побежал к ближайшему картофельному полю. Места для укрытия здесь было много, потому что вокруг площади тянулись делянки, на которых сажали картофель и помидоры, к этому времени уже убранные. К этим делянкам бежали толпой солдаты с машин и повозок. — Кони, мои кони! — закричал вдруг юный артиллерист и бросился к своему фургону. А на площади в это время происходило что-то страшное. Испуганные кони рвали упряжь, разбивали повозки, кидались в стороны. Некоторые падали, убитые осколками бомб… Прежде чем Тадек успел сообразить что к чему, паренек-артиллерист исчез в клубах пыли на своей повозке, которую во всю мочь понесли испуганные кони. Через минуту где-то совсем близко раздался пронизывающий свист, потом была только сильная ударная волна, и все внезапно погрузилось в темноту. Когда Тадек открыл глаза, то увидел наклонившуюся над ним девушку в белом чепце и белом халате. Он пощупал голову. Она была перевязана. Страшно шумело в ушах. — Где я? — Не волнуйся. В полевом госпитале. Кажется, под бомбы ты попал. Доктор говорит, что ничего страшного. Голова побита, но цела. — Долго я тут лежу? — Три дня… А что это за госпиталь? Девушка удивленно посмотрела на него: — Дивизионный госпиталь в Анине. — В Анине? Приходил кто-нибудь ко мне из 2-го полка? Девушка отрицательно покачала головой: — Нет, никто о тебе не спрашивал. Ты все время был без сознания. Тадек молчал. Очень странным показалось ему то, что никто не справился о нем, что даже плютоновый Герега не навестил его. Может, он погиб тогда на площади Шембека? «Что-то здесь не так», — подумал он… На следующий день доктор сказал ему, что можно немного походить. — Но мне нужно в полк! — Это мы решаем! — ответил доктор и пошел к другим раненым. Опираясь на плечо санитарки Маруси, Тадек вышел из госпитального барака и даже подскочил от радости. Совсем рядом, сразу за изгородью, расположился его взвод. Это было так близко! Он решил вернуться туда сегодня же. Осталось его тайной, каким образом он уговорил Марусю «одолжить» его собственную форму и принести автомат. Тадек торжественно пообещал ей, что вернется через два часа. Он пролез через дырку в заборе и почти побежал к разведчикам. Его появление было встречено, однако, глухим молчанием. Все смотрели на него, как на привидение. — Ты живой? А мы тебя похоронили. И цветы положили на твою могилу. Что с тобой было, сынок? Плютоновый Герега, как вернулся тогда, плакал. А как его майор Ушпалевич ругал за то, что не уберег тебя! Но если ты живой, то кого же мы тогда похоронили?.. Пошли посмотрим, это тут недалеко. Увидишь, какая у тебя хорошая могилка!.. Солдатское кладбище в Анине находилось, действительно, недалеко. На свежей, убранной цветами могиле стоял березовый крест, а на нем виднелась табличка с надписью: «Капрал Тадеуш Цацко. Род. 24.09.1929 г. Варшавский повстанец — солдат 1-й армии ВП». Они долго стояли у этой солдатской могилы. — Значит, долго жить будешь! — прервал молчание старший сержант Подгурский. — Конечно, этот Герега что-то напутал!.. Вечером пришел плютоновый Герега и еще раз рассказал о событиях того дня. Когда кончился налет, он стал искать Тадека. Но тщетно кричал он: «Сынок! Сынок!» Мальчика нигде не было. Тогда Герега пошел искать свою повозку и по дороге узнал, что только что санитары забрали тяжело раненного взрывом бомбы молоденького солдатика, о котором все говорили, что он,наверное, не выживет. — Ну что я тут мог подумать? Только то, что это был ты. И как вернулся в полк, так сразу мы позвонили в госпиталь. А там нам ответили, что этот солдатик умер, и спросили, как его фамилия, потому что при нем не было никаких документов. Ну, я и назвал им твое имя и фамилию. А потом мы все были на похоронах… Тадек внезапно вспомнил юного артиллериста, который выбежал тогда из укрытия и бросился спасать своих прекрасных артиллерийских коней. Убит был, наверное, он. Паренек, которого Тадек знал только в лицо и так сразу полюбил его. Он так гордился своими артиллерийскими лошадьми.
Первый отпуск, первая встреча с матерью и с товарищами из железнодорожных бараков. С гордостью ходил он по Виленьской улице в форме с нашивками капрала и с автоматом на плече. И когда позже полковник Сеницкий еще раз предложил ему вернуться домой и идти в школу учиться, он вымолил у него разрешение остаться в полку вместе с разведчиками. С каждым днем он все больше входил в жизнь взвода. Вместе с разведчиками он проходил боевую подготовку, а когда 2-й полк снова вступил в бой, Сынок был там, где действовали разведчики. Под Бялоленской он тяжело пережил смерть ефрейтора Михала Мушиньского, трагическую, случайную и в то же время героическую. Мушиньский вошел ночью в землянку погреться и, обвешанный оружием и гранатами, присел на минутку у печки. Он не заметил, что чека гранаты зацепилась за какой-то выступающий железный прут. В последний момент ему удалось своим телом прикрыть сидевшую рядом советскую радистку. На следующий день полевая почта доставила Мушиньскому письма от матери и от нареченной из Гродно… Сынок был любимцем разведчиков 2-го полка. Он рвался в бой, а они не пускали его туда, где было всего опаснее. Когда разведчики однажды ночью напали на штаб немецкого полка в Плудах, он находился лишь в группе прикрытия. На войне, однако, никогда не известно, где безопасней. Под Яблонной, когда солдатам 2-го полка пришлось отражать атаки немецких танков гранатами, а земля стонала от взрывов снарядов и полк несколько раз переходил в контратаку, Сынок наскочил на немецкую мину и, тяжело контуженный, весь перебинтованный, снова оказался в дивизионном полевом госпитале, на этот раз в Зелёнке. Здесь молодой паренек пережил большое событие. Госпиталь посетили командующий 1-й армией генерал Владислав Корчиц и командир 1-й дивизии генерал Бевзюк. Они задержались у койки пятнадцатилетнего капрала, оставив на госпитальном одеяле серебряную медаль «Отличившимся на поле боя». Только в декабре Тадек вернулся в полк и снова оказался на переднем крае. В январе он участвовал в первом параде на улицах Варшавы. А на следующий день под Блоне вместе с разведчиками Сидорчуком и Осиньским конвоировал взятых в плен уже за Варшавой немцев. Военных приключений прибавилось, когда прошли Быдгощ и через Короново двинулись на Злотув и Чаплинек. Однажды вечером разведчики, которым для поддержки придали нескольких автоматчиков, шли в боковом охранении. Мела метель, идти было трудно. Ноги проваливались в снег. Видимость была минимальной. Но бойцы чувствовали себя довольно уверенно. Немцы сопротивления не оказывали. Это были дни, когда не только отдельные солдаты, но и целые взводы гитлеровцев без единого выстрела сдавались в плен. Разведчики двигались по какой-то окольной дороге, затем миновали перелесок. Дальше темнела стена леса, на его фоне виднелись несколько едва приметных строений. — Возьми несколько человек да проверь эти постройки! — сказал старший сержант Подгурский плютоновому Кучере. — Мы будем дальше держаться обочины шоссе. Догоните нас!.. Сынок! Если хочешь, можешь идти с ними! Они пошли напрямик. В группе было пятнадцать или шестнадцать солдат. Вел ее плютоновый Кучера. Они убедились, что строения пусты. И в это время кто-то из солдат охранения крикнул: — Немцы! Там у леса! Сквозь снежную завесу было видно целое скопище приближающихся со стороны леса немецких солдат. Одни бежали прямо к строениям, другие обходили перелесок, около которого только что прошли разведчики. До шоссе было не меньше километра, а полк, наверное, продвинулся уже далеко вперед. Тадек почувствовал, что его охватывает страх. Неужели придется так глупо погибнуть? Но плютоновый Кучера сразу оценил обстановку. — Отходить к перелеску! Укрывшись, они стали наблюдать за передвижением немцев. А те явно не спешили. Медленно окружали перелесок. Возможно, им казалось, что шоссе слишком близко, и они боялись, что выстрелами привлекут к себе более крупные силы противника. А может быть, гитлеровцы хотели взять их живыми? Быстро темнело. Бесновалась метель. Ветер так выл, что на шоссе едва ли услышали бы выстрелы в перелеске. — Кто пойдет с донесением в полк? Из всех добровольцев Кучера выбрал двоих. Один из них был приданный разведчикам автоматчик, второй — Сынок. Оба поползли по снегу, скрываясь за деревьями. Они проскользнули незамеченными в темноте между расставленными вокруг в нескольких шагах друг от друга гитлеровцами. Наконец добрались до шоссе. Здесь уже никого не было — полк ушел далеко вперед. Что делать? Вдруг показалась машина. Они остановили ее. Им повезло. Это как раз командир полка объезжал подразделения. Через несколько минут полковник свернул с дороги артиллерийскую батарею. Под ее огнем немецкий батальон врассыпную отступил к лесу. Разведчики вернулись целые и невредимые. Но не все приключения оканчивались так счастливо. Несколькими днями позже смертью храбрых погиб командир разведвзвода старший сержант Александр Подгурский, тот самый, который первым назвал Тадека Сынком. Взвод принял хорунжий Равский. И снова солдаты 2-го полка вели тяжелые бои… Бои под Ястрове… Бой за шоссе Валч — Мирославец… Упорные бои под Мирославцем. В один из дней автомашины остались без горючего. Артиллерия застряла где-то в тылу. Хорунжий Равский, раненный в голову, не уходил с поля боя. Впереди, на большой поляне, горело несколько танков из бригады имени Героев Вестерплятте. Укрытое в овраге немецкое самоходное орудие причиняло много вреда. Один из польских танков вел с ним упорный поединок. В танк уже попало два снаряда. Он задымил, затем его охватило пламя. Но его пушка продолжала стрелять. Один из выстрелов оказался метким: немецкое орудие замолчало. Танк весь был в дыму и огне, но из него никто не выходил. — За мной! — скомандовал плютоновый Кучера. Они бросились к танку — плютоновый Герега, рядовой Карпович и Сынок. Башня танка была почти оторвана. Как войти в танк, как открыть люк? — Сюда, Сынок! — Кучера показал на большую щель между башней и корпусом. — Может, пролезешь? Постарайся открыть нижний люк. Тадек пролез. Ослепленный дымом, он нашел все-таки замок нижнего люка, открыл его. Потом разведчики вытащили из машины двух тяжело раненных танкистов. В танке их было только двое, и этот неполный экипаж смог так героически вести тяжелый бой!..
О том, что они будут участвовать в штурме Берлина, им стало известно в Ораниенбурге. А потом были берлинские улицы, в дыму и огне, бои за каждый дом; артиллеристы втаскивали орудия на этажи и вели огонь из окон, а пехота продвигалась вместе с советскими танками. Пятнадцатилетний капрал, которого когда-то называли Малым Килиньским, был вместе со своим полком в Берлине. Разведчики полка всегда шли впереди. Они первыми врывались в дома, где появлялись белые флаги, осматривали подвалы, этажи, вели бои внутри зданий. Франклинштрассе! Берлинерштрассе! Все ближе Тиргартен и Бранденбургские ворота!.. Но на пути еще стоял целый комплекс зданий берлинского политехнического института, превращенного в крупный, сильный опорный пункт. Здесь, у этих зданий, задержалось наступление всей 1-й дивизии. Артиллеристы никак не могли пробить толстые стены этой настоящей крепости. Все окна, заложенные мешками с песком, были превращены в огневые точки. Из них извергалась лавина огня, под которым захлебывались атаки пехоты. На улицах пылали советские танки, подбитые панцерфаустами. Под вечер разведчики снова отправились искать проход к зданию. Пошли поручник Дудзяк из дивизионной разведки, хорунжий Равский из 2-го полка, Кобыра, Павловский… Ночь была светлой, как день, от бушевавших кругом пожаров. Разведчики пробрались к задней стороне здания и нашли проход. Затем подтянули сюда орудие и несколькими выстрелами разбили баррикаду из мешков с песком. А после этого Кобыра, Кучера, Мишак и Сынок метнули в образовавшееся отверстие связки гранат. Потом один подсадил другого, и они вскочили через окно внутрь, снова гранатами и автоматами проложили себе дорогу и добрались до здания политехнического института, чтобы уже изнутри открыть другие проходы для штурмующей пехоты…
Вот так юный харцер, который когда-то, в тяжелейшие для Варшавы дни гитлеровской оккупации, писал мелом на стенах домов: «Отомстим за Павяк!» — и забрасывал бело-красные флажки на трамвайные провода, теперь — в мундире польского солдата — сражался в Берлине и вместе с солдатами 1-й пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко водружал там польские бело-красные флаги. Пятнадцатилетний капрал, варшавский повстанец, солдат 1-й армии Войска Польского. «Сын» полковой разведки. К этим боевым заслугам можно добавить еще один подвиг, совершенный уже в 1963 году. Он один, на глазах растерявшихся людей, бросился в мутную воду, рискуя своей жизнью, чтобы спасти жизнь трех тонувших детей. К фронтовым наградам прибавилась заслуженная награда мирного времени — медаль «За самопожертвование и отвагу».
Войцех Козлович ОН БЫЛ МОЕЙ ЖИЗНЬЮ
Герой этого повествования не получил знака «Сын полка». Пусть поэтому эта история ребенка, рассказанная его матерью, послужит предложением о вручении Юреку этого военного знака отважных. Посмертно — его близким.Может быть, об этом и скучно слушать. О чем могут рассказать старые женщины? Историю своей жизни? Неохотно слушают о чужих заботах — своих больше чем достаточно… Я старая женщина, мне за шестьдесят. Со здоровьем у меня уже неважно. Ну, иногда еще сошью что-нибудь для соседских ребятишек. Одна соседка даст семь, другая — пятнадцать злотых. Иногда дочка возьмет меня к себе на несколько дней. Сижу тогда на балконе и наблюдаю, как течет внизу на улице жизнь… Движение, трамваи, ребятишки, идущие в школу… Кричу на них с балкона: бегают через проезжую часть мостовой, не обращая внимания на машины, гоняются в «салочки» по всей улице… Иногда ночью, когда не могу заснуть, думаю: а может быть, я была плохой матерью? Не досмотрела, не уберегла?.. Жили мы тогда в небольшом поселке под Варшавой. Недалеко, в небольшой усадьбе на Букове, стали на постой гитлеровцы. Голод в доме страшный. Денег не было. Старого забрали в концлагерь. Дочка, Иренка, была маленькой, Юреку тоже было только двенадцать лет. А я? Простая, неграмотная женщина; ходила по домам, помогала на кухне, стирала… Как-то Юречек принес домой хлеб. Потом — кусок масла. Однажды увидела я, как ехал он на козлах немецкой повозки… Я думала, что он ходит туда, к этим немцам, из-за детского любопытства. Я остерегала его, но не слишком строго: а вдруг какой-нибудь добрый человек даст ему что-нибудь поесть… Все очень любили мальчика. Говорили мне: «Ваш сын далеко пойдет…» Я только рукой махала: кто думал тогда о будущем? Важно было прожить сегодняшний день. Однажды немцы гнали колонны людей. Руки связаны проводом. Оборванные. Они тащились по дороге, падали, поднимались под ударами прикладов, снова падали лицом в грязь… Юрек прибежал разгоряченный, взволнованный. Я приготовила на обед дедовский суп: попросту горячая вода со старыми корками хлеба, заправленная капелькой растительного масла. Юрек не хотел есть: — Если бы ты их видела, мама, ты бы тоже не стала есть… Попросил слить суп в банку из-под молока и полетел. И это уже соседки мне рассказали, что ходил он с каким-то обрывком бумаги, на котором было написано только несколько слов: «Нас десять… люди, спасите нас…» — собирал еду. Соседки же рассказали, что Юрек, как стемнеет, подкрадывался к колючей проволоке лагеря и подбрасывал собранную за день еду голодным заключенным… Ему удавались эти вылазки, может быть, потому, что было у него немного счастья и сообразительности, а может быть, потому, что немцы его знали… Иногда я видела, как он гнал к пруду купать лошадей. Он свободно проходил через немецкие посты в усадьбу на Букове, и кто знает, что он там искал… Он постоянно где-то пропадал, был скрытен и молчалив. Он редко что-нибудь рассказывал, даже о том, как сами немцы спрятали его от железнодорожного жандарма на контрольном пункте между генерал-губернаторством[6]и рейхом. А зачем и куда он ездил — этого я не знала. Не раз и ругалась: — И зачем ты всюду лазишь, мальчишка, еще накличешь какую-нибудь беду… А он поцелует меня, попросит прощения — и опять пропадает. Однажды, когда он не вернулся, я проплакала всю ночь, а утром — было это как раз в сочельник — кто-то постучал в дверь. На пороге стоял незнакомый мужчина: — Ваша фамилия Сковроньская? У меня заколотилось сердце, я не могла выдавить из себя ни слова, только кивнула головой; он приблизился ко мне: — Вы мать Юрека? У меня немного отлегло от сердца. По крайней мере, не агент гестапо. Мужчина сказал вполголоса: — Вы не беспокойтесь. Его не будет несколько дней, но он вернется. А людям вы скажите, что он у родственников. У вас есть кто-нибудь в деревне? Я кивнула. Около Цеханува жила крестная мать Иренки, и мы иногда виделись… Я хотела его расспросить, узнать, где Юрек, но мужчина только добавил на прощание: — Вы не беспокойтесь… Ему легко было говорить. А я как подумаю об этих немцах в усадьбе… Кроме того, старший сын тоже сидел в лагере, едва избежал смерти. Я хорошо знала, что вокруг творится. Горели немецкие склады. Стреляли в жандармов. На близлежащих путях взорвали поезд… Однажды вечером кто-то постучал в окно. Окно было занавешено. Взяла я карбидную лампу и пошла в сени. — Это я, свой, — произнес кто-то за дверью. Я не узнала голоса. — Открой, это я, Марцелий… Это был наш родственник из Цеханува, брат крестной матери Иренки, не заглядывал он к нам уже несколько лет. Но я не расспрашивала, где он пропадал и что делал. За чужую тайну легко можно было заплатить головой. Накормила я его, чем было. Вспомнили мы прежние времена. Марцелий не раз заходил к нам перед войной. «Занимался политикой», как говорил мой старый. И хотя сам он никогда не рвался вперед, но с вниманием слушал Марцелия. Когда родилась Иренка, мы очень переживали, кого попросить в кумы. Да и кто же захочет стать крестной у ребенка бедняка? И Марцелий решил: — Просите мою сестру из Цеханува. Так и породнились мы с семьей Новотко. В тот вечер во время оккупации я видела Марцелия в последний раз. Дала ему рубашку и, кажется, свитер. Я не спрашивала, куда он идет. И не знала тогда, почему он прервал меня на полуслове, когда я назвала его фамилию. Марцелий был взрослый, он сражался. А моему Юре-ку было тринадцать лет, когда пришел тот мужчина и сказал мне, чтобы я не плакала… Я и не плачу. Больше не плачу. Марцелий говорил: — Подожди, Франя, еще придет для нас доброе время… И Юречек тоже обещал: — Мама, как только я вырасту… О Новотко пишут теперь в книжках, видела я его фотографии в газете. После моего Юречка осталась грамота: «…на основании декрета Президиума Крайовой Рады Народовой от 26 октября 1945 года… признавая заслуги в войне с Германией для дела победы польского народа над фашистским варварством, стрелок Сковроньский Ежи, сын Антония, награждается медалью Победы и Свободы. 9 мая 1946 года». Мой дорогой, какой он там был стрелок! Он был пятнадцатилетним мальчишкой, когда ему давали эту награду! А в военной книжечке, вот она у меня здесь, номер 136, написали: «24-я автомобильная рота, помощник водителя»… И сразу дальше: «гражданская профессия — учащийся начальной школы»… Если бы он был учащимся… Ровно через две недели после представления его к награде, 23 мая 1946 года, пришло извещение… Юрека не стало. Войну мы пережили благополучно. Муж и сыновья вернулись домой. Дочь пришла из партизанского отряда, хотя и была ранена в обе ноги… Только позднее, уже после войны, узнали мы, что Юрек был связан с партизанами. Что он специально бывал среди немцев, собирал сведения, высматривал, слушал. Он был солдатом, хотя для меня, матери, всегда был только ребенком. Иногда Юрек вспоминал о декабрьском переходе через фронт, о поездках к партизанам. Я думала, что он, быть может, немного сочиняет, что он, как ребенок, любит пофантазировать. Но однажды Ирена рассказывала о каком-то русском партизане из своего отряда на Подгале. И тогда Юрек вмешался в разговор: — Это ты о том черном Сашке? Ирка удивилась, но сын так подробно его описал, что не оставалось сомнения: он его знал… — Не дождался, — сказал тогда Юрек. — Немцы забили его прикладами в подвале дома в Кальварии… Узнали мы также, что он принимал участие в Варшавском восстании, был связным. Еще 1 августа 1944 года был он дома, а потом, никому ничего не сказав, пропал. Кто-то сообщил нам, что после восстания видели его в Модлине. Нас вывезли в Краковское. Муж работал у крестьянина. Я немного шила. Все это время искала Юрека. Однажды пошла я в Енджеюв. И вдруг на воротах увидела листок: «Ежи Сковроньский ищет мать». И ничего больше. Ни единого намека, где его искать, что делать… Я расплакалась. Собралась толпа женщин. Тогда люди оказывали больше сочувствия друг другу, каждый искал кого-то из близких. — Как его отыскать? — плакала я. И тогда заговорила какая-то женщина: — Пани, а это не он такой маленький, черный, как цыган? Немного говорит по-немецки. Если это он, то я его знаю, он спас много людей… — Пани, дорогая, где он? — встрепенулась я. А она рассказывает: — Он ночевал вместе с нами, когда пришли жандармы с облавой. Он что-то объяснял старшему и так его просил, что офицер рассмеялся, махнул рукой, и они ушли… Теперь я была уверена, что это мой Юрек. Оказалось, что он оставил у уборщицы свой адрес. Поехали мы вместе с мужем в Тынец. Это была большая деревня. Показали нам избу хозяина, где жил Юрек. Он как раз был во дворе. Раскинув руки, сын бросился ко мне: — Мамуня, моя мамуня!.. Но потом, когда мой старый сказал: — Ну, собирайся с нами, достаточно мы жили в разлуке, — мальчик отрицательно покачал головой. — Почему? — расстроился отец. — Я не могу бросить работу. — А где ты работаешь? Хозяин тебя отпустит, я попрошу его. Мальчик посмотрел на отца: — Не надо, татуся! Я работаю на… аэродроме. И больше ничего нам не сказал. Я уговаривала его, просила: — Не ходи никуда, может быть, благополучно переживем войну. Он обнял меня: — И так переживем… Пришла наша армия, и весной мы вернулись в Варшаву. Я думала: ну вот, наконец-то я могу быть спокойна. Но Юрек и на этот раз не долго жил дома. Снова исчез, потом вернулся и опять уехал. Я плакала, отец сердился… И опять прибежал какой-то сосед с новостью: — А ведь ваш Юрек в армии! Оказывается, видели его в солдатском мундире. Пошла я однажды вечером к соседям поговорить. Тяжело мне было, я постоянно думала о мальчике. Начала жаловаться им: — Может, он там голодный, может, ходит в грязном белье. И именно в этот момент отворились двери, и вошел мой сын. А некоторое время спустя шла я полем к знакомым, чтобы сшить кое-что на машине. Любила я эту работу. И вот кто-то кричит: — Сковроньская, сын приехал в отпуск!.. Прибежала я домой, усталая, запыхавшаяся, а мой Юрек радуется: — Мамуся, я привез тебе подарок! Сестрам по платью, а тебе… Это была швейная машина! …У него уже тогда была медаль. Русская. Мы прочитали: «За победу над Германией»… Сын рассказывал, что служит в автороте, что у него все хорошо… Отец был, однако, недоволен. — Пора учиться! Хватит с тебя этой цыганской жизни. Тебе нужна книжка, а не винтовка! У тебя еще будет время носить мундир! Старый грозился пойти в часть, к командиру. Но Юрек и на этот раз сумел его переубедить. Ах, отец, и зачем ты ему уступил?.. Была пасха 1946 года. Третий день праздника — последний день его отпуска. Помню я, как он уже было пошел — и вернулся еще раз. Потоптался нерешительно, будто хотел что-то сказать. — Послушай, оставайся дома, — снова начал отец. А он ответил на это: — Не могу, татуся, не могу так просто не поехать и остаться… Я была готова расплакаться. — Это ведь армия. Война еще продолжается — надо ликвидировать банды… Если не вернусь из отпуска, придется мне отвечать. Я — солдат. И пошел… Муж и старший сын молча проводили его. Вскочил он на грузовик. Я кричала ему вслед, но он не оглянулся. Наверное, не слышал. Было ему тогда пятнадцать лет… А потом пришло это известие… Не много я помню из того, что было дальше. Дорога в полк, стоявший во Вроцлаве. Прощальный залп…
Теофил Урняж КАВАЛЕР КРЕСТА ХРАБРЫХ ПЛАЧЕТ
Колонны машин, тянувших за собой орудия, медленно продвигались лесными дорогами. Машины часто останавливались, и тогда из них выскакивали солдаты, оттаскивали валявшиеся на дороге стволы деревьев, засыпали вырытые окопы. А саперы тем временем разминировали многочисленные ловушки на дороге. В который уже раз за эти дни 61-й зенитный артиллерийский полк вновь менял свое расположение, спеша на помощь пехотным частям, которым угрожали неожиданные фланговые удары больших немецких танковых групп. Уже, наверное, третьи сутки слышна была со всех сторон оглушительная артиллерийская канонада — признак того, что атакованные на марше дивизии и полки 2-й армии не дрогнули под этим внезапным ударом, что они сражаются, организуют повсюду круговую оборону. В этих боях зенитчики исполняли роль своеобразного противотанкового резерва. Они отражали не только атаки с воздуха, но были и там, где части пехоты или тыловые части не могли справиться с массированным ударом немецких танков. Артиллеристы направляли стволы своих зенитных орудий и прямой наводкой уничтожали десятки гитлеровских «тигров» и «пантер». Сейчас 61-й полк, покоряя лесное бездорожье, спешил на новое место сражения. В тылу, за колонной орудий, продвигались штабные машины. Сидевший рядом с водителем молоденький сержант взглянул на карту. Оказывается, они проехали уже больше половины пути. Осталось, значит, еще километров двадцать. Дорога в этом месте выходила на небольшую поляну и опять пропадала в лесу. Машины впереди пошли быстрее. Перед ними на расстоянии, быть может, метров двадцати пяти, шла отмеченная красным крестом машина медсанбата. Впереди ехал грузовик подразделения связи. Санитарная машина была переполнена ранеными, поэтому санитарка, всеобщая любимица, ехала на этот раз со связистами, которые усадили ее на большой катушке кабеля. — Что-то здесь, по-моему, слишком спокойно… — ворчал себе под нос водитель машины. — Я тебе говорю, сынок, мне это не нравится. Где все эти немцы? Помни, в случае чего выскакивай из машины — и к деревьям! Здесь нам негде укрыться… Сержант пропустил мимо ушей это замечание. К «тыканью» он уже привык. Исполнилось ему шестнадцать лет, и был он самым молодым солдатом во всей 3-й дивизии. Нашивки сержанта значили здесь не много, поскольку большинство солдат в его полку были, по крайней мере, в два раза старше его, а водитель, с которым он сейчас ехал, был даже с сединой. Поэтому все говорили ему «сынок», и сержант Веслав Одовский вовсе на это не обижался. Зато считал, что обстрелян он получше многих солдат дивизии, и не любил, когда кто-нибудь проявлял о нем особую заботу. Тем не менее все, начиная от командира полка и кончая старшиной батареи, считали своей обязанностью оберегать его от опасности. Вот хотя бы сейчас: все едут себе спокойно в колонне, а водитель поучает именно его, сержанта, как надо себя вести, если их атакуют немцы. Во-первых, немцы не атакуют. Впереди ведь идет охранение, а следом — главные силы. Слишком большой это отряд, чтобы какая-нибудь группа гитлеровцев рискнула напасть на него. А во-вторых, сколько еще будут его считать здесь мальчиком, о котором всегда и всюду надо заботиться!.. Они доехали до середины поляны. Передние машины уже одна за другой исчезали за темной стеной леса. В этот момент шофер резко нажал на тормоз: прямо перед машиной взлетели фонтанчики земли и грязи. — Немцы! К деревьям! Только теперь они расслышали где-то в стороне треск автоматных очередей. Из машин прямо на ходу выскакивали солдаты и укрывались под деревьями. Веслав даже не помнил, как выскочил из кабины и бросился под ближайшее дерево. Огляделся. На опустевшей поляне осталось лишь несколько машин: их большой штабной фургон, а перед ним санитарная машина и грузовик связистов… Что это? На грузовике все еще сидит Наташа! Веслав видел ее несколько удивленное лицо и пряди волос, выбившиеся из-под берета. Почему она осталась там? Немецкие пули дырявили борта машин, не щадя и грузовика с красным крестом. Когда перестрелка наконец затихла, все бросились к санитарной машине, где были оставлены раненые. К счастью, никто не пострадал. И тогда кто-то крикнул: — Наташа! На грузовике связистов в той же позе, неподвижная и бледная, все еще сидела Наташа. И не отвечала на крики солдат. Только сейчас все увидели, что в уголке ее рта застыла струйка крови. Девушка была мертва… Солдаты уложили Наташу, прикрыли одеялом, и машины тронулись дальше. Беззаботное настроение улетучилось. «Наташа! — думал Веслав. — Почему? Почему именно эта молодая, любимая всеми девушка?» — Война! — произнес седовласый водитель, будто читая мысли юноши. — А ты, сколько тебе лет и сколько уже повидал?! И еще немало увидишь, пока дойдем до Берлина…3-я зенитная артиллерийская дивизия переживала горячие дни. Она отражала воздушные и танковые атаки немцев, ее подразделения постоянно находились в движении. Случалось, что на огневых позициях оставалось по пять — десять снарядов на орудие. Солдаты забыли, что такое отдых и сон. Шестнадцатилетний сержант старался не подать вида, что сильно устал. Когда требовалось, он сам садился за баранку грузовика и ехал за снарядами. Исполнял роль связного между штабом и батареей. Случалось, в сумерки или на рассвете уходил с разведчиками. Он всегда добровольно вызывался идти на задание и был безмерно счастлив, когда старшие по званию одобрительно говорили: — Хорошо, сынок, иди! Это были дни, когда никто в дивизии не щадил себя.
В тот день колонны двинулись в путь на рассвете, за ними выехали на новые позиции и штабные машины. Сержант Веслав Одовский сидел, как обычно, рядом с водителем. В кузове, на горе ящиков с документами, — штабной писарь. Неожиданно забарахлил мотор. Пришлось съехать на обочину и пропустить остальные машины. Водитель, ругаясь, остановил машину и начал копаться в двигателе. Веслав стал помогать ему. Писарь тоже выбрался из машины. Остановка затянулась. Маршевая колонна обошла их уже на добрый час пути, а они все еще стояли в поле, около леса. Вдруг над их головами засвистели пули. Они схватили автоматы и залегли за машиной. Немцев, скрывавшихся среди деревьев, было по крайней мере человек двадцать. А у водителя, писаря и Веслава боеприпасов только то, что имелось в дисках автоматов. Запасные остались в машине, по которой непрерывно строчили немцы. Перебегая от дерева к дереву, они настойчиво приближались. И ничего удивительного. Им выпала немалая удача — штабная машина. А обороняющиеся были отрезаны от нее. — Окно! — догадался Веслав. — Ведь есть же окно! В квадратном фургоне сбоку было маленькое, узенькое оконце. Казалось, что никто не смог бы пролезть через него в машину. — Один прикроет меня, — решил сержант, — а другой подсадит. Должно получиться! Все это Веслав Одовский произнес решительно. Это было не простое дружеское предложение, а приказ командира подчиненным. Поддерживаемый водителем, он выбил прикладом автомата стекло, затем протиснулся внутрь. Минуту спустя из окошка полетели запасные диски. Теперь у них было чем обороняться. Но надолго ли? Они берегли патроны. Очередями стреляли только в том случае, когда немцы подходили совсем близко. Прошел час, может быть, два. Немцы высыпали из леса и бросились в атаку. У обороняющихся кончились патроны. — Документы! Документы в машине! — вспомнил писарь. — Ничего, не волнуйся, последнюю очередь — в бензобак машины! И в этот момент, когда казалось, что положение безвыходное, раздался стук пулемета, и с другой стороны леса прямо на напирающих гитлеровцев вылетел советский бронетранспортер. Немцы бросились бежать. Сержант, водитель и писарь вместе с советскими солдатами, пришедшими им на помощь, осмотрели поле боя. Среди десятка убитых гитлеровцев один был в офицерском мундире. Советский лейтенант отстегнул у него кобуру с «вальтером». — Кто у вас здесь командир? — спросил он польских солдат. — Он! — Водитель и писарь одновременно показали на молоденького сержанта. — Держи, доблестный командир! — улыбнулся лейтенант и протянул Веславу пистолет. — Это твой военный трофей. Ты его заслужил по праву… Водитель бронетранспортера заглянул под капот их машины, а затем молча достал буксирный трос. Так на буксире и довезли их до самого штаба. Два месяца спустя в солнечное июньское воскресенье на казарменном плацу состоялась торжественная церемония. В большом каре стояли все подразделения 3-й дивизии. Командир поблагодарил солдат за мужество, за солдатский труд, за вклад, внесенный ими в победу над гитлеровскими захватчиками. На покрытом красным сукном столе отливали золотом и серебром боевые награды. Первой зачитали фамилию Одовского. Перед строем всей дивизии командир прикрепил шестнадцатилетнему сержанту Крест Храбрых и крепко расцеловал юношу. А у того впервые за многие месяцы в глазах стояли слезы. Слезы, которых он не стыдился, хотя все смотрели на него. Он уже забыл об эпизоде со штабной машиной, за что он сегодня получил награду. Потому что и в полку, и в дивизии после этого произошло так много всего. Погибло столько его фронтовых друзей. Погиб и командир полка майор Прокофьев, который постоянно окружал его такой сердечной заботой. Майор находился на позициях одной из зенитных батарей, когда спикировавший гитлеровский самолет сбросил прямо на них связку гранат. Сержанта Одовского, самого молодого из подофицеров дивизии, в день похорон майора назначили командиром траурного эскорта. Веслав стоял сейчас на утопающем в солнце и в море красно-белых флагов большом казарменном плацу с Крестом Храбрых на груди. От волнения сжимало горло. Все смотрели на него, а он не мог выдавить из себя ни одного слова. — Ну, сынок! — подбодрил его командир дивизии. — Во славу Родины, гражданин полковник! — произнес он наконец. Сделал, как полагается, поворот кругом и возвратился на свое место в строй… Два дня спустя сержант артиллерии Веслав Одовский ехал в свой первый солдатский отпуск к матери, в Варшаву. Переполненный поезд тащился невыносимо медленно. Есть время подумать. Вот уже год прошел с того дня, когда он тайком от матери сложил рюкзак и оставил на столе записку: «Мамочка, я должен был так поступить. Иду туда, куда призывает меня Родина. Не сердись. Жди!» Сколько же ему в ту пору было лет? Пятнадцать. А сейчас ему казалось, что он повзрослел за это время лет на десять. Крадучись, выбрался он тогда из своей варшавской квартиры на Кошиковой улице без всякого, по существу, плана, не имея никакого адреса. В коротких штанишках, с набитым рюкзаком за плечами и с одной-единственной мыслью в голове: во что бы то ни стало попасть в какой-нибудь партизанский отряд. На вокзале он купил билет до Кельце. Он выбрал этот город, потому что в Варшаве постоянно говорили о келецких лесах и о вооруженных отрядах, которые сражаются там с немцами. Но когда он приехал в Кельце, то не знал, что предпринять дальше. До сих пор помнит он ту ночь, что провел в зале ожидания вокзала. Разбудила его воздушная тревога. Когда он проснулся, то обнаружил, что рюкзака нет. Кто-то вытащил его у него из-под головы. Тогда он разозлился. Притаился в темной нише и принялся ждать, И дождался. Через некоторое время он увидел мужчину, который шел с его рюкзаком к выходу. Веслав налетел на него, ударил в живот. — Отдай! Тот бросил рюкзак и убежал. Веслав до утра просидел на скамье. Больше не спал. Все смотрел: может быть, этот из партизанского отряда, а может, этот? Наконец подсел к группе сверстников. — Хлопцы, — сказал он прямо, — я хочу в лес. Не знаете, куда идти, к кому? Они посмотрели на него, на его рюкзак. — Мы ничего такого не знаем, — пробормотал один из них. — Но если уж очень хочешь, то ищи. Поезжай в лес. Хотя бы в сторону Сташува. И он поехал. Несколько часов трясся по узкоколейке в толчее и давке. На каждой станции выходил из вагона, осматривался по сторонам и вновь возвращался. Партизан не было. Он купил обратный билет в Кельце. Опять приглядывался к попутчикам. Один из них показался ему очень симпатичным. Но что делать? Подойти? Спросить? Перед Кельце в вагоне возникла небольшая паника. Кто-то сказал, что на следующей станции жандармы будут у всех проверять документы. Веслав внимательно следил за молодым человеком. Видел, как тот побледнел и машинально схватился за карман. «Он!» — подумал Веслав и решил не терять его из виду. До Кельце доехали спокойно. Молодой человек вышел вместе со всеми с вокзала, огляделся и свернул на темную улицу. Веслав Одовский шел за ним, не отставая. Так они дошли до самого предместья. Мужчина вошел в маленький домик с палисадником и закрыл за собой дверь. Веслав заметил, как в окне вспыхнул свет. Он подождал немного, вошел в палисадник и тихо постучал в окно. Свет погас. Отодвинулась черная штора, и Веслав увидел в образовавшейся щели знакомое лицо человека из поезда. — Впустите меня на минуту, — попросил он. — У меня к вам срочное дело. Очень срочное! Минуту спустя он уже сидел в комнате и рассказывал о своих планах. — Я ученик, из Варшавы. Вот мой ученический билет. А вот мое удостоверение личности. Пожалуйста, поверьте мне!.. Молодой человек был явно смущен и взволнован. — Что мне с тобой делать, парень, — сказал он наконец. — Как бы не накликал ты на себя и на меня беды. Ничем я тебе не могу помочь. Дам только один совет: раз уж ты такой упрямый, поезжай туда, где был сегодня. Выйди на станции и иди лесом до ближайшей деревни. Спрашивай о Ендрусах. Может, и проводят тебя к ним. Но помни: мы с тобой никогда не разговаривали и вообще не знакомы. А теперь удирай, а то приближается комендантский час… И вот опять ночлег на станции и скромная еда в буфете на последние гроши. Опять узкоколейка до Сташува. Потом пешком лесом до ближайшей деревни. Он постучал в крайнюю хату: — Хозяин, Ендрусов здесь не было? Мне их обязательно нужно найти. — О каких еще Ендрусах ты спрашиваешь? — набросился на него хозяин. — Лучше не задавай глупых вопросов! Выметайся!.. — Но мне же правда нужно. Я из Варшавы. Мне даже не на что возвращаться. Я уже три дня их ищу. Хозяин внимательно его оглядел: — Слушай, парень. Если и были когда Ендрусы, то их уже давно здесь нет. Ушли, понимаешь? Иди к Оцесенкам, может, встретишь их там… Паренек послушно зашагал дальше. В следующей деревне он только начал оглядываться по сторонам, как кто-то позвал его в избу. Как же он удивился, когда среди сидевших там мужчин увидел хозяина, с которым час назад разговаривал в соседней деревне. Все мужчины были очень серьезны. — Снимай-ка рюкзак, — сказал один из них. — Покажи, что у тебя там? И давай документы!.. Рюкзак был внимательно осмотрен. Документы тоже. — Пока побудешь здесь, — сказал один из мужчин. — Переночуешь, а потом решим, что дальше делать. Разбудил его шум голосов в другой комнате. Он ясно слышал голос хозяина, того, из соседней деревни: — А я вам говорю, что это честный парень. Ученик из Варшавы. Он ищет нас, а как ему еще искать? — Ладно, пусть спокойно выспится, а утром — в отряд! — произнес другой, зычный голос. — Позаботится о нем капитан Декан. Веслав облегченно вздохнул. Попал туда, куда требовалось. Вот так в деревне Оцесенки началась партизанская эпопея пятнадцатилетнего Веслава Одовского с Кошиковой улицы в Варшаве. В отряде ему торжественно вручили винтовку. Отряд назывался «Грюнвальд». Командовал им майор Юзеф Собесяк (подпольная кличка Макс). Командиром батальона, в который определили Веслава Одовского, был капитан Декан. Веслав был самым младшим в отряде. Партизаны, казавшиеся такими суровыми при первом знакомстве, теперь относились к «пареньку из Варшавы» с большой сердечностью. Они же научили его дисциплине. Как это тогда произошло? Взял он потихоньку винтовку и горсть патронов и зашагал в лес, чтобы самостоятельно потренироваться в стрельбе. Ему казалось, что он отошел достаточно далеко, чтобы в партизанском лагере не слышно было выстрелов. Возвращался он довольный, так как стрельба, по его мнению, прошла на пятерку. Тем временем в лагере была объявлена тревога. Когда он вернулся, его повели к командиру батальона. — Это ты стрелял? Веслав не умел врать. Он покраснел, но боялся признаться. — Я? Откуда? Я ничего не слышал… — Покажи свою винтовку! Командир понюхал ствол. — Так! — сказал он. — Тревога отменяется! Это он поднял нас на ноги. Что с ним сделаем? Все с упреком смотрели на парня. Он чувствовал себя, как пригвожденный к позорному столбу. Но его не выгнали из отряда. Дали ему три наряда вне очереди. Так протекали первые партизанские дни Веслава Одовского. Учился владеть оружием, ходил в дозор. Когда партизаны отправлялись на очередную боевую операцию, он оставался в отряде. Пятнадцатилетнего парнишку из Варшавы явно оберегали. — Придет и твое время, — говорили, — подожди. Как он был горд, когда однажды послали его на разведку в Сташув! — Пусть тебе не кажется, что это так уж неопасно, — сказал ему капитан Декан. — Поедешь без оружия и без документов. Смотри в оба, не напорись на патруль… Задание Веслав выполнил успешно. Следующее было уже более боевым. Он должен был участвовать в освобождении заключенных. Проведение операции назначили на послеобеденное время. Около тюрьмы протекала речка, и часть охранников купалась там. Именно по ним в первую очередь партизаны открыли огонь. Но застать противника врасплох не удалось. Остальные охранники оказались вооруженными, а купавшиеся быстро выскочили из воды и укрылись за стенами тюрьмы. Завязалась перестрелка. Веслав, спрятавшись за деревом, старался целиться как можно точнее, но чувствовал, что весь дрожит от возбуждения. В этом бою было убито несколько гитлеровцев, но и отряд понес потери. Освободить заключенных не удалось.
Случилось это, кажется, в августе, когда отряд как раз остановился в Оцесенках. В центре деревни неожиданно появился танк, выехавший из леса. Немцы? Нет. На танке была нарисована красная звезда. Из него выскочили советские солдаты. Оказалось, что это разведчики, проникшие сюда с самого сандомирского плацдарма. Командир отряда сразу же увел к себе экипаж на совещание. Разложили на столе карты… Час спустя танк уехал обратно. Как он добрался сюда и благополучно ли вернулся к своим — никто не знал. Ведь повсюду были немцы. А на следующий день майор Макс собрал всех партизан и сообщил, что отряд будет пробиваться в Люблин, где с 22 июля 1944 года существует Польский Комитет Национального Освобождения и где формируются новые части регулярного народного Войска Польского.
Прошли они успешно. Как называлась та местность? Руры-Езуицке. Да, Руры-Езуицке под Люблином. Там отряд был распущен. И именно там формировались первые части 3-й зенитной артиллерийской дивизии. Первым в нее добровольно вступил Веслав Одовский. В полном смысле этого слова — первым. 61-й зенитный артиллерийский полк имел уже частично сформированные офицерские кадры, в основном из советских офицеров, и — ни одного солдата. Пятнадцатилетний варшавянин оказался, таким образом, первым солдатом создавшейся части. В октябре он уже носил нашивки капрала.
Первые солдаты, первые транспорты с оружием и снаряжением: 37-мм зенитные пушки, 12-мм зенитные пулеметы, радиостанция, машины. Веслав мечтал перейти из штаба к связистам. Но командир полка майор Прокофьев, тот самый, который в апреле был похоронен с воинскими почестями на немецкой земле и которого он всегда будет помнить как своего армейского отца, не разрешал ему этого. — Нет, мальчик, — сказал тогда майор Прокофьев. — Останешься с нами. Здесь ты будешь в большей безопасности. А к тому же кто будет нас учить твоему языку? Мы служим в Войске Польском и должны знать польский язык. Ты нас будешь учить. Заботливыми и сердечными были эти советские командиры. Как это было тогда, в январе, когда до Люблина дошла весть об освобождении Варшавы? Вызвал его майор Прокофьев и сказал: — Послушай! Варшава свободна! Там, наверное, твоя мама. Думаю, тебе хочется узнать, что с ней? Я уже отдал приказ капитану Синаеву. Возьмите машину и вместе поедете в Варшаву. …Как же длинна тогда была для него дорога! С каким беспокойством смотрел он с пражского берега на укутанные снегом руины города! Долго стояли они тогда перед единственным понтонным мостом, прежде чем переехали на другой берег. — А теперь показывай, — сказал капитан Синаев. Но Веслав не узнавал ни улиц, ни домов. Он сам не знает, как доехали они до улицы Эмилии Плятер, а потом и до Кошиковой. С бьющимся сердцем высматривал он уцелевшие дома среди руин и пепелищ. Его дом стоял нетронутый. Как обезумевший взлетел он вверх по лестнице. Толкнул дверь. Она была не заперта. В квартире пусто. Разбросанные вещи, перевернутая мебель. Напрасно искал он какой-нибудь записки, какого-нибудь признака жизни. Ничего не было. В отчаянии он принялся стучать во все соседние квартиры. Всюду в ответ ему — глухое молчание. Дом был мертвым, как был мертвым и весь его родной город. И вдруг открылась дверь квартиры, где жил раньше Мечислав Фогг. В дверь выглянула какая-то старушка. Оказалось, этодомработница артиста, которая сумела уже вернуться в Варшаву. То, что он от нее узнал, было малоутешительным. Еще до восстания здесь побывали немцы и арестовали всю его семью. Маму тоже забрали. Капитан Синаев почти силой увел его тогда из дому. Тот самый капитан Синаев, который уже после боев под Будишином вызвал его к себе и сказал: — Надень сегодня свой парадный мундир, начисть ботинки, как на большой праздник, — и протянул ему письмо от матери. Значит, она жива! И вот он снова едет в Варшаву. Как долго тащится этот поезд! Когда он наконец доедет? Запыхавшись, бежит он по знакомым ступенькам дома на Кошиковой улице. Останавливается перед дверью. Стучит. Мама! Шестнадцатилетний сержант артиллерии с Крестом Храбрых на груди плачет.
Небольшая, уютная вилла в поселке радистов под Варшавой. Мы с Веславом Одовским сидим за кофе. На столе — памятные фронтовые фотографии, среди них маленький портретный снимок шестнадцатилетнего паренька в форме сержанта с прикрепленным к груди Крестом Храбрых. Именно эту фотографию прислала когда-то в нашу редакцию жена Веслава Одовского. Фото и письмо, в котором сообщала нам — в полной тайне от мужа — о его фронтовой дороге и спрашивала, не должны ли мы — по нашему мнению — внести его в список «сыновей полков», потому что муж ее очень скромный человек и сам нам не напишет. Да, минуло уже 25 лет. Веслав Одовский сегодня работник ведомства связи — техник радиостанции, офицер запаса. Дом, семья, служебные дела. В соседней комнате сидит над книжками дочь — Божена. Недавно ей исполнилось шестнадцать лет.
Теофил Урняж ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С Мареком я познакомился во время отпуска в Августове. Ему было тринадцать лет, и приехал он туда на каникулы вместе с отцом, офицером-летчиком. Усадили нас за один стол. Мы быстро подружились, и в первый же вечер он несмело пригласил меня присутствовать при спуске на воду парусника. Парусник был красивый и мог, по-моему, смело занять место на любой выставке моделей. Мареку он стоил многих вечеров кропотливой работы, потому что в качестве строительного материала мальчик использовал… обыкновенные спички. Несмотря на это, парусник успешно прошел первые испытания в ванне и теперь, привязанный за длинную нейлоновую нить, должен был в первый раз выйти на широкие озерные просторы. Я наблюдал, как Марек осторожно опустил свой парусник на воду и начал отматывать с катушки нейлоновую нить. Все прошло безупречно: судно набрало ветер в свои паруса и, подгоняемое легким бризом, поплыло по озеру, красиво светясь издали зелеными и красными опознавательными огнями. У Марека так и искрились глаза, и казалось, что сейчас он гордо закричит: «Ура!» Но нет. Он оставался серьезным и только на минуту повернулся к отцу. — Получилось, — сказал он. — Он все-таки плывет!.. И я подумал про себя, что майор может быть доволен своим сыном. И вдруг мне вспомнился другой мальчик, тех, военных лет.Лето 1942 года. Каникулы в Ратайях-Слупских. Четырнадцатилетний Збышек Жоховский мастерит. Книги, в которых он находит образцы для своих моделей, — это прежде всего учебники по оружию. Из-под его еще детских рук выходят точные миниатюры танков и броневиков. Нет, это совсем не игрушки. Это учебные пособия для одной из рот варшавской школы подхорунжих. Каждая модель — точная копия оригинала. Когда после каникул он сядет в поезд, то положит себе в рюкзак около десятка изготовленных моделей, а еще несколько штук запакует в отдельный сверток. Не без страха, потому что, если немцы его схватят, с ним может случиться самое худшее. В вагоне толчея и давка. Полно узлов и другого багажа, люди теснят друг друга. Много торговцев с запрятанными в мешках кусками сала и мяса. Вдруг возникает паника: на вокзале в Енджеюве облава! И действительно, весь вокзал заполнен жандармами. Всем приказывают выходить. — Документы! Аусвайс! Збышек несмело протягивает школьное удостоверение. Может быть, его все же не задержат? Может быть, разрешат уйти? Но тщательно упакованный рюкзак кажется жандармам подозрительным. — Вас ист дас? Шпик? Грубая рука жандарма толкает мальчика в сторону стоящих рядом солдат железнодорожной охраны: — Отвести! Проверить! И ведут его, всего мокрого от страха, на вокзальный пост. — Ну-ка, покажи, что у тебя там? — Да ничего такого, игрушки!.. Он торопливо развязывает сверток и показывает несколько миниатюрных броневиков. — Прекрасно! Прекрасно! — хохочут немцы. — Это пригодится нашим ребятам. Пошлем им в Берлин! У тебя только это? А сало? Оставь эти игрушки и дуй к поезду! Они уже не приказывают ему распаковывать рюкзак. Выпускают его через другой ход на перрон. Удалось! А вот если бы они заглянули в рюкзак и увидели там еще модели танков, то наверняка такое их количество могло показаться этим охранникам подозрительным!.. Отец в это время уже был для Збышека фигурой мифической. Расстались они в августе 1939 года. Возможность войны уже была очевидной, и капитан Эдмунд Жоховский, который нес тогда службу в дивизионе морской авиации в Пуцке, отослал жену с сыном к родственникам, в глубь страны. Ну, а потом, когда нападение гитлеровцев стало фактом, Збышек только в своем воображении видел отца сражающимся там, на Побережье: как он ведет солдат в бой, отдает приказы; видел его таким, каким помнил по казармам и учебному плацу. Воображение отказывалось рисовать только одну страшную картину: отца, отдающего гитлеровцам оружие и сдающегося в плен. А тем не менее отец его пережил эту ужасную минуту. Выросший в военном окружении, Збышек все свое детство провел в казармах, на учебном плацу и полигонах, Это были его места для игр. Он любил находиться среди солдат, наблюдать за ними во время занятий. Там, в Пуцке, он уже ходил со своими сверстниками на стрельбище и стрелял из винтовки не хуже солдат. Еще сохранилось у него в памяти пребывание в предыдущем гарнизоне: в брестском форте. Танки, направлявшиеся на учения, проходили под самыми окнами их дома. Уже там он неуверенной, еще детской рукой зарисовывал танкетки и броневики, оттуда вынес он свою любовь к боевой технике. Там под наблюдением отца начинал он мастерить, создавая свои первые модели боевых машин. В Пуцке он знал каждый самолет морского дивизиона, безошибочно различал типы самолетов, знал достоинства и недостатки сильно устаревших «летающих лодок» французской конструкции, дружил с летчиками и механиками. Но любовь к танкам осталась. Однако поскольку отец, получив назначение в Пуцк, увлекся работой в дивизионе морской авиации, то и он старался жить его интересами. Отца он очень любил. Считал его самым лучшим, самым благородным человеком. Отец был для него образцом солдата и патриота. Это отец учил его, что патриотизм должен проявляться в поступках; что для Польши, для Родины каждый обязан отдавать все силы, а если возникнет необходимость — то и жизнь. Помнил он саблю отца и надпись на ее клинке: «Честь и Родина». Чем больше стирались в его памяти образы тех лет, тем сильнее работало воображение. И мальчик поклялся себе: «Буду всегда поступать так, чтобы отец мог мною гордиться…» Сколько раз рисовал он себе возвращение отца: кто-то стучит в дверь, он открывает. Отец! Они бросаются друг другу в объятия, отец сердечно обнимает его, как настоящего мужчину, и говорит: — Благодарю тебя, Збышек! Меня с тобой здесь не было, но ты вел себя, как подобает поляку и сыну солдата… Это была мечта, похожая на мечты тысяч детей войны, которых гитлеровское нашествие на Польшу лишило родного дома и детства. Но вместе с тем из этих детских мечтаний родилось сознание того, что ничто не изменится до тех пор, пока по улицам Варшавы и других польских городов будут ходить гитлеровцы. Необходимо прогнать фашистов с польской земли! Кто должен это сделать? Конечно же — все поляки! В каждом доме только об этом и говорили! Збышек Жоховский тоже подхватывает эти разговоры взрослых, переводя их на свой язык, впитывает каждое слово о Польше и о борьбе с оккупантами. Быстро, очень быстро взрослеют дети в военное время.
Год 1940. Тринадцатый год жизни Збышека Жоховского. Варшава, район Жолибож. Улица Дыгасиньского, квартира подруги матери пани Олендер, муж которой находится в лагере военнопленных. Первое пристанище после почти годового скитаниях места на место. На год старше Збышека Бася Олендер (подпольная кличка Мышка), а уже распространяет листовки. Збышек ей помогает. Вместе с ними бегает сестра Баси, десятилетняя Магда. В августе 1944 года они обе будут связными во время Варшавского восстания, а Збышек сейчас тоже еще не знает, что и ему очень пригодится впоследствии знание жолибожских улиц и переулков, потому что именно здесь ему, шестнадцатилетнему подхорунжему, придется участвовать в боях с гитлеровцами.
Год 1941. Каникулы где-то в келецкой деревне, организованные в порядке помощи семьям военных. Первые открытия: четырнадцатилетний сын хозяина, Юзек, уже служит связным отряда; в келецких лесах идут бои и стычки с немцами. Юзек осторожно открывает Збышеку некоторые тайны. — У нас сегодня задание, — говорит он однажды. — Надо сходить в соседнюю деревню и посмотреть, нет ли там немцев. Пойдешь со мной? В другой раз они лежат у шоссе, километрах в двух от деревни, и считают проходящие машины, записывая их номера. Кому потом передает Юзек эти донесения, этого он Збышеку не скажет. Тайна. Но в сознании Збышека запечатлевается, что здесь, в деревне и в округе, уже что-то происходит и что даже такие, как он, совсем мальчишки, здесь уже на что-то годятся. Однажды вечером заходит к ним в дом высокий худой мужчина, уже с сединой, но статный и подтянутый. Таинственный незнакомец долго разговаривает в соседней комнате с хозяином, а потом с мальчиками. — Знаешь, кто это был? — доверительно скажет потом Юзек. — Это был сам командир отряда! Только ты — рот на замок! Ничего не знаешь, никого не видел!.. И снова Варшава, но уже не Жолибож, а улица Виляновска, где пани Ирена Жоховская нашла небольшую отдельную квартирку. Коммерческое училище на Вильчей улице. Новое окружение, новые друзья. Самая большая привязанность тех лет — Зенек Дмоховский, на год старше его. И постоянно не дает покоя мысль: «Если столько уже делается в обычной келецкой деревне, должно же что-то делаться и в Варшаве. Надо только установить связи…» У них с Зенеком общий язык, оба одинаково любознательны. Но Зенек давно живет в Варшаве, у него больше знакомых. Однажды он влетает к Збышеку с таинственной миной на лице: — Взвод «Вестерплятте»! Устраивает? Тебе, правда, только четырнадцать лет, но они мне сказали, что примут. Я поручился за тебя!.. Потом чья-то конспиративная квартира. Несколько совершенно незнакомых лиц, во рту пересохло, горло перехватило от волнения. — Клянусь!.. Первые занятия по военной подготовке: уставы, изучение оружия. Сколько раз видел он в детстве такие занятия с солдатами в Бресте, а потом в Пуцке! Тогда это выглядело совсем иначе. Сколько времени отводилось на проработку каждого предмета! А сейчас они вынуждены собираться тайно, каждый раз в новом месте. Кто-нибудь из инструкторов в портфеле или футляре от скрипки приносит оружие, которое надо сразу же вернуть. А как редки занятия на местности! Они выезжают группками, например, до Вилянува или на Беляны, а иногда до Легионово, где расположена венгерская часть. Добродушные венгры разрешают мальчишкам даже иногда пострелять на настоящем стрельбище. В стрельбе Збышек самый лучший. Была ведь небольшая практика в Пуцке!..
Четырнадцать лет: учеба в школе, конспирация, военные занятия. Вечером, после комендантского часа, Збышек мастерит дома. Зенек Дмоховский тоже мастерит с увлечением, и они часто работают вместе, но даже Зенек не знает, кому Збышек передает потом эти красивые миниатюрные танки и броневики. А Збышек установил контакт с 8-й ротой подпольной школы подхорунжих Армии Крайовой. Этот контакт он целиком относит за счет своих способностей модельщика. В школе подхорунжих большая потребность в макетах танков. Тем более, что его модели полностью отвечают оригиналам. Збышек даже отважился пойти в немецкий книжный магазин и… подписаться на несколько военных журналов, в том числе на ежемесячный журнал «Танковые войска», журналы по саперному делу и кое-какие другие. И — о диво! — подписку у него приняли. Правда, теперь ему приходится усидчиво работать, чтобы углубить свое знание немецкого языка, но зато в этих журналах он находит столько нужных материалов, даже схемы минирования дорог, мостов и железнодорожных путей, которые так необходимы. Находчивость и работоспособность прокладывают ему дорогу в школу подхорунжих; но все же ему с большим трудом удается убедить командование 8-й роты, что в свои четырнадцать лет он может быть принят в эту школу. Наконец выносится решение: принять в качестве вольного слушателя! Пусть даже сдает экзамены, но с назначением в отряд должен будет подождать. Возражения обоснованы: в школу подхорунжих принимают с восемнадцати лет. Тогда он решает: «Раз по окончании школы подхорунжих мне не дадут конкретного назначения, буду и дальше оставаться во взводе „Вестерплятте“. Но никто не должен об этом знать, даже Зенек!..»
Год 1943. Окончание коммерческого училища. Основное механическое училище на площади Трех Крестов, работа на немецком электромеханическом заводе на Повисле. Первые контакты с рабочей молодежью и сознание того, что большинство тех, с кем он вместе работает, уже вовлечены в подпольную деятельность. Ему пятнадцать лет, и неважно, к какой подпольной организации, к какой группировке принадлежат его товарищи. Важно, что они думают так же, как он, что они ненавидят гитлеровцев, что подвергают себя опасности во имя одного и того же дела. Важно то, что сосед по станку, чумазый Метек, дня через два совместной работы скажет ему доверительно: — Берегись вон того мастера, он шпик! — и понимающе подмигнет. А потом сообщит: — Этому и вот этому можешь доверять, это свои люди… На заводе изготавливают предохранители, муфты, соединения и электрооборудование для немецких самолетов. И за это завод дает своим рабочим так называемый «хороший аусвайс» — документ, к которому с уважением относятся жандармы во время облав и проверок. Аусвайс облегчает передвижение по городу, и Збышека это очень устраивает. Меньше устраивает его работа на немцев. Но он вскоре убеждается, что многие работают здесь не только ради аусвайса; что на этом немецком заводе втайне изготавливаются автоматы и пистолеты и что делают это — с огромным риском — подчас такие же, как и он, мальчишки. Сознание риска возбуждает, распаляет воображение. А военная организация продолжает во всем ограничивать молодых парнишек! Они становятся все более нетерпеливыми. Столько происходит вокруг них — и все без их участия! Гитлеровцы свирепеют: стены домов ежедневно краснеют немецкими плакатами с именами расстрелянных поляков; почти каждый день на какой-нибудь из варшавских улиц раздаются залпы карательных взводов, а по городу проносятся, воя сиренами, машины с немецкими жандармами. Тюрьма Павяк переполнена, по ночам слышен стук пулеметов в развалинах бывшего гетто, ползут страшные слухи об истязаниях на аллее Шуха… И постоянно распространяются по Варшаве сведения о смелых акциях солдат подполья: отбиты заключенные на Медовой улице; совершено нападение на байк и вывезено 100 миллионов злотых — вся контрибуция, которую немцы наложили на жителей Варшавы; подразделение СА, маршировавшее по Уяздовским Аллеям, забросали гранатами и о многих других действиях… А почему они должны только ждать? — Зенек, устроим сегодня набег? — А что, устроим! Притаившись в темноте за углом какой-то улицы в центре города, в Старом Мясте, они высматривают свою жертву. Есть! Впереди идет гитлеровский солдат. Кобура с пистолетом оттягивает ему пояс. Прыжок! Збышек приставляет к спине немца кусок какого-то металла. Зенек заходит спереди и кричит: — Хенде хох! Немец послушно поднимает руки вверх. Тогда Збышек одним взмахом ножа срезает у него пистолет с кобурой. Опять прыжок — в пролом в стене, потом знакомые проходные ворота. Они уже на другой улице. Удалось!.. Такие самовольные действия решительно запрещаются организацией и рассматриваются как неподчинение. Збышек знает, что, если об этом узнают, он в тот же день вылетит из школы подхорунжих. И все же не может удержаться. Хватит с него этого ожидания! Все более нетерпеливой становится вся варшавская молодежь. Поздняя осень, а может быть, уже и зима 1943/44 года. Збышек уже сдал экзамены в школе подхорунжих. Все его поздравляют. Потом приглашают на торжественное вручение дипломов. Какая-то квартира на Белянской улице. Группа высших офицеров Армии Крайовой, среди них Радослав и Тур, и они — лучшие ученики своих курсов. Среди приглашенных гостей находится и мать Збышека Ирена Жоховская. Диплом Збышека — погон, обшитый белым и красно-фиолетовым шнурком подхорунжего. И опять ему говорят: исполнится тебе семнадцать лет, тогда получишь звание и направление в отряд. Ждать этого уже недолго. Збышек быстро подсчитывает, когда это будет: как раз 2 августа. И с той поры ежедневно зачеркивает в своем календаре дни, отделяющие его от этой даты.
Июльский вечер 1944 года. Збышек зачеркивает в этот вечер еще один день в своем календаре. Осталось всего несколько дней… Уже миновал комендантский час. Город кажется пустым и тихим. Никто не опускает черных штор на окнах и не зажигает света. После жаркого дня все окна открыты. В тишине вечера откуда-то далеко из-за Вислы доносится ясный гул орудий. — Уже недолго осталось! — говорит Зенек, и Збышек думает так же. В течение этого дня они отвозили в Саксонский парк и на Французскую улицу оружие, добытое у немцев. Некоторое время тому назад командир взвода «Вестерплятте» дал им официальное разрешение добывать оружие, которое затем надо было складывать в Саксонском парке. Сегодня, направляясь туда, они едва протиснулись через мост Понятовского, так он был забит повозками, фургонами и машинами. Уже который день подряд, по вечерам, доносится с востока гул далекой артиллерийской канонады, а по улицам Праги, по всем варшавским мостам и воздушным артериям в направлении на запад, день и ночь тянутся кавалькады удирающих от приближающегося фронта фольксдойче, немецких колонистов и различных коллаборационистов, перемешавшихся в ужасном беспорядке с недобитыми частями вермахта и военных вспомогательных отрядов. Тысячи их транспортов образуют пробки на мостах, парализуют уличное движение, увеличивают панику среди немцев. — Знал бы ты, что делается на вокзалах! — рассказывает Зенек Збышеку. — Ад!.. Один поезд штурмуют тысячи — с чемоданами, сундуками, плачущими детьми. Посмотрел бы ты сейчас на эту «высшую расу»! Впрочем, им и не нужно идти на вокзал, чтобы увидеть панику среди немцев. Улица Виляновска расположена в так называемом «немецком» районе. Достаточно поглядеть на то, что творится вокруг них. Из каменного дома, в котором живет Збышек, вымело почти всех немцев. И везде по соседству такой же беспорядок… — Вот бы сейчас ударить! — размышляет вслух шестнадцатилетний подхорунжий. — Ведь это не просто бегство, это паника! Об этом же думает Зенек. И другие подростки из подполья. Об этом же думает вся Варшава. Нанести удар! Ускорить день освобождения! Но такого приказа нет. Приказано, правда, быть в состоянии боевой готовности. Дано разрешение добывать оружие. Значит, собирают оружие. А с какой целью? Известно — будет сражение! Кто-то приносит последние вести: части народного Войска Польского уже в Люблине, а советские войска приближаются к Висле!.. — Вот бы договориться сейчас! Мы с этой стороны, они — с той!.. Откуда могут знать эти молодые восторженные юноши, готовые ради Родины отдать свою жизнь, откуда может знать вся Варшава, что реакционное командование Армии Крайовой менее всего заинтересовано в том, чтобы «договориться». Для лондонского эмигрантского сборища, считающего себя единственным польским правительством, Варшава только козырь в борьбе с «коммуной», и только с этой точки зрения решают они вопрос о начале восстания: использовать настроение жителей города и жажду молодежи начать сражение, захватить Варшаву, остановить перед ней советские войска и вынудить их вести переговоры. Затем дать сражение за власть в Польше. Эти молодые восторженные юноши не могли знать, что в пылу всех этих политических интриг командование Армии Крайовой упустило самый выгодный с военной точки зрения момент для начала восстания: момент, когда паника еще парализует силы немцев в городе, когда неожиданным ударом можно захватить мосты и главные артерии коммуникаций. Приказ будет дан, когда через Варшаву на другой берег Вислы уже сумеют переправиться — стянутые сюда из Италии! — отборные дивизии СС и вермахта, которые на предполье Праги и по всей линии Вислы остановят на несколько месяцев советские войска. А пока наступление еще продолжается. Что ни ночь — воздушная тревога, все более близкие разрывы бомб. И даже днем в варшавском небе ведутся ожесточенные воздушные бои, а по Варшаве разносятся всё более волнующие вести: советские танки уже под Пустельником! Отвоцк взят! В Рембертуве уже нет немцев!.. А потом гул орудий за Вислой вдруг замолкает.
Часов в десять утра влетает к Збышеку взволнованный Зенек. — Собирайся! Мы должны немедленно прибыть на Медовую! — Тревога? — Формально еще нет, но, наверно, что-то из этого получится. Барахло оставляем пока дома!.. Они бегут к трамваю и вскоре прибывают по указанному адресу. И все-таки — тревога. В семнадцать часов они должны быть на Жолибоже, на улице Жеромского, 49. Явиться к командиру роты поручнику Кварчаному… — А оружие? — Об этом не беспокойтесь. Оружие получите на месте сбора. Есть еще немного времени, чтобы забежать домой. Збышек поспешно собирает все необходимое в дорогу. В последний момент хватает куртку из верблюжьей шерсти. Потом на бегу пишет несколько прощальных слов матери и кладет записку на стол… Сегодня 31 июля 1944 года. На месте сбора собрался уже почти целый взвод. В этом районе происходит сосредоточение группы «Зубр», в состав которой входит также рота поручника Кварчаного. В корпусах дома № 49 на улице Жеромского собралось около 250 человек. Расставлены посты. Везде образцовый боевой порядок. Сосредоточение группы происходит буквально под боком у немцев. Через несколько улиц от них, на Белянах, около зданий Центрального института физического воспитания кружат усиленные патрули жандармов. В самом институте давно расположились немецкие летчики. Кто-то говорит, что именно их группировке будет поручено захватить здания Центрального института физического воспитания. Но официально пока ничего не известно. К тому же у взвода нет оружия. Оно должно быть доставлено сюда завтра. Все располагаются на чердаке. В спешке почти никто не взял с собой хоть что-нибудь поесть, а часовые уже никого не выпускают из здания. Но настроение боевое. Уже известно: завтра в семнадцать!.. Они проводят почти бессонную ночь. Слишком все возбуждены. Как же тянутся часы и даже минуты ожидания! К тому же по-прежнему нет оружия. Наконец где-то около пятнадцати часов к зданию подъехал рикша. — Пошли! — зовет Зенек. — Привезли гранаты! Збышек засовывает себе в карманы несколько штук. Другие тоже наполняют гранатами карманы. Всем не хватило. А оружия все нет. Наконец приходит Кварчаный и объявляет сбор. — В городе возникли трудности, — открыто говорит он. — Мне только что звонили. Мы получим оружие в районе трамвайного кольца, на улице Марии Казимеры. Пойдем туда маленькими группами. Сбор у кольца!.. Збышек Жоховский знает здесь все улицы и переулки. Сегодня они кажутся ему какими-то чужими, незнакомыми. Он и его товарищи перебегают те улицы, что пошире, прячутся за оградами домов. Где-то недалеко слышна все усиливающаяся перестрелка. «Это где-то в районе улиц Словацкого и Сузина, — соображает Збышек Жоховский и смотрит на часы. — Нет еще и половины четвертого. Времени до начала восстания еще много. А уже началось! Хорошо это или плохо?» — Осторожно! — кричит Зенек и вталкивает его в какой-то пролом в стене. К трамвайному кольцу, именно туда, где назначен сбор, выезжают два немецких мотоцикла. С них соскакивают жандармы и выхватывают из-за спины автоматы. — Бежим! — решает Збышек, и они бегут в переулок. Отступают и другие юноши из их роты. Слышен треск автоматов. Но к счастью, жандармов мало, и они в создавшейся ситуации не испытывают большой отваги. Выпустив несколько очередей, они уезжают. Может быть, за подкреплением? И в этот момент из переулка появляется долгожданный рикша. Кварчаный собирает всех, торопливо раздает оружие и боеприпасы. Их совсем мало. Едва больше десяти винтовок и ни одного автомата. К тому же и винтовки и патроны — с явными следами длительного пребывания в земле, заржавевшие. — Ты оружие не получишь! Сам видишь, для всех не хватает. Збышек воспринимает это решение, как пощечину. Не получит оружия именно он, подхорунжий, лучший в 8-й роте! Но Кварчаный ведь об этом не знает. Знает только, что Збышеку шестнадцать лет, что он в этой группе самый младший. Сейчас не время торговаться: они уже должны быть у института физкультуры. Все должно было начаться ровно в пять. Но перестрелка на улице Словацкого свидетельствует, однако, о том, что неожиданного нападения, вероятно, не получится. Как выполнять задачу с десятком винтовок? Почему доставлено так мало оружия?.. — Надеть повязки! Оружие к бою! Направление — Беляны!.. Они передвигаются короткими перебежками. Те, у кого есть оружие, прикрывают остальных. Из района улицы Словацкого и площади Вильсона доносится все усиливающаяся стрельба. Рвутся гранаты, стучат пулеметы, грохочут орудия, вероятнее всего, немцы подтянули туда даже танки. В их районе пока спокойно. Вдруг из-за поворота улицы прямо на них выезжает немецкая военная машина. Збышек ясно видит сидящих на борту машины двух немецких летчиков. Они едут в полной готовности, с оружием в руках… — Гранатами! — кричит он и первым выхватывает гранату из кармана. Почти автоматически выдергивает чеку и с размаху швыряет гранату прямо под машину. Затем только грохот, дым и песок. И вот Збышек видит, что два немца лежат на земле, а шофер выскакивает в открытую дверцу и бросается прочь. Вскакивает с земли один из лежащих немцев и тоже удирает. Повстанцы стреляют им вслед, но их огонь слаб и не точен. — Что за патроны! — ворчит кто-то рядом с ним. — Четыре раза стрелял, и четыре раза осечка!.. Но Збышек не слушает. Он показывает Зенеку на лежащего около машины немца, а рядом с ним — две винтовки. — Бежим! Збышек бежит первым. Перескакивает через большую лужу и достигает машины, около которой лежит убитый разрывом гранаты немецкий летчик. Быстро хватает лежащую рядом винтовку и перебрасывает ее себе за спину. Зенек поднимает вторую винтовку, брошенную удравшим солдатом. Затем они обыскивают лежащего немца. Другого оружия у него нет. Нет и подсумка. Таким образом, хотя они и раздобыли две винтовки, боеприпасов у них — только то, что есть в магазинах винтовок. Збышек отстегивает у немца каску и надевает ее на голову. Первая схватка и первые трофеи. Трофеи, которые не вызывают ничьих протестов. Он бросил гранату, он первым был у машины. Его право!.. Они присоединяются к отряду. Со стороны института доносятся автоматные очереди. Но туда они не дошли. Все улочки, ведущие к белым стенам, которые окружают институт, находятся под огнем немецких пулеметов. Не может быть и речи о неожиданном нападении. Немцы хорошо укрылись на пунктах обороны и к тому же отлично пристрелялись. Рота залегла и издалека ведет беспорядочный огонь. Испорченные патроны подводят. Время от времени у кого-нибудь заедает затвор. Примерно двадцать повстанцев с бело-красными повязками, которые проскочили немного дальше вперед, теперь оказались отрезанными от своих. Кто-то из них вскакивает, бежит и падает, прошитый очередью немецкого пулемета. А огонь со стороны института физкультуры все усиливается. Затарахтели скорострельные орудия. Наверное, вновь выходят на шоссе танки. Итак: около десятка заржавевших винтовок против автоматов, пулеметов и танков!.. В рядах группы «Зубр» замешательство. На отдельных участках огонь все больше ослабевает. Замешательство и в роте Кварчаного, потому что треск немецких автоматов раздается уже не только впереди и на фланге, но и в тылу. Кто-то кричит, что со стороны института контратакуют немцы, кто-то другой — что немцы обходят их с тыла!.. Начинается беспорядочное отступление, во время которого солдаты с бело-красными повязками разбегаются. Одно из важнейших заданий первого дня восстания на Жолибоже — захват зданий института физкультуры, овладение находящимся там оружием и боеприпасами — не выполнено. Збышек и Зенек решают отступать улочками в сторону Вислы. Вместе с ними — небольшая группа их товарищей по роте, которая, впрочем, быстро уменьшается. Через поля и луга добираются они до улицы Камедулов. Там их останавливают мальчишки с бело-красными повязками. Они совсем молоденькие, даже, наверное, младше Збышека. — А кто вы такие, детишки? — Вот и не детишки. Мы 227-й взвод харцеров. А вы откуда идете? Они быстро находят общий язык. Оказывается, они наткнулись на целую группу, которая еще ждет оружия. Збышеку очень понравился харцерский взвод. Симпатичные пареньки — почти его ровесники! Командир, подхорунжий Адам, кажется Збышеку толковым человеком. Но они с Зенеком должны отыскать роту Кварчаного. — Пока останетесь с нами! — решает подхорунжий Адам. — Своих еще сумеете найти. — А оружие у нас не отберете? — Это трофейные винтовки? — Да, трофейные… — Мы уважаем ваше право на захваченное в бою оружие, хотя у самих, как видите, оружия почти нет. И они остались. Повалились на траву, только сейчас почувствовав усталость. Не думали даже о еде, хотя со вчерашнего дня у них во рту ничего не было. Думали только об одном: что дальше? Приказ, который пришел часа через два, поразил их: всем группам Жолибожа немедленно отходить к Кампиносу! Не многое сохранилось в памяти Збышека от той ночи: проливной дождь и невыносимо длинный переход по каким-то улочкам, стежкам и мокрому бездорожью. Все грязные и усталые. Теряют в темноте дорогу, отыскивают ее и вновь идут дальше. Глина облепила размокшие ботинки, и каждый шаг требует все больших усилий. Збышека тянет вниз закинутая за спину винтовка, голову давит тяжелая немецкая каска, ноги как деревянные. Он только время от времени смотрит, здесь ли Зенек. На рассвете они все еще находятся где-то в районе белянского аэродрома, где какой-то отряд повстанцев на левом фланге ведет бой с гитлеровцами. Из Варшавы продолжают доноситься отзвуки рвущихся гранат, грохот орудий, очереди автоматов. Наступает рассвет 2 августа 1944 года. Это наступает день, который он так нетерпеливо ждал, день его семнадцатилетия. По его еще детскому лицу текут струйки дождя и пота. На голове — большая немецкая каска. Гражданская куртка из верблюжьей шерсти заменяет мундир. По спине стучит добытая им винтовка. На рукаве — бело-красная повязка. Таким мог бы быть портрет Збышека Жоховского в день его рождения. В день, который он так ждал, вычеркивая дни в своем календаре…
Что пережил Збышек Жоховский во время восстания? Почти то же, что и другие дети Варшавы. Збышек со своим отрядом пробьется из Кампиноса назад, на Жолибож. Будет сражаться в рядах 227-го харцерского взвода. Отважно контратаковать переходящую из рук в руки баррикаду возле «Красного дома» на улице Словацкого. Потом будет сражаться в отряде Жбика, в отряде у Жирафы, на самом выдвинутом в сторону Повонзок бастионе повстанцев. Вместе со своими товарищами он будет участвовать в захвате завода Опеля на Влосьцяньской улице, организовывать засады, принимать сбрасываемые с самолетов оружие и боеприпасы. На его глазах погибнут самые близкие друзья и товарищи по оружию. Он будет каждый день слушать свист немецких снарядов и бомб, которые превратят в груды кирпича прекрасные дома Жолибожа, будет тушить пожары, будет наблюдать, как жолибожские скверы и дворы превращаются в огромные кладбища. И будет прислушиваться к отзвукам боев на Старувке и в Сьрудмесьце, где поднимаются в небо столбы огня и дыма — такие высокие, что их видно на расстоянии ста километров и город кажется одним огромным факелом. Он выйдет из восстания контуженным, и ему не придется пробиваться из Жолибожа через Гданьский вокзал в Сьрудмесьце. Не узнает он также, что такое путешествие под землей по канализационным каналам. Не познает горечи сдачи немцам позиции за позицией, когда нет оружия, когда кончаются боеприпасы и на баррикаде остаются одни только убитые и тяжелораненые. Когда группировка Жолибожа капитулирует, он будет идти, низко опустив голову, глотая слезы унижения и боли. Он сдаст оружие — и только тогда поймет, что пережил его отец, когда в 1939 году, защищая Оксыве, был вынужден капитулировать. Это рассказ не о герое, а о простом юноше, который накануне своего семнадцатилетия надел на рукав бело-красную повязку повстанца и добыл у врага свою первую винтовку. О юноше, который с детства понимал, чего от него требует Родина, и все свои мысли и поступки посвящал служению своему народу и Отечеству. Сегодня Збигнев Жоховский работает учителем географии в одной из школ Гдыни и все свое свободное время отдает молодежи.
Войцех Козлович ШКОЛАДНОЕ «БАМБИНО» — САМОЕ ЛУЧШЕЕ
Киоск с мороженым стоит на самом бойком месте Марымонтской улицы. Движение здесь оживленное, и в разгар сезона спрос на мороженое всегда высок. Самые многочисленные клиенты киоска — дети. Уже издалека видно, как извлекают они из бездонных карманов, наполненных разнообразнейшими «сокровищами» — пуговицами, пробками и кусками проволоки, — несколько мелких монет, полученных на мороженое. — Я хорошо помню, какое это было для меня удовольствие, — говорит Патер. — Кажется, совсем недавно я сам бегал чуть ли не по этим улицам за порцией «паньской корочки» или «большой школадной», когда удавалось мне выпросить у отца пять злотых, если у него было хорошее настроение или фирма «Литвак и Цибельман» давала ему, марымонтскому сапожнику, заказ на партию туфель. Я медленно ем холодное «бамбино», которым угостил меня Эдвард Патер. В этом киоске с мороженым и молочными напитками хозяйничает его жена, а он иногда приходит помочь ей. Военные раны и контузии, несмотря на то, что минуло столько лет, все еще дают о себе знать, лишая Эдварда Патера возможности заняться постоянной работой. — Шоколадное — самое лучшее, — слышу я, как советует он какому-то нерешительному подростку, которого нетерпеливо подталкивают столпившиеся у него за спиной дружки. Они, видно, из какой-то школы по соседству; уроки закончились, и вот бродят они беспорядочной, дружной гурьбой, не желая возвращаться домой в такой теплый сентябрьский день. Я пытаюсь представить себе своего собеседника — этого взрослого мужчину — учеником-подростком. Не все тогда звали его по имени. Было время, когда называли его Малый. Он и сейчас живет на своем родном Жолибоже. Даже не очень далеко от того небольшого домика на Хорыньской улице, где у его отца была сапожная мастерская. Патер даже вздрогнул от неожиданности, когда я, вместо того, чтобы попросить мороженое, наклонился к окошечку киоска и, понизив голос, произнес: — Я хотел бы поговорить с Малым… Мы медленно идем с ним по Подлесьной, оставляя с правой стороны светлое, огромное здание Гидрометеорологического института. Только оно одно возвышалось в диких зарослях привисленских кустарников, когда Эдек со своими друзьями вел здесь свои воображаемые битвы с пиратами, переплывал реку на дырявых яликах, которые казались им прекрасными пиратскими бригантинами. И в этой же зеленой чащобе не один немецкий солдат лишился своего оружия, если случалось ему легкомысленно забрести сюда на прогулку или, сморенному алкоголем, хотелось отдохнуть у реки перед возвращением в часть. Лучшим местом для таких дел была так называемая «черная дорога» — тропинка, посыпанная шлаком. А потерпевшими — чаще всего гитлеровские летчики, расположившиеся в зданиях Академии физического воспитания и бараках полевого белянского аэродрома. Подростки с Марымонта чувствовали себя в этом районе у Вислы так уверенно, что даже жандармские патрули на велосипедах не любили сюда заглядывать. Иногда, старшие специально посылали Эдека и его друзей, чтобы те, изображая бегство от полицейского патруля, завлекали солдат в зеленый лабиринт… Паренек охотно принимал участие в такого рода «развлечениях», считая их просто «шуткой» над фрицами, а не результатом сознательного выбора действий против оккупантов. Он не входил ни в какую организацию потому, что был слишком мал. Мы, медленно идем по Подлесьной. Где-то там, за поворотом улицы, — Висла. Здесь еще много зелени, но уже не той дикой, свободно разросшейся, а убранной в штакетники садиков, укрывающих виллы, превращенной в зеленые ковры газонов, украшенных кустами роз, перед скоплениями многоэтажных домов. С более чем десятиэтажной высоты, по застекленной стене домов сплывает каскадом солнце. Где-то там, в середине этого блеска, высоко над крышами довоенного Жолибожа живет теперь Эдвард Патер. Я смотрю в сторону окон, щуря глаза от света. Нам не хочется идти домой. С реки дует резкий ветер, умеряя необычную для осени жару. На улочках играют дети. — Я — Гагарин! — кричит семилетний малыш, бегая вокруг газона. Двое других бросают друг в друга узкими бумажными лентами наподобие серпантина. На узких лентах — таинственный текст, записанный кодом дырочек перфорации. — А вы знаете, что это такое? — останавливаю я разыгравшихся мальчишек. Они не смущаются: — Речь. Это память… Говорящий смотрит на меня снисходительно. — Ну, знаете, «электрический мозг»… Мой отец его обслуживает, — добавляет он со знанием дела. Патер остановил одного из ребятишек: — Марек, а уроки? Мальчишки убежали, стало тише. Затем Патер говорит: — А мы играли гильзами… В те времена мальчишки ходили на территорию находившейся рядом Цитадели, где расположились солдаты. Или на учебный плац на Кемпе-Потоцкой, где «темно-синяя» полиция[7] в противогазах проводила учения с применением химических средств, прежде чем выйти на улицы против рабочих демонстраций. В песке стрельбища мы выискивали пули от винтовочных патронов, из которых потом в железной банке выплавляли свинец, служивший нам для азартной игры на все, что таилось в наших карманах… Когда над городом появились самолеты, когда разнеслось далекое эхо взрывов и залаяли неистовые зенитки, мы, задрав головы вверх, с восторгом говорили: — Вот это учения! Однако очень скоро три снаряда угодили в дом на Хорыньской улице, и Эдек узнал, что означает слово «война». Узнал он также, что эта война направлена и против него — восьмилетнего Патера, и против его чуть более старшего брата, и против их отца — хотя кому и чем мог он помешать, постоянно склоненный на сапожной табуретке? — и против матери тоже… Эта война не окончилась, когда по застывшим, вдруг затихшим улицам Марымонта пролетели мотоциклы с немецкими солдатами. Понял это Эдек в тот момент, когда к ним с отцом вбежал запыхавшийся польский офицер. — Спрячьте это! — сунул он пораженному сапожнику новенький пистолет. — Еще пригодится! — горячо уговаривал военный, беспокойно оглядываясь по сторонам. Тогда отец Эдека вдруг сорвался с места, увлекая за собой мальчика. Он всегда спокойно сидел со своей сапожной лапкой, стараясь точно и аккуратно выполнять работу. У него были умелые руки: его туфельки с клеймом фирмы «Литвак и Цибельман» посылали в Париж и в Вену. Но получить работу было трудно, поэтому тихий и скромный ремесленник старался никому не досаждать и со всеми жил в согласии. Те гитлеровские снаряды, что попали в дом на Хорыньской улице, пошатнули, видимо, не только кустарную мастерскую, но и прежнюю позицию невмешательства, которой придерживался отец Эдека. Сделав несколько шагов, он остановился, а потом вдруг вернулся к офицеру и торопливо сказал, будто боясь собственного решения: — Ну, давайте!.. Этот пистолет Эдек увидел еще раз, но позже. Когда началось восстание, его старший брат удрал из дому первым. Вернулся он через несколько дней с бело-красной повязкой на рукаве, с добытым где-то немецким поясом, но без оружия. Тогда отец вытащил откуда-то пистолет, хранимый им с того трагического сентября. Офицер был тогда прав: пистолет пригодился… Слова солдата разбитой армии, который, однако, не хотел отдать врагу оружие, должно быть, глубоко взволновали марымонтского сапожника. Как потом обнаружилось, он прятал в доме от немцев и два радиоприемника. Эдек наткнулся на них совершенно случайно на чердаке. Отец тогда сурово предостерег его: — Помни, никому ни слова! Это была уже их вторая совместная тайна. По праздникам отец приносил в комнату радиоприемник, ставил на столик, туда, где он всегда стоял перед войной, — и казалось, что все опять по-старому… Но слова: «Побегайте немного на дворе» — Эдек с братом понимали как приказ понаблюдать, не крутятся ли где поблизости немцы. Отец Эдека был известен всем как спокойный, ни во что не вмешивающийся человек. Он не был членом какой-либо конспиративной группы. И все же хранил дома оружие. Не отдал, вопреки приказам немцев, и радиоприемники. Более того, своим хорошим знакомым давал возможность тоже послушать сообщения. За каждый из этих поступков грозила кара — смерть… А он, как прежде, склонившись над работой, казалось, интересовался исключительно вопросами дратвы и набоек. Хотя война и продолжалась, заказов у него было много. Самыми модными были тогда «офицерки». Длинные высокие ботинки, столь характерные для военной формы, носили в то время все, особенно молодежь, что являлось не только элементом своеобразной оккупационной моды. Это было чем-то вроде демонстрации перед немцами — этот военный шик гражданских, даже одеждой подчеркивающих, что война продолжается… Эдек продавалботинки на базаре. Иногда выполнял на вид маловажные поручения: наблюдал за каким-нибудь домом, передавал устно сообщение, провожал кого-нибудь по указанному адресу. Он не входил ни в какую конспиративную организацию. Какой мог быть из него конспиратор, из этого маленького подростка в брючках с протертыми коленками! Но за каждым из этих ничего не значащих якобы поручений, которые он выполнял, скрывалась оккупационная действительность борющегося города и угроза смерти. Несмотря на это, Эдек каждое поручение считал личной наградой, хотя не только из предостережений матери знал о беспощадности оккупантов. Рос он в жестокие годы, и даже детство не защищало его от той борьбы, которая велась везде и захватывала всех… Он был таким же, как и те мальчишки, что толкаются сейчас около киоска с мороженым на углу Марымонтской и Подлесьной. Таким же, как Марек, который с тоскливым выражением лица поднимается с нами в лифте, чтобы приняться за уроки. Мы помешали игре в космонавтов, и он ворчит что-то о взрослых, которые не помнят, как сами были когда-то мальчишками. Позже он каждую минуту будет приходить к нам, обижаясь, что Беатка не дает ему спокойно готовить уроки. А Беатка еще не понимает всего значения школьных обязанностей брата: она сама переживает этап преодоления трудностей, связанных с тем, как удержать на скользком паркете вертикальное положение. — Есть кофе, — говорит хозяин дома. — В чашке или стакане? Прошу, угощайся печеньем, — гостеприимно предлагает Патер. Я думал, что наш разговор будет о смерти. Что это будут воспоминания об убийствах. Но Эдвард запомнил те времена иначе. — До сих пор помню вкус супа, которым поделилась со мной в каком-то подвале одна старушка. Не помню, где это было, но знаю, что был тогда голод. Или та история с медом. Это произошло на баррикаде подразделения Армии Крайовой на улице Марии Казимеры. Эдек в то время был уже связным жолибожского штаба Армии Людовой и возвращался с какого-то поста, куда отнес приказ командования. В окопе с винтовкой, направленной на маслобойню, занятую немцами, сидел Парный. — Привет, Януш, — поздоровался с ним Эдек. Они знали друг друга еще с тех давних времен, когда вместе гоняли мяч на берегу Вислы. Тот хмуро кивнул. — Есть хочется, — пожаловался он. — Да… — согласился Патер. — Я бы тоже что-нибудь съел… Вот черт! — вдруг выругался он, отгоняя пчелу, прилетевшую сюда из недалеких садов. — Осторожно, не подпрыгивай так, а то тебя снайпер припечатает. — Чарный схватил его за рубаху и потянул вниз в окоп. Они сидели грустные. Жара была немилосердная, и всего-то было от нее пользы, что «охлаждала» темперамент немцев, с утра ожесточенно наступавших на этом участке. — Эй, Малый, — вдруг оживился Чарный. Эдек вопросительно посмотрел на него. — В том садике есть пасека. Это было недалеко. Несколько десятков метров, а кусты служили прикрытием от неожиданного обстрела. — Отлично! — сорвался Эдек. — Теперь я знаю, чего хотела от меня та пчела. — Он рассмеялся. Через несколько минут Малый уже вновь был в окопе. — Есть ульи… — Тяжело дыша, он бросился на песок. — Ульи есть, но вот как к ним подобраться. — Он посмотрел на свои закатанные рукава и голые ноги, торчавшие из коротких штанов. — Даже каски нет, чтобы защитить голову. — Возьми мою… Малый пожал плечами, хотя, по правде говоря, позавидовал военному трофею приятеля. — Это не поможет. — Он оглядывался по сторонам, ища выход из создавшегося положения. — Есть! — Он показал на бараки невдалеке. Там был склад фильмов. — Устроим «коптильню». — Он даже подскочил от радости. Но его тут же пригнула к земле очередь из немецкого автомата. Он переждал минуту и отправился на операцию «Мед». …Долго наслаждались они ароматной сладостью, до краев наполнявшей гитлеровскую каску… Память ребенка не случайно лучше всего сохранила именно эти переживания, незначительные по сравнению с решавшимися вокруг вопросами жизни и смерти, но более всего соответствовавшие нормальным реакциям того возраста. Не голод, а чувство сытости. Не настроения военной грозы, а маленькие ребячьи радости. Такие, как, например, по поводу найденного картофеля. На этот раз, правда, речь шла не об утолении голода. Произошло это несколько случайно вскоре после того, как Эдек стал связным в штабе Армии Людовой. Рано утром помчался он с другими мальчишками помогать повстанцам собирать сброшенные с самолета контейнеры с боеприпасами, которые потом прятали на угольном складе на улице Сузина. Когда он вечером вернулся домой, то не застал никого из родных. Немцы увели всех с собор. Дома стояли совершенно опустошенные, только кое-где на тротуаре валялись сломанные очки, брошенная кукла, узелок с бельем. Был уже поздний вечер. Мальчик, уставший от всех переживаний этого дня, уснул. А утром отправился искать родных и от повстречавшегося по дороге приятеля, Владека Франчука, узнал, что всех местных жителей гитлеровцы расстреляли на углу улицы Барщиньской, а тела сожгли… Только после войны обнаружилось, что его семья просто чудом спаслась от смерти. — Пошли к нам, — сказал ему тогда Владек, который был связным в штабе Армии Людовой. — Может быть, тебя примут. Его взяли. Тем более что среди аловцев, солдат Армии Людовой, он неожиданно встретил своих дядей — братьев Кацпшаков и Сяркевича (подпольные клички: Каспер, Бялый и Зигмунт). При виде Эдека кто-то рассмеялся: — Ну, а тебя, малыш, как будем называть? И так и осталось — Малый. Нашли ему какой-то уголок в штабе, кто-то подарил ему парашют вместо постели. Оружия у него не было, его вообще было мало. Он не решался даже заикнуться о том майору Шведу (Шанявский). — Ну хотя бы бело-красную повязку, — высказал он как-то свое заветное желание Янке (Янина Ченкальская), которая работала в редакции информационного листка, издававшегося штабом Армии Людовой. Издавали его в количестве, может быть, двухсот экземпляров, напечатанных на стеклографе, которые потом разносили, и Эдек в том числе, бойцам. Когда Эдек однажды вернулся, его уже ожидала красивая бело-красная повязка. Мальчик сначала обрадовался, но тут же опечалился: — А буквы? — Ну да, — кивнула головой Янка. — Нечем было напечатать их на материале. Если бы был кусочек картофеля… Эдек долго ходил по подвалам, пока, наконец, у какой-то хозяйки не выпросил пару картофелин. Янка из большого клубня вырезала большие буквы «АЛ» и, намазав их чернилами, отпечатала на полотне повязки. Малый состоял при штабе все время, до самой капитуляции. Жолибожская группировка Армии Людовой была небольшой, после подхода отрядов со стороны Старувки насчитывала около 400 человек. Они занимали вместе с группировкой Армии Крайовой под командованием полковника Живицеля захваченные повстанцами районы Жолибожа. Отряды располагались в разных пунктах района. Некоторые находились очень далеко, как, например, 3-й батальон Армии Людовой капитана Гишпана (Генрик Возьняк), стоявший на улице Дружбацкой в так называемых «полицейских домиках». Эдек часто ходил туда с приказами. Аловцы занимали также аллею Войска Польского, удерживали пересечения улиц Бродзиньского, Козетульского, Тованьского… Вскоре Малый так хорошо знал Жолибож, что мог пройти всюду даже темной ночью. А это были далеко не обычные прогулки по знакомым с детства улицам. Надо было знать, какие отрезки пробегать, а где требовалось проползти по неглубокому рву связи, чтобы не достала тебя очередь из автоматов гитлеровцев. Надо было знать лабиринт дворовых переходов, дыры в сетках, огораживающих территорию покинутых вилл, проходные ворота домов или пробитые проходы в подвалах, которые стали тайными дорогами сражающегося района. Это правда, Малый не сражался с оружием в руках. Только в последние дни получил он советский автомат от умиравшего солдата. Автомат был слишком тяжел для его детских рук, но Эдек тащил его за собой, согнувшись под тяжестью запасного диска с патронами, который он повесил себе на шею… Можно было на пальцах сосчитать те выстрелы, которые сделал по врагу солдат Армии Людовой Малый во время восстания. Но этот тринадцатилетний мальчик помогал своим старшим товарищам, как мог. В меру своих сил, а часто и сверх этих сил. За этот повседневный героизм, за солдатскую выдержку во время восстания освобожденная Родина наградила его позже Крестом Храбрых… Он спал где придется и когда придется. Ел, когда его кормили взрослые повстанцы: во время выдачи еды его вообще никогда не было в штабе. Его роль в борьбе с оккупантами заключалась в постоянной готовности связного выполнить задание командования. Никогда не жаловался, что устал. Шел, когда надо было проводить кого-либо на позицию повстанцев. Когда надо было, относил донесения. Вызывал нужных людей на заседание штаба. Относил гранаты, боеприпасы, иногда бюллетени. Поручения выполнял в любое время дня и ночи. Он не отступал, когда дорога вела через район города, контролируемый немцами. Но один раз встречал он на своей дороге убитых. Иногда ночью натыкался на тела погибших. Но не боялся ни мертвых, ни темноты. Только живые могли быть опасны. Часто гнали его немецкие выстрелы. Часто немецкие патрули проходили так близко, что он боялся, как бы не услышали они стука его сердца. Не один раз мечтал он, чтобы все это, наконец, закончилось. Иногда ему даже казалось, что победа близка. Однажды кто-то принес весть, что на берегу Вислы высадились солдаты Войска Польского. Были слышны даже выстрелы, хотя они вскоре умолкли. Все думали — очередной слух. И не знали, что недалеко от них гибли понесшие большой урон солдаты 6-го полка 2-й дивизии Войска Польского, тщетно стараясь удержать плацдарм и установить связь с восставшими. И все-таки связь была налажена. Как-то ночью на пражский берег поплыли капитан Кароль (Венцковский) и Струга, связная Армии Крайовой. Офицер Армии Людовой вскоре вернулся на Жолибож с радиостанцией, которая дала возможность с той поры поддерживать связь между повстанцами и советскими и польскими войсками. По ночам теперь часто тарахтели неутомимые «кукурузники», доставляя повстанцам грузы. А советская артиллерия, получая координаты от радиостанции капитана Кароля, вела огонь по позициям немцев. Но и в плохих вестях недостатка не было. После капитуляции Старувки 23 сентября пал Чернякув. Четыре дня спустя — Мокотув. Все более опасной становилась работа связных. Неприятельская артиллерия вела обстрел с трех направлений — из Белян, Повонзек и Старого Мяста. Эдек быстро сообразил, что гитлеровцы начинают наступление. Все чаще случалось так, что Малый не мог передать приказ тому, для кого он предназначался. Все чаще помимо донесений слышал он от командиров частей устные, полные мольбы, просьбы: — Расскажи там в штабе, что у нас здесь творится. А творилось страшное. Не было еды, медикаментов, боеприпасов. Иногда Малому, чтобы доставить несколько гранат, приходилось проделывать весь путь до позиций аловцев под беспокоящим огнем артиллерии. Иногда он возвращался в штаб, чтобы доложить майору Шведу, что повстанцы оттеснены немцами. Силы вражеской танковой дивизии в четыре раза превосходили силы повстанцев на Жолибоже. Однажды ночью Малый возвращался от «полицейских домиков», куда он отнес несколько бутылок с бензином. Он очень устал, все последние дни беспрерывно бегал с донесениями и приказами. Беспокоил уже не только артиллерийский огонь. Кольцо немецкого окружения сжималось все теснее. С каждым часом уменьшалась территория, которую обороняли повстанцы… У Малого на этот раз совсем не было сил, чтобы вернуться в штаб. Он услышал голоса людей, идущие откуда-то из темноты. В каком-то подвале увидел старушку, сидевшую в глубоком кожаном кресле. — Бабуся, я на минутку, — сказал он, свертываясь клубочком на полу. Разбудило его беспокойное потряхивание: — Вставай же, наши уже ушли! Немцы идут!.. Он бросился прочь, но от лестницы еще вернулся за своей упавшей под кресло каской. Повстанцы отступили на нижний Жолибож. Мальчик был голоден. В одном из домов он отыскал хлеб, но такой черствый, что пришлось нарубить его на куски топором. Этот завтрак был прерван нарастающим гулом. Он выглянул в окно. И в конце улицы увидел танки… Штаб Армии Людовой был уже на новом месте. Одни говорили: отступаем за Вислу. Армия должна дать лодки для эвакуации. Другие — что вечером будет подписана капитуляция. Было уже далеко за полдень. Немецкая артиллерия прекратила огонь. Царила такая тишина, что просто не верилось. Малый со своим автоматом расположился перед воротами штаба. Паренек спокойно сосал конфету, которую дала ему знакомая санитарка. Вдруг он вздрогнул. По улице шли несколько военных. Но только откуда этот мундир? Это же гитлеровский офицер! Произошло замешательство. Кто-то крикнул: «Бей!» Польские офицеры и с ними немец быстро прошли и скрылись в вилле, где разместилось командование Армии Крайовой. В тот же вечер была подписана капитуляция восставшего Жолибожа. А потом из штаба Армии Крайовой вернулись офицеры. Тотчас же распространилась весть: — Пробиваемся к Висле! На прорыв решились идти несколько десятков солдат Армии Людовой. — Пойдут только те, кто сможет выдержать, — предостерег майор Швед. — Остальные присоединятся к частям Армии Крайовой или к гражданскому населению. Когда объявили сбор добровольцев, Малый встал в конце второй шеренги. Но у Шведа был острый глаз: — А ты что тут делаешь? Пойдешь с гражданским населением! На споры не было времени. Мальчик сквозь слезы ответил «Есть!», но в штаб не пошел, стараясь только никому не попадаться на глаза. Аловцы решили пробиваться вечером, а перед этим должен был состояться артиллерийский обстрел с пражского берега, чтобы проложить им дорогу к Висле. Малый тоже рассчитывал на темноту. Когда группа собралась уходить, он спрятался за спину широкоплечего солдата. Ему очень хотелось взять с собой противотанковое ружье, но он не смог бы его донести. Артиллерийский обстрел действительно состоялся, а когда огонь начал ослабевать, они двинулись по Дзенникарской улице к огородам. Малый старался держаться в конце группы, он не хотел, чтобы майор Швед его заметил. Вскоре они добрались до зарослей деревьев и кустов. Группа рассыпалась, люди бежали, стараясь производить как можно меньше шума: в каком-то месте они должны были пройти через расположение немцев. Вдруг Малый остановился. Что-то белело в кустах. Но это оказался парашют от сброшенного контейнера. Малый побежал за остальными. Они пересекли какое-то шоссе, мальчик решил, что это, наверное, дорога из Цитадели на Беляны. Он наскочил на колючую проволоку, из которой едва сумел выпутаться, но потерял при этом шапку. Вернулся за ней, сам не зная зачем. Вдруг он увидел перед собой темный барьер — это был Привисленский вал. Кругом раздавалось тяжелое дыхание. Рядом с ним бежали Швед и сержант Куба (Генрик Янковский). Мальчик скользил по мокрой от росы траве, карабкаясь на четвереньках вверх по насыпи, чуть ли не касаясь носом земли. А почти на самом верху осветительная ракета заставила их прижаться к земле. Падала она долго-долго, и зеркальное отражение где-то впереди усиливало ее свет. Там была Висла. Я вижу Вислу из окна многоэтажного дома на Подлесьной улице, где Эрвард Патер недавно получил новую квартиру. Приходит Марек, чтобы сказать, что закончил готовить уроки. Он как две капли воды похож на отца. Когда я говорю ему об этом, он смеется. Фотография, на которой изображен маленький мальчик Эдек Патер, сильно пожелтела и вся разрисована. Рядом на столе лежит книжечка Шмаглевской «День обещает быть прекрасным». День и в самом деле был прекрасный.Теофил Урняж ЧЕТВЕРО ОРЛОВСКИХ С УЛИЦЫ ДОБРОЙ
Возможно, кто-то когда-нибудь напишет сагу о роде Орловских, так как история этой варшавской рабочей семьи имеет поистине много прекрасных страниц и в сжатом виде представляет собой как бы в миниатюре историю Польши на протяжении последнего полувека. Есть в этой семье Игнаций Орловский, фамилия которого фигурирует в списке поляков — участников Великой Октябрьской социалистической революции. Есть Людвик Орловский, деятель коммунистической партии, который в межвоенные годы, пожалуй, больше отсидел в политических тюрьмах и под предварительным следствием, чем находился на свободе, и который сумел привить свои идеи детям. Есть и военное поколение Орловских, которое выросло в революционной, патриотической атмосфере своего дома и окружения и которое в годы оккупации присоединилось к освободительной борьбе, некоторые представители его — еще совсем в детском возрасте, но с полным пониманием того, где их место в этой борьбе и за какую Польшу они сражаются. Из пятерых Орловских именно этого военного поколения четверо носят знак «Сын полка». Трое братьев и сестра: Станислав, Ежи, Хелена и Рышард. Когда Станислав и Ежи вступали в ряды Союза борьбы молодых и начинали свою деятельность в Гвардии Людовой, первому из них было семнадцать лет, второму — пятнадцать. Хеленка пошла по их пути только годом позднее, когда ей было тринадцать лет. Самый молодой, Рысек, уже в девять лет носил в своем школьном ранце газеты и оружие, позднее был связным на баррикадах Варшавского восстания. Это осознание целей разгоревшейся борьбы и своего места в ней были у Орловских в крови. Только самая старшая в семье — Мария, которая в годы оккупации была уже замужем (ее муж, Витольд Курковский, по кличке Стах, тоже солдат Гвардии Людовой, геройски погиб в борьбе с оккупантами), родилась еще в нормальном, человеческом жилище — в комнате, снимаемой на улице Сенной. Станислав и Ежи Орловские родились в бараках для безработных на улице Лешно. Хеленка и Рысек уже с колыбели росли в другом большом бараке для безработных на улице Любельской в правобережном районе Варшавы — Праге. Весь этот огромный «комбинат» располагался в строениях ликвидированной фабрики, известной под названием «Полюс». До начала войны в необычайно трудных условиях ютились там свыше семисот человек — самая крайняя беднота этого района города. Но бедность и нужда часто закаляют людей, объединяют их в совместной борьбе. Именно с территории «Полюса» в каждый праздник Первомая отправлялись колонны безработных с красными знаменами и революционными песнями. Именно оттуда наряду с лозунгами, требующими хлеба и работы, настойчиво раздавались и политические требования: социалистической Польши, рабоче-крестьянского правительства, союза с Советской Россией, а в первых рядах демонстрантов всегда шла вся семья Орловских: отец, мать, дети, даже самые младшие. До сегодняшнего дня они помнят, с какими переживаниями это было связано, когда всюду вокруг можно было видеть поднятые над головами сжатые в кулаки рабочие руки, трепещущие на ветру красные знамена; и каждый шаг рабочего марша казался шагом к новой Польше. Именно на территории «Полюса» у отца было самое большое число верных друзей, а у ребят — больше всего сердечных приятелей. Ведь именно в их двери, когда они жили на территории «Полюса», не раз стучались совершенно незнакомые люди: предупреждали об обыске, приносили тайные записки от отца, находящегося под арестом либо в тюрьме… Вот почему в школе родительский комитет, в котором верховодили местные святоши и ханжи, обходил детей Орловских и при раздаче молока, и при организации летних лагерей для наиболее бедных, а некоторые учителя стремились унизить их, так как они принадлежали к организации Красного харцерства, а не к организации, например, Молодежи миссионерской. До сих пор они помнят случай, когда во время урока в класс вошел инспектор-куратор и сказал: — Ничего удивительного, что в классе падает дисциплина, если некоторые отцы наших учеников сидят в тюрьмах за преступную коммунистическую деятельность. И хотя он тогда не назвал фамилий, все и так знали, что разговор идет об Орловских, так как именно за день до этого варшавская печать сообщила об аресте коммуниста Людвика Орловского. Такова была школа жизни — грубая и жестокая. Сколько раз они старались не замечать, как некоторые их одноклассники во время большой перемены вытаскивали из портфелей вкусные булки с толстыми кусками ветчины или колбасы, аппетитные апельсины и бананы, в то время когда их мать не могла порой дать им в школу даже куска черствого хлеба! Однако дома, когда она впадала в безысходное отчаяние, когда, причитая над своей и их судьбой, от жалости и раздражения иногда пыталась обвинить во всем мужа: что только «из-за этой своей политики» он имеет волчий билет и никогда не получит работу, — дети становились на сторону отца. Они верили ему. Верили, что он борется за лучшую, рабочую Польшу, за счастье для них — своей жены и детей. Хеленка и Рысек уже не помнят «Полюса». Их сознание формировалось под влиянием событий в оккупированной Варшаве. «Полюс» сгорел в сентябре 1939 года от зажигательных бомб. Разбежались все его жители. Орловские пережили штурм Варшавы в закоулках одного из коридоров известной Галереи Люксембурга на Сенаторской улице. Снаряды гитлеровской артиллерии несли разрушения и смерть. Орловским удалось как-то уцелеть. В памяти Станислава и Ежи сохранился эпизод тех дней: пылающие склады боеприпасов на улице Нецалой и солдаты, самоотверженно выносящие из огня снаряды, передаваемые затем из рук в руки к стоящим в Саксонском парке батареям зенитных орудий. Группа гражданских лиц помогала солдатам в этой небезопасной работе, а в этой группе они — два маленьких пролетария «Полюса», которых родители отправили на поиски воды или какой-нибудь провизии. Запомнилось и то, как они вырезали куски мяса из убитых осколками снарядов армейских лошадей. В те дни не только их семья спасалась таким образом от голода. Капитуляция Варшавы. Поиски какого-нибудь угла, где бы можно было поселиться, заканчиваются неожиданным успехом. Отцу, который перед самой войной благодаря своим различным знакомым получил, наконец, постоянную работу — должность надсмотрщика, а правильнее сказать — помощника сборщика налогов на Мариенштатском рынке, удалось вымолить в магистратуре разрешение на занятие пустующей большой квартиры в районе Повисле на улице Доброй, 53. Именно там начинается новая страница в истории семьи Орловских. Страница, главным действующим лицом которой по-прежнему будет отец — последовательный и верный своим убеждениям и идеям. Он первый установит утраченные связи с товарищами, организует в своей квартире конспиративную явку, вовлечет в работу сначала старших сыновей, а затем даже младших детей. Однако героями этой новой страницы будет уже военное поколение Орловских: Сташек, Ежи, Хеленка, а также маленький Рысек. Здесь, на Доброй, они взрослели pi мужали. Когда создавалась Польская рабочая партия (ППР), в их присутствии происходили «ночные земляков беседы». Здесь рождались их стремления к активному участию в развернувшейся борьбе с врагом. Здесь они начинали работать в рядах Союза борьбы молодых, отсюда отправлялись на все более опасные задания и боевые операции. В этом доме прятали подпольные газеты. В их квартире был пункт, где хранилось оружие и прятались люди — товарищи по борьбе, которых они затем провожали в партизанские отряды. Отсюда они вышли в последний раз, чтобы бороться на баррикадах Варшавского восстания и затем обрести уже освобожденную Родину. Первые годы оккупации. Еще нет Польской рабочей партии и Союза борьбы молодых. Нет еще и Гвардии Людовой. Что делают в это время Орловские? Станислав учится в вечерней технической гимназии и одновременно работает учеником слесаря на Жолибоже, на территории бывшего химического института, переоборудованного немцами в большую базу по снабжению подразделений СС. Заработки там грошовые, но работа в таком учреждении дает ему прежде всего аусвайс — документ с гитлеровским орлом и свастикой. Хороший аусвайс часто охранял в тот период от принудительного вывоза на работы в Германию, помогал во время уличных облав. Почти каждый варшавянин старался иметь именно такой документ. Особенно он был удобен для подпольщиков. Были люди, которые занимались даже подделкой такого рода документов тем же способом, как подделывались в то время кеннкарты и арбайтскарты. Первые из них были оккупационными паспортами, вторые — ведомственными удостоверениями немецкого управления по труду, которые подтверждали, что такой-то поляк имеет определенную профессию и в настоящее время работает на фабрике либо в учреждении. Этот добрый аусвайс не раз пригодится Станиславу Орловскому, особенно тогда, когда он будет уже в Гвардии Людовой, а затем в Армии Людовой. Ежи кончает в это время общеобразовательную школу на улице Древняной, но одновременно по вечерам вместе со старшим братом спешит в техническую гимназию, которая тогда называлась «Обязательная профессиональная школа». Ежи боготворит старшего брата. Старается во всем брать с него пример, даже избирает ту же самую профессию, что и брат. Они всегда неразлучны, и, хотя Ежи моложе Станислава на целых два года, он догоняет брата в науке: днем штудирует программу начальной школы, а вечером вникает в технические проблемы. Затем они оба переходят в другую профессиональную школу, в которой есть так называемые «спецклассы», что соответствует уровню лицея. Ежи начинает работать слесарем в частном предприятии «Пионир» на улице Крохмальной. Хеленка ходит в общеобразовательную школу на улице Древняной, куда Рысек начнет ходить только в 1941 году. А годы были тяжелые, месяц от месяца становилось все труднее. В Варшаве все более усиливался террор гитлеровцев. Не проходило дня, чтобы не было облав и арестов. Тюрьма Павяк переполнена. Вся Варшава говорит о пытках в гестапо, которое расположилось на аллее Шуха. Доходят уже первые слухи о газовых камерах в Освенциме. В дома поляков все более настойчиво стучатся голод и нужда. Скромные пайки глинистого хлеба, получаемые по карточкам, слишком малы, чтобы прожить, а на черном рынке свирепствует дороговизна. Для семьи Орловских беда не является чем-то новым, ведь они прошли закалку в бараках для безработных, прежде чем переехали на улицу Добрую. Но новая квартира не улучшила условий их быта. Мебель, которую они застали в этом доме, немцы конфисковали как «еврейское имущество». Станиславу удалось припрятать пару лыж и лыжных ботинок, и теперь он чувствует себя богачом. Ребята с улицы завидуют ему, когда зимой он катается на этих лыжах. А дома положение очень тяжелое. Заработков отца хватает только на неделю, а иногда на несколько дней. Стах, как ученик слесаря, зарабатывает еще меньше. В других семьях, чтобы раздобыть деньги на жизнь, люди начинают продавать вещи. В доме же Орловских продавать нечего. Все, даже дети, стараются подрабатывать, кто как может и как удастся. Станислав и Ежи торгуют сигаретами — это очень популярное в то время занятие для молодых ребят. Выкрикивают на углах улиц названия сигарет, вскакивают в трамваи, продают их поштучно и пачками. Необходимость заставляет их заниматься торговлей сигаретами почти до начала восстания. Подрабатывали на жизнь также Хеленка и Рысек. Самое раннее, что помнит Рышард Орловский из периода оккупации, — это, видимо, то жаркое лето, когда ежедневно с утра мать отправляла его с корзинкой на железнодорожную насыпь собирать мать-и-мачеху. Она сушила растения и продавала их торговцу зеленью. И еще одно воспоминание: когда вместе с отцом торговали хлебом и за ними потом гнались жандармы. Отцу удалось достать немного фальшивых продовольственных карточек. Он купил на них хлеба и вместе с Рысеком продавал на Новом Зъязде, а затем на Старувке. Неожиданно как из-под земли выросли жандармы. Люди стали разбегаться. Убегал и он, девятилетний мальчуган, постоянно помня о необходимости как можно крепче прижимать к себе мешок с хлебом, несмотря на то что жандармы стреляли по убегающим… Террор усиливался с каждым месяцем. Все чаще слышался на варшавских улицах прерывистый вой полицейских машин. На стенах домов появлялось все больше красных плакатов с фамилиями расстрелянных поляков. И все большие масштабы приобретала всеобщая ненависть к врагу, желание мести, вооруженной борьбы. В такой обстановке наступил 1942 год. В квартире на улице Доброй в это время все чаще скрывается друг отца, Миколай Кузьмич, худощавый, с черными волосами, тронутыми серебряными нитями, хотя лицо еще молодо и энергично. Ему тогда было лет тридцать пять. У Кузьмича была своя личная тревога: его молодая жена, Тереска, была еврейкой, и ей грозила смертельная опасность. В довершение всего у них недавно родился ребенок. Молодые Орловские часто видели Тереску на улице с коляской. Но Кузьмич, однако, приходил на улицу Добрую не с личными заботами, точно так же как и Казимеж Климашевский, который привел сюда Кузьмича. Миколай Кузьмич был офицером при штабе Гвардии Людовой и носил в то время подпольные клички Сикорка и Владек. Именно Кузьмич посвятил молодых Орловских в тайну, что уже создана Польская рабочая партия, что по всей стране формируются и вступают в борьбу с врагом вооруженные отряды — Гвардия Людова, что патриотическая молодежь объединяется в Союз борьбы молодых (ЗВМ). Это Кузьмич принес в их дом воззвание Польской рабочей партии, в котором они с волнением читали: «Польская молодежь! Будь достойна наших славных предков, великих патриотов нашей Родины!.. Все на борьбу против нашего смертельного врага!.. В бой! На борьбу за свободную и независимую Польшу! Мы победим!..» Отец уже в рядах ППР и проводит конкретную работу, в которой ему очень помогает должность помощника сборщика налогов на рынке. Рынок был прекрасным местом для конспиративных встреч. Почти ежедневно отец приносил домой подпольные газеты. Как долго будут ждать молодые Орловские? Они чувствуют, что уже готовы к участию в борьбе. Благодаря Сикорке они уже члены ЗВМ. Но ведь партия призывает всю патриотическую молодежь в ряды Гвардии Людовой. Рекомендует создавать новые отряды. Они готовы хоть сегодня вступить в Гвардию Людову и сформировать отряд. Присоединиться к борьбе. Но как это сделать? Миколай Кузьмич советует им внимательно присматриваться к своим ближайшим друзьям и знакомым, определить, кого из них можно привлечь на свою сторону. Это должны быть люди храбрые, на которых можно положиться. Что касается связей, то он, Кузьмич, им поможет. Наконец на квартире Орловских состоялась первая встреча с капитаном Эдвардом Лянотой (подпольная кличка Эдвард) — членом Главного штаба Гвардии Людовой, а затем начальником варшавского штаба Армии Людовой. Капитан Эдвард говорил о необходимости создания специальной секции Гвардии Людовой, которая будет временно работать на нужды штаба. Беседа была продолжительной и сердечной. Проверена и детально обсуждена каждая кандидатура. Окончательное решение, принятое ими, сводилось к тому, что секция будет состоять из пяти человек: двух братьев Орловских — Станислава и Ежи, двух братьев Архициньских — Яцека и Веслава. Пятым был Антоний Покрывка. Капитан Эдвард напомнил принципы конспирации. Затем — принятие присяги, каждый из пятерых должен выбрать себе подпольную кличку, и с этого времени во всякого рода контактах можно пользоваться только условленными паролями и кличками. Время стерло в памяти многие события. Этот же день запечатлелся в сердце на всю жизнь. День присяги. Все происходит на улице Доброй, 53. Но даже их квартира в этот день кажется им какой-то другой: торжественной, праздничной. Собрались уже все, ждут — взволнованные, в приподнятом настроении. Волнуется также и отец, который отдает двух сыновей на службу партии. Условились, что с этого дня Станислав будет выступать под кличкой Стек, а Ежи — Ендрек. Яцек Архициньский останется Яцеком, а его брат, Веслав, будет называться Хуго. Антонию Покрывке дали кличку Козёлек… Раздался условный стук в дверь. Сходятся товарищи из штаба Гвардии Людовой. Присутствуют организатор секции капитан Эдвард, а также майор Сенк (Сенк-Малецкий), которого Станислав и Ежи немного знали, так как он дважды приходил к отцу. Здесь же несколько новых лиц: капитан Носек (Пашковский), подпоручник Сыр. Акт принятия присяги должны засвидетельствовать заслуженные люди. Все встают. Лица ребят слегка побледнели. Майор Сенк начинает медленно читать слова присяги, а они повторяют слово за словом, предложение за предложением; от волнения в горле появляются спазмы. «Я, сын польского народа, антифашист, клянусь, что буду мужественно и до последних сил бороться за независимость Родины и свободу народа! Клянусь, что, находясь под командованием Гвардии Людовой, я буду беспрекословно выполнять приказы и порученные мне боевые задания и не отступлю ни перед какой опасностью. Клянусь, что буду сохранять военную тайну, никогда не изменю даже под самыми страшными пытками и буду безжалостно разоблачать тех, кто встал на путь измены! В борьбе за освобождение Родины и народа я буду преданным всегда, вплоть до полной нашей победы!..» Каждое слово той присяги глубоко западает в молодые сердца. Они присягали Родине и народу, и эта присяга запомнится им навсегда, они будут помнить о ней в самые трудные минуты, будут верны ей до последней капли крови. Из их сегодняшней пятерки во время Варшавского восстания в Старом Мясте героической смертью погибнет младший из братьев Архициньских — Хуго вместе с организатором их секции товарищем Эдвардом Лянотой. Это произойдет в тот момент, когда немецкая бомба попадет прямо в здание на улице Фрета и под его развалинами будет погребен весь варшавский штаб Армии Людовой. Станислав Орловский во время восстания получит две тяжелые раны. Ранен будет также Ежи Орловский. Каждый из этой пятерки не раз будет рисковать свой жизнью в различных боевых операциях. Сейчас они все стоят в молчании, зачарованные величием минуты. Чувство энтузиазма и восторга переполняет их. — Садитесь, товарищи, — приглашает майор Сенк, который берет на себя роль хозяина, — мы должны немножечко поговорить. Беседа получилась сердечная и дружеская, но одновременно и серьезная. Никто из старших не считает здесь молодых недозрелыми, малолетками, а относятся к ним как к младшим коллегам и товарищам по совместной борьбе. И ребята чувствуют это и благодарны им. Капитан Эдвард начал с организационных вопросов. Специальная секция Гвардии Людовой, члены которой только что приняли присягу, будет подчиняться непосредственно ему. Секцией будет руководить Стек — Станислав Орловский. Какие будут задания? — Начнем, товарищи, с вещей, на первый взгляд, мелких, но таких же важных, как и борьба с оружием в руках. Мы начнем с пропагандистской деятельности. Это очень трудное задание, и мы докажем, что сумеем сдать этот экзамен. Одни товарищи печатают подпольные издания, другие забирают их из типографии. Вы, в частности, будете получать эти материалы в установленных пунктах, а к вам будут, в свою очередь, обращаться распространители. К задачам секции будет относиться также пропаганда идей и лозунгов нашей партии в рабочих коллективах и в широких слоях общественности. Делать это необходимо различными способами. Мы будем также, товарищи, собирать сведения о противнике… Потом будут, несомненно, еще более важные задания: организация и обучение военному делу… Секция будет постоянно расширяться. Присматривайтесь к людям из вашего окружения, товарищи. Привлекайте их в ряды Гвардии Людовой… И помните, никаких самостоятельных действий! Товарищ Стек будет передавать вам все мои распоряжения… Надолго в их памяти останется то, о чем говорил им в тот вечер майор Сенк-Малецкий: они приступают к выполнению трудных и опасных заданий, и опасность им будет грозить не только со стороны гитлеровцев. Нельзя забывать о враждебном отношении к ППР некоторых польских правых кругов. Правые стараются очернить ППР в глазах всего общества. Их деятельность в этом направлении проводится на страницах подпольных газет, издаваемых силами, связанными с польским буржуазным эмигрантским правительством в Лондоне. Следует иметь в виду, что правые уже давно организованы, а левые — только теперь собирают и мобилизуют свои силы. Из того, что сказал майор Сенк-Малецкий, молодые ребята начинают лучше понимать смысл задания, поставленного перед ними капитаном Эдвардом. Так, в довольно простой и одновременно торжественной обстановке они стали солдатами Гвардии Людовой.Адреса самые различные, главным образом ворота домов в Старом Мясте, иногда рынок Нового Мяста, иногда Тамка или улица Броня. Стек получает распоряжения от капитана Эдварда, а затем они идут и получают в условленных пунктах пачки газет «Гвардиста», «Глос Варшавы» либо бюллетени с последними радиосводками. Со временем появятся новые названия: «Трибуна Вольности», «Армия Людова». Местом назначения, куда они доставляют пакеты, является их квартира на улице Доброй. Только туда по условленному паролю приходят распространители, которые забирают эти газеты и разносят их по местам назначения. Будут проходить месяцы и годы, ребята будут получать новые, все более трудные и сложные задания, но никто не освободит их от доставки печати. В 1943 году начнет носить ее в своей школьной сумке Хеленка. Маленький Рысек Орловский будет в течение дня делать несколько рейсов с газетами в своем ранце. Сегодня часто говорят, разводя руками: «Чего там, девятилетний ребенок! Что он понимает!» А ведь хотя Рысеку Орловскому было тогда девять лет, он знал и понимал, что к чему. Однажды ему пришлось разносить газеты в своем ранце с обеда до позднего вечера. На следующий день он заснул на уроке, на котором они должны были разбирать какой-то материал из детского журнала под названием «Стер». В этот же день должен был состояться осмотр класса. Учительница разбудила разоспавшегося мальчика, который никак не мог понять, чего от него хотят. — Где твой «Стер», положи его на парту перед собой, как и другие дети! Но до Рысека все же не доходил смысл ее требования, и тогда учительница открыла его ранец и вместе с детским журналом вытащила, к своему удивлению, самый последний номер «Глоса Варшавы». Не зная что делать, она быстро сунула газету за отопительную батарею, так как дверь в класс открылась и началась проверка. Рысек тоже не знал, что у него в ранце была эта газета: он их разносил в предыдущий день, и, видимо, одна из них каким-то образом осталась. Группа Стека получала все новые и новые задания: например, завтра расклеивание плакатов на таких и таких улицах. Они выходят на задания как минимум по двое, разбрасывают листовки с лозунгами и воззванием ППР, расклеивают газеты, пишут мелом лозунги и призывы к населению на стенах домов, на лестницах, на асфальте улиц. Главным районом их действий является Повисле, но бывают они и на Жолибоже, где работает Стах, и на Воле, где работает Ежи. Любое задание, выполняемое в условиях гитлеровской оккупации, было опасным. Во время переноса прессы можно попасть в облаву или наскочить на жандармский патруль — а жандармы все чаще проводят проверку прямо на улицах, — можно нарваться на шпика, который пойдет по следу. Расклеивание плакатов при хорошей подготовке кажется наиболее безопасным, разве только какой-нибудь фольксдойче — местный житель немецкого происхождения — увидит их из окна своей квартиры и запомнит лица. Наибольшего нервного напряжения требовало разбрасывание листовок и газет в общественных местах. Вот, например, Стек получает от капитана Эдварда задание: в пятницу, ровно в семнадцать часов, когда по радио передаются сообщения, члены секции разбрасывают листовки и газеты на Мариенштатской рыночной площади под радиорепродуктором, который люди прозвали «гавкалкой». Операция была разработана до мельчайших деталей. Каждый получает свою порцию газет или листовок, которые он должен держать заткнутыми за поясной ремень, под рубашкой или пальто. Все обязаны распределиться в толпе, которая начинает в это время собираться под репродуктором. Когда начнется передача, кто-нибудь из их группы подаст сигнал — громкий свист. Все к этому времени уже держат руки под полами одежды и крепко сжимают листовки. По сигналу они выбросят листовки высоко вверх. И когда люди начнут собирать листовки, члены секции покинут место операции… Казалось бы, ничего необычного, но каждый из мальчиков уже начинает испытывать какое-то внутреннее беспокойство. Однако все, кажется, должно пройти хорошо. И вот наконец семнадцать часов. Толпа под «гавкалкой» увеличивается. Из репродуктора доносятся первые слова диктора. И тут же раздается громкий свист. Ежи оттренированным движением вытаскивает листовки из-под пиджака и высоко бросает их вверх. С левой и правой сторон летят целые пачки газет и листовок, которые привлекают внимание стоящих людей, и именно в этот момент кто-то, видимо опоздавший, бросает в воздух еще одну пачку. Отчетливо видна его поднятая вверх рука и раскрасневшееся от волнения лицо. Кто это? Пораженный Ежи видит, что это Стах! По всей вероятности, он зацепился рукой за ремень. Теперь его видели все. Вокруг него падали на землю брошенные им несколько секунд назад листовки. И тут Ежи заметил, что в направлении брата сквозь толпу пробирается рослый полицейский, на ходу расстегивая кобуру пистолета. Сташек пробует скрыться в толпе, убежать, но полицейский уже рядом с ним, хватает его за руку. В эту же минуту по бокам полицейского как из-под земли вырастают фигуры двух молодых людей в длинных пальто. Они держат руки в карманах, но Ежи отчетливо видит, что карман одного из них подозрительно раздут и касается уже спины полицейского. Второй что-то шепчет ему на ухо: лицо полицейского бледнеет, рука оставляет кобуру в покое, и теперь уже он старается затеряться в толпе. Капитан Эдвард все же обеспечил прикрытие группы. Подобных операций под «гавкалками» проводилось довольно много. В памяти Станислава и Ежи Орловских отчетливо запечатлелась эта первая и еще одна, которая была осуществлена в районе улиц Хлодной и Вроней. Бросили, как обычно, листовки, и люди начали собирать их (еще никогда так не случалось, чтобы какая-нибудь из них оставалась на мостовой), и вдруг из боковой улицы с характерным прерывистым воем сирены выскочил грузовик, битком набитый вооруженными до зубов жандармами. Все бросились бежать. Жандармы были так близко, что не могли не видетьлежащие на мостовой газеты. Но грузовик только прибавил газу и быстро проехал дальше. Разбрасывание листовок и газет частично совмещалось с мероприятиями, целью которых было то, чтобы люди не посещали кинотеатры. Население оккупированной и погруженной в траур по ежедневным жертвам террора Варшавы бойкотировало кинотеатры и варьете. Немецкие фильмы, которые демонстрировались в них, были одной из форм геббельсовской пропаганды, преследовавшей цель ослабить дух сопротивления в народе. Они прославляли превосходство немецкой расы господ над другими порабощенными народами, пытаясь убедить польскую общественность в непобедимости немецкого оружия, сломить волю к борьбе и веру в победу. Находились, однако, люди, которых манили неоновые огни кинотеатров и названия фильмов. Часть из них была представлена варшавскими люмпен-пролетариями, была среди них различные мошенники, но были также люди политически несориентированные, идейно отсталые. Первых из них надо было припугнуть, вторым открыть глаза, убедить в лживости пропаганды фашистов. Стены домов в то время были покрыты надписями типа: «Только свиньи сидят в кино». Наряду с этим время от времени предпринимались акции, с тем чтобы создать переполох среди зрителей в кинотеатрах. Стек и его ребята неоднократно разбрасывали листовки и газеты в тот момент, когда люди расходились после просмотра фильмов, порою проводилось «газирование» кинозалов. Любимыми объектами их операций были кинотеатры «Атлантик» и «Полония», несколько раз они проводились в кинотеатрах на Новом Святе. Брошенная в зрительный зал дымовая шашка вызывала неслыханную панику среди зрителей. Однажды от такой шашки в «Атлантике» загорелись шторы на дверях, что привело к закрытию этого кинотеатра на долгое время. В постоянные обязанности секции входил также сбор сведений о противнике: о дислокации в Варшаве немецких войсковых частей и военных учреждений, передвижении войск, настроениях среди немецких солдат. Эти же задания по сбору сведений о противнике выполняли и другие секции Гвардии Людовой. В штабе эта информация тщательно анализировалась. Для молодых гвардистов секции Стека эти задания были далеко не легкими и не безопасными. Ведь ни один из них не имел свободного времени, чтобы, например, усевшись где-нибудь около виадука, подсчитывать количество военных эшелонов, направляющихся на восток. Необходимо было расспрашивать людей, вести записи, а шифровать никто из них не умел. Уже сами разговоры с людьми могли вызвать подозрение. А что было бы, если во время жандармского обыска у кого-нибудь были бы обнаружены записи с подобными данными? Возможно, не всегда лучшим образом, но они старательно выполняли свои первые разведывательные задания: например, добывали сведения о прибытии раненых в три больших немецких госпиталя на Повисле, сообщали данные о некоторых замеченных военных перевозках. Станислав благодаря знакомству с охранниками на своем предприятии и работавшими там поляками, которых он регулярно снабжал газетами, лучше разбирался в настроениях немецких солдат. Оказалось, что большинство кладовщиков, учетчиков и различных интендантов в мундирах, в прошлом фронтовые солдаты, были негодны к несению строевой службы. Многие из них рассказывали теперь об ужасах восточного фронта и о том, что получают от своих родных и близких письма, полные отчаяния, ибо и в тылу стало далеко не безопасно в результате налетов авиации противника. Все более четкими становятся донесения, вручаемые капитану Эдварду. Первоначально для молодых Орловских и для руководимой Стеком секции сбор сведений о противнике являлся своеобразной подготовительной школой — очень важной и необходимой. Однако во время неожиданно начавшегося восстания в варшавском еврейском гетто партия наряду с другими политическими группами и организациями начала мобилизовывать силы для оказания помощи товарищам еврейской национальности. И тогда капитан Эдвард ставит перед Станиславом Орловским конкретную задачу: добыть сведения о силах гитлеровцев за восточной стеной гетто, вооружении, расположении пулеметных гнезд и орудий, наименее укрепленных гитлеровцами пунктах. Секция своими силами должна была представить данные о входах в канализационные туннели, идущие в направлении гетто, составить их схему, узнать, какие входы в подземные каналы охраняются немцами… Все эти сведения были срочно нужны для оказания конкретной помощи восставшим в гетто. Необходимо было также получить данные о гитлеровских подразделениях вокруг гетто и выявить возможности прохода по каналам, чтобы этим путем доставлять восставшим оружие либо эвакуировать отдельных товарищей с наиболее угрожаемых участков. Эта разведывательная работа доставляет молодым гвардистам большое удовлетворение. Участие в операции по оказанию помощи евреям — это, по существу, один из эпизодов деятельности всех членов семьи Орловских в оккупированной Варшаве. Отец, как надсмотрщик рынка и помощник сборщика налогов, в течение определенного периода времени имел даже постоянный пропуск в гетто, на Мурановскую площадь. И хотя семья Орловских сама бедствовала, он всегда ездил туда, имея при себе хлеб для еврейских семей, которые прямо на улицах умирали от голода. Трамвай на Жолибож в то время ходил через гетто. На площади Красиньских, у ворот гетто, в тамбур вагона обычно вскакивали два полицейских охранника. В то же время с другой стороны в вагон часто впрыгивали еврейские дети и прятались среди пассажиров. Орловский-старший из каждой такой поездки через гетто привозил домой одного-двух ребятишек-евреев, которых затем распределяли среди варшавских семей или переправляли за город. Обычно Орловский брал с собой кого-нибудь из своих детей для помощи. Иногда таким помощником была Хеленка, порой и самый меньший — Рысек. Рышард Орловский до сих пор помнит, как однажды в трамвае между ним и отцом примостились двое еврейских детей, которых они привезли к себе на улицу Добрую… Некоторое время их дом служил переправочным пунктом для евреев, совершивших побег из гетто. Они условным сигналом стучались в их дверь, входили измученные, грязные, страшно истощенные. В квартире на Доброй они мылись, надевали чистое белье, затем Сташек, Ежи или Хеленка сопровождали их до окраин Варшавы, где уже ожидали связные из леса, чтобы увести их в партизанские отряды. Нет сомнения, что каждая неосторожность грозила катастрофой. Поэтому во время восстания в гетто через их дом переправляли людей наиболее проверенных. Но даже и при этих ограничениях в дверь их квартиры почти ежедневно раздавался условный стук. Однажды в организации побега еврейских товарищей принимал участие также и Сташек. Это было спустя много месяцев после подавления восстания в варшавском гетто. Однако существовало еще одно, так называемое «малое гетто» на улице Желязной, где гитлеровцы содержали различных специалистов-евреев и возили их на работу на свои военные предприятия. Большая группа евреев использовалась также на заводе, где Сташек Орловский работал учеником слесаря. Там и произошел неудавшийся побег евреев. Как-то по дороге на работу Сташека Орловского остановила какая-то незнакомая девушка и сразу же без подготовки изложила суть дела: знает немецкий язык и хочет работать на этом заводе, но ее не принимают. Ее же интересует только одно — установить связь с группой работающих там евреев. Не может ли Сташек оказать ей помощь в этом деле? Так началось это сотрудничество. От девушки Сташек получил описание и особые приметы людей, с которыми надо было установить связь. По словам девушки, этой группой евреев интересовалась одна организация, которая намеревалась помочь ей совершить побег. Однако ни Сташек, ни сама незнакомка не открыли друг другу своей принадлежности к какой-либо организации. Он был тем не менее уверен, что девушка принадлежала к организации Польской рабочей партии, которая готовила операцию по спасению еще нескольких коммунистов-евреев. Так он стал связным между девушкой и ними. Через него она ежедневно передавала немного провизии, обсуждала план побега. Девушка сообщила ему несколько адресов явочных квартир, где товарищи могли спрятаться после побега. Передав эти данные, он сообщил также адрес на улице Доброй одному из организаторов побега, который вызывал у него наибольшее доверие. Побег планировалось осуществить под вечер небольшой группой, сделав под стеной подкоп, который рыли очень осторожно и старательно. В день побега Сташек на всякий случай на завод не явился. Уже поздно ночью на Доброй раздался условный стук в дверь: в квартиру вошел грязный с головы до ног, истощенный и измученный человек, которому он дал свой адрес. Вошедший рассказал, что побег завершился полным провалом. Подкоп, рассчитанный на несколько человек, был узким. А между тем почти все узнали о его существовании и одновременно ринулись в него. Люди начали задыхаться. Некоторые в отчаянии стали бросаться прямо на колючую проволоку ограждения. По бегущим немцы открыли огонь из пулеметов. Все вокруг превратилось в настоящий ад. Многие были убиты, и только некоторым удалось бежать. На следующий день Сташек узнал, что на территории завода произошло массовое варварское уничтожение людей. Под стенами лежали груды убитых, несколько человек было повешено.
В этих эпизодах нет какой-либо четко выраженной хронологии, так как сделать это довольно трудно. Один день сменялся другим, принося с собой новые задания и новые события. Одна боевая операция переплеталась с другой. Секция, которой руководил Сташек Орловский, также подверглась реорганизации и изменениям. Товарищи уходили согласно распоряжениям капитана Эдварда на выполнение заданий в другие специальные секции, даже в спецгруппу, которая действовала при штабе Гвардии Людовой, а позднее при штабе Армии Людовой. Ушел от них Покрывка (Козёлек), а на его место пришел муж Марии, Витольд Курковский (Стах), однако ненадолго. Капитан Эдвард определил ему новое опасное задание. После принятия присяги в их секцию пришла младшая сестра Хеленка. В деятельности секции стал принимать участие и маленький Рысек. Однако, несмотря на все изменения, ядро группы по-прежнему составляли Орловские и Архициньские. В 1942 году Сташек Орловский первым из их группы был принят в партию. Ему тогда было семнадцать лет. Он и Ежи, невысокого роста, худощавые, производили впечатление детей. Возможно, поэтому капитан Эдвард как-то щадил их секцию, не поручая им особо опасные боевые операции с применением оружия, хотя они так мечтали об этом. Как и прежде, в их квартире всегда бывает много оружия. Отсюда его забирают связные и спустя некоторое время приносят обратно. Отсюда по приказу капитана Эдварда они сами разносят оружие на различные промежуточные пункты и потом забирают. Это обычно делается в тех случаях, когда готовится какая-нибудь вооруженная акция. Какая? Об этом им нельзя даже спрашивать. Их задание — доставить оружие и забрать его обратно, и все. Однако ребятам очень хочется испытать, что чувствует человек, когда с оружием в руках он идет на выполнение боевого задания. Секция Стека по-прежнему используется для выполнения все тех же операций. Только дважды им приказали с оружием в руках держать под наблюдением участки некоторых улиц. Так было, например, когда разоружали немцев, правда, не они, а другие товарищи. Ребята шли на эти задания, имея строгий приказ: оружие применять только в случае крайней необходимости. В переноске оружия через город участвовали все Орловские, даже Хеленка и маленький Рысек. Девятилетний мальчик сначала даже не знал, что носил в своем ранце. Он получал только адрес и пароль, а также приказ отнести полный ранец, а вернуться с пустым. Но однажды он заглянул в ранец и обнаружил в нем два пистолета. И вполне обоснованно у него возникло чувство обиды на отца и старших братьев: почему они ничего ему не сказали? В то тяжелое время даже маленькие дети учились проворству и ловкости. Однажды Рысек вместе с отцом возвращался домой из Праги. Его ранец и сумка отца были наполнены оружием. Они были уже на Новом Зъязде, когда столкнулись с жандармским патрулем. Все пути для отхода были перекрыты. Рысек уже видел прямо перед собой людей с поднятыми руками, которых обыскивали жандармы. Решение мальчика созрело мгновенно: он вырвал из рук отца сумку и прыгнул в сторону. В то время обочина Нового Зъязда была выложена каменной плиткой. Рысек сел на эти плитки и, как на санках, съехал вниз. Штаны превратились в лохмотья, на теле остались кровавые ссадины, которые впоследствии мучили его не менее двух недель. Но все это не имело большого значения: сумка и ранец с оружием были при нем, и сколько жандармы ни обыскивали отца — ничего не могли найти. Квартира на улице Доброй в течение определенного времени служила также в качестве вспомогательного склада оружия, которым, однако, чаще всего пользовались члены других секций. Сташек и Ежи на чердаке дома оборудовали даже специальные тайники для его хранения. Главной проблемой для Гвардии Людовой по-прежнему являлась явная нехватка оружия, которое гвардистам приходилось добывать у врага, поэтому очень часто проводились операции по разоружению немцев. Кроме того, прибегали даже к покупке оружия у самих оккупантов. Однажды Сташек, возвратившись на своем велосипеде домой с работы, выложил на стол разобранный на части немецкий автомат. Он купил его на территории завода у немецкого солдата. Вообще велосипед в жизни Сташека значил многое: без него ему ни за что не удалось бы в течение одного дня побывать и в школе, и на работе на Жолибоже, и во многих других районах города. Он всегда привозил с собой что-нибудь. Работая в течение стольких лет на территории базы снабжения, он неплохо освоил немецкий язык. Познакомился также с местными охранниками, которые привязались к нему и очень любили поговорить с ним просто о делах житейских. Со своей стороны он всегда старался тайком пронести для них бутылку самогона, никогда не уклонялся от бесед. И поэтому они доверяли ему. В ходе именно этих бесед Сташеку удавалось добыть много различных сведений, которые затем он передавал капитану Эдварду. Как раз в то время к Сташеку обратился один из охранников и рассказал, что к нему приехал с фронта знакомый солдат, который едет к семье в отпуск. Однако обстоятельства сложились таким образом, что в Германию он едет почти с пустыми руками. Этот солдат был готов продать что угодно, лишь бы только добыть немного денег. Нет ли у Сташека знакомых покупателей, но только таких, на которых можно положиться и которые его не выдадут. Сташек Орловский решил играть напрямую: в случае чего — все превратит в шутку. Конечно, покупателя можно найти, но только на автомат. У него, например, сочинял он, есть один знакомый, который живет на окраине города и очень боится быть ограбленным, так как имеет немного денег. Однажды он признался, что если бы у него был автомат, то чувствовал бы себя намного безопаснее. Сделка была завершена неожиданно быстро. На следующий день Сташек принес деньги, полученные от капитана Эдварда, и получил от охранника старательно упакованный автомат — тот самый, который он привез на велосипеде. Особенно легко можно было купить оружие в период, непосредственно предшествующий началу Варшавского восстания. Гитлеровские войска в это время в панике отступали, и через Варшаву ежедневно проходили толпы солдат из разгромленных немецких воинских частей. Пользуясь особым расположением к нему со стороны охранников, которые на многие вещи смотрели сквозь пальцы, Сташек прямо на их глазах начал таскать со склада то пару ботинок, то китель или брюки, иногда эсэсовское нательное белье, теплое одеяло и т. п. Все это было нужно для Гвардии Людовой: ведь не было такого дня, чтобы кого-нибудь не переправляли из Варшавы в партизанские отряды. Даже самые скромные предметы обмундирования были на вес золота. Особенно это касалось одежды, одеял, белья, обуви. Но самым ценным было, конечно, оружие. И поэтому эсэсовцы, не обращая особого внимания на небольшую недостачу тех или иных вещей на складах, очень тщательно контролировали наличие оружия. Взять что-нибудь из оружия со склада было равносильно самоубийству. Оружие. Даже занятия по его изучению, которые проводились в течение этих двух лет, доставляли Орловским и другим гвардистам секции Стека огромное удовольствие. Занятия также проходили на квартире Орловских. Сюда приходили все члены секции, здесь под руководством опытных инструкторов гвардисты знакомились с различными системами пистолетов, боеприпасами, учились разряжать гранаты и мины. Насколько увереннее они чувствовали себя в тот момент, когда у них в руках было оружие, когда рукоятка заряженного пистолета холодила ладонь, когда они узнавали устройство гранаты, когда инструктор учил их ведению огня из автомата очередью или одиночными выстрелами! Тот день 1944 года был неудачным. К этому времени спецсекция Гвардии Людовой уже давно преобразовалась в секцию Армии Людовой. Ее члены отлично освоили оружие, однако занятий по матчасти никто не пропускал. Все заняли места за столом. Перед каждым лежал пистолет. Инструктор еще раз показал, как разобрать его, и дал задание быстро проделать все операции самостоятельно. И именно в этот момент Хуго совершил непоправимую ошибку. Он вынул магазин из пистолета и, будучи уверенным, что в стволе не было патрона, вытянул руку, затем опустил ее и нажал на спусковой крючок. В комнате раздался выстрел, и сидящий у края стола инструктор со стоном упал на пол. Звук выстрела был настолько сильным, что в течение нескольких минут в ушах находящихся в комнате стоял звон. Не было сомнения, что этот выстрел должны были слышать во всем доме, так как из-за невыносимой жары окно было открыто, лишь занавешено желтой шторой. Только спустя несколько секунд до сознания Станислава дошло, что в их доме жили два фольксдойче. Он взглянул на окно: через слегка приподнятую штору дуновение ветерка выносило на улицу голубоватые струйки дыма, а там на балконах, должно быть, сидели люди… Он оглянулся: в открытых дверях стояла его мать, лицо ее было бледным и испуганным. Она была единственным человеком в семье, который не был посвящен в тайны детей. Мать с ужасом смотрела на разобранное на столе оружие и на лежащего на полу в луже крови незнакомого ей молодого человека. — Мама, быстрее воды и какой-нибудь бинт! — Сташек, не задумываясь, взял на себя роль старшего. Он прекрасно понимал, что сейчас надо было действовать быстро и решительно. — А вы куда? — крикнул он двум хлопцам, которые испугались и кинулись к выходу. — Всем оставаться на своих местах! Ендрек, бери пистолет и смотри за дверью! Всем остальным быстро собрать оружие и зарядить. Паника временно была ликвидирована. Все это происходило в гнетущем молчании, так что можно было отчетливо слышать тот переполох, который вызвал звук выстрела во всем доме. Люди бегали по лестницам, на разных этажах открывались и закрывались двери, жильцы спрашивали друг друга о том, что произошло. Около раненого инструктора хлопотали мать и Хеленка. Пуля прошла через бедро, повредив, видимо, артерию: сильно текла кровь. Мать, как умела, забинтовала рану, однако это не очень помогло. Необходимо было ногу туго перетянуть жгутом, а самого раненого положить на кровать. Из-за большой потери крови он то и дело терял сознание. Постепенно движение и шум голосов затихли, лестничная клетка опустела. Станислав вспомнил, что капитан Эдвард дал ему номер телефона, по которому он должен был позвонить в случае, если произойдет что-либо чрезвычайное и потребуется помощь. Но кто пойдет звонить? Лучше всего это мог сделать отец. Соблюдая осторожность, они перенесли оружие в тайники на чердаке. Орловский-старший возвратился и сообщил, что скоро должны прийти за раненым инструктором. Оружие же еще сегодня необходимо переправить в другое место, где его заберут связные. Только после этого Стек разрешил нескольким ребятам по одному выйти из дому. Оба Архициньские должны были остаться и помочь перенести оружие. На кровати лежал раненый человек, а в полу было видно отверстие, пробитое пулей. Что было бы, если бы в этот момент нагрянули поднятые по тревоге немцы?! Наконец раздался условный стук в дверь. Вошли два молодых человека, один из которых, назвавшись Кубой и выяснив, каким образом был ранен инструктор, сразу же принял решение. Пострадавший не должен оставаться в их квартире — ему необходима срочная врачебная помощь, в противном случае он изойдет кровью. Оружие в течение часа необходимо доставить на угол улицы Каровой и Костюшковской набережной, где его заберут связные. Однако сначала надо увести раненого. — Есть в доме водка? — спросил Куба. В те трудные времена, когда почти каждый торговал чем мог, всегда можно было найти бутылку самогона, предназначенную для продажи. Куба и его напарник сделали из бутылки по нескольку глотков, смочили самогоном себе лица и лацканы пиджаков, а также дали глоток раненому. Затем одели, подняли под руки пострадавшего, который совершенно ослаб, не мог стоять на ногах, качался и готов был в любую секунду упасть. — Откройте дверь! — приказал Куба. Стараясь произвести как можно больше шума, они спустились по лестнице. Шатаясь от стены к стене, громко разговаривая и ругаясь, они производили впечатление трех сильно подгулявших молодых людей. Так они прошли через ворота, возле которых сидела дворничиха. Она с любопытством оглядела их и бросила вдогонку несколько оскорбительных слов: — Э, напились-то как средь бела дня, свиньи, шпана! Такими их и видели люди с балконов. Когда они дошли до угла улицы, возле них остановилась пролетка, в которую и усадили раненого. Вся операция была проделана быстро и четко. Оставшимся же в квартире Орловских предстояло срочно перенести оружие в указанное место. Но каким образом? Взять и разложить по сумкам? Однако после случившегося это казалось слишком рискованным. Несмотря на то что оружия очень много, решили перенести его спрятанным под одеждой. Ребята разложили гранаты по карманам, засунули каждый по нескольку пистолетов за пояс. Один из братьев Архициньских, перекинув через плечо автомат, спрятал его под пальто. Из дому они выходили по одному. В тот момент, когда Сташек, переходя улицу напротив школы, в которой немцы устроили военный госпиталь, оказался у ворот почти рядом с часовым, он вдруг почувствовал, что один из пистолетов выскользнул у него из-за пояса и через мгновение с грохотом упал из штанины на тротуар. Сташек замер на месте: что будет дальше? Неужели их весь этот день будут преследовать одни неприятности? Он внимательно смотрел на часового. Но как раз в тот момент, когда пистолет упал на тротуар, что трудно было не заметить, часовой круто повернулся назад и начал спокойно удаляться в глубину двора госпиталя. Сташек поднял оружие, снова заткнул его за ремень, внимательно проследил за удалявшимся размеренным шагом часовым и только после этого, постепенно ускоряя шаг, догнал ребят. Все, что произошло, заметил только Ежи. В условленном месте их уже ожидали связные. Ребята отдали оружие и только тогда почувствовали, как в течение последних двух часов напряжены были их нервы.
К заданиям, которые время от времени капитан Эдвард передавал через Стека членам секции, относились также диверсии против немецких военных автомашин. Стек непосредственно от капитана Эдварда получал коробки со специально подготовленными детонаторами. Ребята затем разбрасывали их на дорогах, по которым наиболее часто проходили немецкие военные автоколонны. При наезде колеса такой детонатор взрывался, разрушал покрышку и камеру, и автомашина на некоторое время выходила из строя. Детонаторы делались плоскими, серого цвета, чтобы их не было видно на асфальте либо брусчатке мостовых. Умело разложив их в определенном порядке, можно было остановить целую автоколонну. Например, следовавший сзади грузовик при объезде остановившейся перед ним машины тоже наезжал на уложенный сбоку детонатор. Таким образом блокировалась вся проезжая часть дороги. Наибольший размах такие диверсии приняли в июле 1944 года, когда через Варшаву поспешно отступали колонны немецких войск, разгромленных на Восточном фронте. Орловские и гвардисты из их секции действовали главным образом на Гроховской и Радзыминьской улицах, Гданьской и Костюшковской набережных, а также на мостах. Это они вместе с другими товарищами создавали огромные пробки на этих улицах, вызывая среди гитлеровцев в Варшаве суету и замешательство. Одновременно секция получила новое задание: сбор данных об отступающих войсках. В это время вся Варшава, и особенно варшавская молодежь, жила мечтой только об одном — о вооруженном восстании. О том, чтобы ударить по отступающим деморализованным фашистам, отомстить за все преступления гитлеровцев в годы оккупации, добыть оружие, принять активное участие в освобождении Варшавы, которое казалось уже таким близким. Однако когда через Варшаву прошел этот поток разбитых войск, через мосты над Вислой с запада на восток опять двинулись новые, отдохнувшие, отборные части гитлеровских войск. Орловские и ребята из их секции начали посылать в штаб капитану Эдварду сообщения о передвигающихся колоннах. Снова возобновились операции по разбрасыванию под колеса автомашин детонаторов, чтобы хоть как-нибудь затормозить, приостановить их продвижение.
Это были последние дни перед началом Варшавского восстания. Очень трудные дни. Уже прошло около месяца, как их квартира на улице Доброй перестала быть явочным пунктом; оружие, хранившееся в ней, перенесли в более надежное место. Сами Орловские получили указание прекратить какие-либо контакты с другими членами организации. Даже Стек не имел непосредственной связи с капитаном Эдвардом. Однажды в их дверь раздался стук, но совершенно отличный от того, каким к ним стучался кто-либо из товарищей. И прежде чем отец успел открыть дверь, снаружи загрохотали прикладами автоматов. — Немедленно открыть! Уголовная полиция! С автоматами в руках в квартиру вломились несколько человек в форме и двое одетых в штатское. Лица их были угрюмы и перекошены злобой. — Где есть этот бандит, Станислав Орловский? Сташека как раз не было дома: он был на занятиях в школе. Мать с младшими детьми тоже куда-то вышла. В квартире остались только отец и Ежи. — Где есть этот бандит, Станислав Орловский? — грозно повторил немец. — Мой сын не бандит, — пробовал объяснить отец. — Он учащийся профессиональной школы, сегодня у него занятия. Должен скоро вернуться… — Хорошо, мы подождем, — сказал один из немцев. — А вы быстро выкладывайте, где у вас спрятано оружие! Быстро! Где оружие? — И свой крик он сопроводил ударом кулака. В то время, когда жандармы допрашивали отца, Ежи лихорадочно соображал: он знал, что в доме нет оружия. Но газеты! В кухне на столе под скатертью их лежало несколько штук. Он украдкой посмотрел вверх. Целая связка газет была спрятана в абажуре. Эти, возможно, не найдут, если не будут, конечно, смотреть на лампу, но в кухне!.. Тем временем немцы выбрасывали из шкафа одну вещь за другой, перевернули постели. Тот из них, который с самого начала пристал с расспросами к отцу, все еще тыкал в него стволом пистолета, допытываясь об оружии. Ежи кое-как все же удалось на минуту выскользнуть в кухню. Выхватив из-под скатерти газеты, он скомкал их и одним движением руки выбросил в окно, выходящее во двор. И в тот же момент застыл в оцепенении: а что, если дом окружен? Если другие жандармы стоят на улице? Только позднее оказалось, что газеты упали на кучу кокса и остались никем не замеченными. Один из двух гестаповцев в штатском начал допрос отца. По-польски он говорил очень неплохо. — Скажи нам, отец, где у вас спрятаны, к примеру, «яйца»? Скажешь, будешь жить! Не скажешь, умрешь вместе с твоим сыном-бандитом и всей своей семьей!.. Орловский-старший старался сделать вид, будто не понимает, что речь идет о гранатах. — Надо было сразу так и спросить, а не драться, — сказал он и проводил немцев на кухню. Затем, открыв ящик, пристроенный под подоконником, вытащил из него большой глиняный горшок. В тот же момент один из немцев вырвал горшок из рук отца, и на пол посыпались какие-то завернутые в газету круглые предметы. Немцы с криком отпрянули в сторону, а на полу… лежало несколько разбитых яиц. Гестаповец побагровел от злости. Он с размаху ударил старого Орловского рукояткой пистолета по голове. Удар был настолько сильным, что отец свалился с ног. — Я тебя спрашивал не об этих яйцах! — заорал немец. — А ты нас за дураков принимаешь! А ну показывай! Орловский-старший, по-прежнему делая вид, что он не понял, чего от него хотят, показал еще один горшок. Один из немцев сунул в него руку и вытащил ее, вымазанную яичным желтком. Все запасы продовольствия, которые так старательно делала хозяйка, были испорчены. — Говоришь, что сын в школе? Проверим. Проверим также, почему он еще не вернулся. Соседи тоже кое-что скажут. Один из немцев возвратился от ближайшей соседки Орловских, которая сказала, что семья эта очень порядочная, спокойная, дети учатся и работают… — А где работает Станислав? — поинтересовался один из гестаповцев. — У вас. — Отец показал на немецкие мундиры. — У вас на Жолибоже, у таких, которые носят черепа на фуражках, наверное, в СС… Эти слова вызвали среди немцев смятение. Они посовещались и, в конце концов, собрались уходить. — Сын Станислав должен завтра явиться в уголовную полицию, — сказал один из одетых в штатское. — Он должен принести с собой документ, подтверждающий, что был сегодня на работе и в школе. А мы все это проверим. Если это не подтвердится, то… — Он не договорил и сделал жест рукой вокруг шеи, как бы накидывая петлю. Так неожиданно окончился этот обыск. Станислав вернулся буквально несколько минут спустя. Возвращаясь домой, он увидел гитлеровский фургон, какую-то легковую машину и предпочел немного подождать. Было очень трудно принять решение, что делать в сложившейся обстановке. Прежде всего необходимо срочно оповестить всех товарищей, что их квартира как явка временно провалилась. Другая проблема: что должен завтра делать Станислав? Идти утром прямо в пасть льву или бежать, скрыться? Выбрали первый вариант. Рано утром он вскочил на велосипед. Получил в школе подтверждение, что вчера вечером был на вечерних занятиях. В секретариате ему сообщили, что немцы уже наводили о нем справки. Затем поехал на Жолибож. В канцелярии ему без затруднений дали справку о том, что вчера он был на работе. Пользуясь оказией, он продлил свой аусвайс. Со всеми этими документами в двенадцать часов дня он явился в комендатуру немецкой уголовной полиции. Немец, к которому он обратился, долго изучал врученные ему документы. — Твое счастье, — сказал он. — Мы это уже проверили. Все совпадает. Можешь идти. Мать, как бы что-то предчувствуя, собрала все наличные деньги и отправила всю семью за покупками. Отец и Ежи, которые делали закупки недалеко, домой вернулись первыми. Станислав же последнюю часть пути пробежал уже под обстрелом, пробираясь боковыми улочками, чтобы попасть домой. Мать, которая уехала в Старое Място, так и не вернулась: она погибла под развалинами. Не вернулись также Хеленка и Рысек. Начало восстания застало их на улице Сенной, и там вместе со своими ровесниками они сразу же включились в строительство баррикад, подносили воду раненым. В первые часы восстания Сташек и Ежи с крыши своего дома наблюдали, как отряды Армии Крайовой штурмовали варшавскую электростанцию. Они восхищались отважными людьми с бело-красными повязками на рукавах. Ребята же были только зрителями. Если бы у них было оружие, они могли бы открыть огонь по группе жандармов, которая сосредоточилась за грудой угля, чего не могли видеть восставшие. Но у ребят не было оружия. Неожиданный обыск у них на квартире прервал все контакты. Как помочь восставшим? Ребята начали кричать с крыши дома, предупреждая атакующих. Их услышали. Восставшие стали окружать немцев. Уже валялись на земле тела убитых жандармов. Наконец немцы подняли руки вверх — сдаются. Смелым был этот штурм, замечателен успех! Тем временем вся улица Добра оказалась под обстрелом. С территории Варшавского университета вели огонь танки и стреляли снайперы. Обстрел велся со стороны виадука и из других пунктов, так что трудно было перебежать на другую сторону улицы. На тротуарах и мостовой лежали тела первых убитых. Утром следующего дня началось строительство баррикад и укреплений. Вместе с солдатами Армии Крайовой приступили к строительству баррикад и оба младшие Орловские. Они понимали, что это их первая обязанность. Затем они начали искать отряды Армии Людовой. Измученный Ежи на минуту присел в тени отдохнуть. Уставший и потный Сташек вывернул из тротуара каменную плиту и понес ее на вершину баррикады. Что было дальше, он не помнил. Был только свист летящего снаряда и грохот обрушивающихся стен. Вот что рассказал Ежи: — Это был снаряд, выпущенный из немецкого «тигра». Их много стояло на территории Варшавского университета. Секторы обстрела для них были очень удобными. Снаряд попал в угол дома, осколками и обломками стены были убиты и ранены многие из тех, кто строил баррикаду. Сташек был тяжело ранен в бедро большим осколком. Мы принесли его домой. Он впал в беспамятство из-за потери крови, необходимо было на месте сделать переливание крови. Осмотр раненого произвела врач-дантист, так как другого специалиста не было. Одна из девушек вызвалась стать донором. Несмотря на то что условия были чрезвычайно примитивные, операция прошла успешно. Позднее брат был перенесен в детскую больницу на улице Коперника. С каким удовлетворением я наблюдал сцену, когда носилки с тяжело раненным братом несли немцы, взятые в плен при вчерашнем штурме электростанции… Так уж случилось, что на второй день восстания Сташек Орловский, который так рвался в бой, был тяжело ранен. В больнице он пролежал почти месяц. Вместе с ним в одной палате лежали немецкие жандармы, которые обороняли от восставших электростанцию. Отношение к ним было самое гуманное. Врачи их оперировали, они получали такие же продовольственные пайки, как и раненые поляки. Однажды ночью в больницу ворвались вооруженные до зубов немцы с повязками Красного Креста на рукавах, не скрывающие, однако, своих преступных намерений: забрать своих солдат и перебить поляков. Но когда они узнали, как обращались с ранеными немцами, то умерили свой пыл. Это была случайная группа с территории Варшавского университета, которой удалось пробраться к больнице лишь благодаря повязкам Красного Креста. Несмотря на заверения немцев, что они не будут стрелять по больнице, через несколько дней немецкий снаряд угодил прямо между окон больничной палаты. Снова появились раненые. Началась быстрая эвакуация на заранее подготовленные частные квартиры. Врачи и сестры работали не щадя своих сил, а раненые все прибывали. В больнице на улице Коперника Сташека навестили отец и Ежи. От них он узнал, что брату удалось найти штаб Армии Людовой, которым руководил майор Сенк-Малецкий, в районе Повисле. Однако связь с Ежи скоро оборвалась. Почти весь район Повисле оказался в руках немцев. Больница срочно была эвакуирована в центр города. Здесь они оказались в очень трудных условиях. Раненых было много, они поступали сюда со всех районов города, поэтому подлеченных и легкораненых отправляли в строй либо по домам. Сташек вышел из больницы на костылях. В течение всех лет оккупации он мечтал о том, чтобы бороться с врагом с оружием в руках. Получилось так, что он был назначен командиром спецсекции Гвардии Людовой, главной задачей которой была, однако, пропагандистская работа. Сколько оружия было в их квартире — и ни одной настоящей боевой операции с участием его группы ни перед этим, ни после, когда они уже составляли подотряд Армии Людовой! Затем донос и обыск в их квартире привели к тому, что в тот момент, когда началось восстание, они оказались совершенно без оружия. И вот сейчас боролись все кроме него. Он был теперь на костылях, хотя борьба еще не была окончена. Именно в это время он узнал, что в районе улицы Вильчей действует какой-то большой отряд Армии Людовой. Сташек проник в расположение отряда и предстал перед его командиром. Справедливо сказано, что мир тесен. Перед ним стоял тот самый товарищ, который принимал у него присягу солдата Гвардии Людовой — майор Сенк-Малецкий. Почти со слезами на глазах Сташек рассказал ему о своей беде. Он говорил о том, как ему хотелось воевать, что он очень желает быть полезным. Сенк-Малецкий тоже узнал мальчика. Как помочь ему? — Есть только один выход, — сказал он. — Будешь моим адъютантом. В таком состоянии ты еще не пригоден к строевой службе. В группе Армии Людовой на Вильчей сражалось около 150 человек. В ряде районов они осуществляли операции вместе с отрядами Армии Крайовой. К сожалению, высадившиеся отряды 1-й армии Войска Польского были вынуждены оставить плацдарм в районе Чернякува. Советские и польские самолеты сбрасывали восставшим оружие и снаряжение. В районе площади Трех Крестов приземлились с парашютом два советских офицера, которые поддерживали радиосвязь с правым берегом Вислы и руководили огнем артиллерии, указывая координаты немецких объектов, помогали в выборе пунктов десантирования, инструктировали восставших, как пользоваться советским оружием. Сташек Орловский первоначально передвигался на двух костылях, затем начал прибегать к помощи только одного. Он старался быть как можно более полезным: передавал отдельным отрядам приказы майора Сенк-Малецкого, приносил ему донесения, участвовал в приемке десантов с оружием, проверял боевые посты. Однажды он встретил своего старого знакомого — Миколая Кузьмича, который в свое время привел его в ряды Союза борьбы молодых. Кузьмич подтвердил сведения, о которых уже говорил майор Сенк-Малецкий. В районе Старого Мяста под развалинами дома погибли все члены варшавского штаба Армии Людовой. Видимо, там же погиб начальник штаба, капитан Эдвард Лянота. Сам Кузьмич как бы мимоходом сообщил, что собирается на другой берег Вислы. Но больше сказать он ничего не захотел. Только позже Станислав Орловский узнал, что Миколай Кузьмич переправил на правый берег Вислы двух связисток Армии Людовой, что во время переправы он был ранен, а одна из девушек начала тонуть, но благодаря его помощи обе счастливо добрались до места назначения… За два дня до капитуляции восставших Сташека Орловского ранило еще раз — пуля попала в другую ногу. В плен Станислав шел на двух костылях. Он прошел через лагерь для военнопленных в Ламбиновицах, потом — Бавария, Аугсбург. Домой Сташек вернулся только в 1946 году.
После того как Ежи расстался с братом, он не мог найти себе места. Они всегда были неразлучны, всегда Сташек был для него тем человеком, от которого исходила инициатива, он всегда был впереди. Теперь же, когда необходимо было действовать, Сташека тяжело ранило, и он находился в больнице, а Ежи был предоставлен самому себе. Он знал только одно, что не должен ждать, что надо действовать. На его счастье в их квартире на улице Доброй однажды появился Сенк-Малецкий. Майор сказал, что начало восстания явилось неожиданностью для всех группировок Армии Людовой в Варшаве. Сам он был командирован варшавским штабом Армии Людовой для создания отрядов на территории районов Повисле, Чернякува, Сьрудмесьце. Вопрос теперь был в том, чтобы включиться в борьбу вместе с отрядами Армии Крайовой. Сенк-Малецкий дал Ежи адрес, где располагались бойцы Армии Людовой, куда он и явился. Группа была сравнительно небольшой, оружия не хватало. Его принял какой-то поручник, и в первый же день он вместе с несколькими такими же мальчиками получил боевое задание: они должны обеспечить боевую поддержку отряда, действовавшего в районе Воли, где продолжались еще последние затяжные бои. Группа должна была проникнуть на территорию складов транспортной фирмы Хартвига и вынести оттуда ящики с оружием. Ежи выдали две гранаты. Не без трудностей, пробираясь через районы, уже частично занятые немцами, они прибыли на место. Вокруг них пылали дома и шла перестрелка. Ребята были не в состоянии перенести весь груз за один раз, и Ежи с частью ящиков остался в подворотне одного из домов. Каждую минуту могли появиться немцы. Чтобы избежать неприятностей, ребята должны были вернуться не со стороны улицы, а через двор. Там они натолкнулись на перепуганных жильцов, которые не знали, что им делать и куда убегать. Выстрелы все приближались. Ежи чувствовал, что нервы у него натянуты, как струны. Каждый звук шагов со стороны улицы мог принадлежать немцам, а у него нет никакого оружия, чтобы обороняться, только две гранаты. Напряжение достигло предела, когда до него донесся стук в ворота. Немцы?! Ежи вытащил гранату из кармана и даже выдернул чеку, но вдруг отчетливо услышал, что с той стороны ворот говорили по-польски. Люди побежали к воротам и открыли их, а Ежи все еще продолжал стоять с гранатой в руке. Вернулись за ящиками ребята из его группы. Они не могли пройти дворами, так как пути были перекрыты немцами, поэтому было принято решение идти через улицу. Это был их последний поход на Волю, которая вскоре пала. В памяти стирается хронология тех дней. Снова одна из многих, похожих одна на другую ночей. Чтобы немного отдохнуть, они покидали баррикаду на Маршалковской, где отряд Армии Людовой вел многочасовую оборону. Их было семь или восемь человек. Ежи и его товарищи уже прошли солидный участок пути, когда со стороны Саксонского парка раздался ужасающий грохот. Этот неоднократно повторяющийся грохот навсегда запомнили люди, которые пережили Варшавское восстание. Он означал, что немцы запускали реактивные снаряды большой разрушительной силы, которые варшавяне называли «шкафами» или «ревущими коровами». Скорее в укрытие! Посредине Маршалковской была какая-то огромная воронка, оставшаяся после взрыва авиабомбы. Командир группы вместе с солдатами бросился на дно этой гигантской воронки. Ноги Ежи как будто бы приросли к земле: он испугался. Наконец одним прыжком он все же добрался до пролома в стене дома. И почти в тот же момент несколько«коров» попали в соседние дома. Последствия взрывов были ужасны, они снесли с лица земли целые многоэтажные дома. Ежи почувствовал, что его рот полон пыли и извести. Взрывная волна с огромной силой бросила его на землю, и он на минуту потерял сознание. Когда он пришел в себя, все было кончено. Мальчик вскочил и бросился к воронке, в которой укрылись его товарищи. Прибежав на место, он увидел груды развалин, услышал чей-то стон. Ежи бросился через Маршалковскую к другой баррикаде, однако он не знал пароль, и поэтому ему долго пришлось лежать перед баррикадой, пока восставшие не убедились в том, что он свой. Он позвал их на помощь засыпанным товарищам. Вид, открывшийся им, привел их в ужас: здесь из-под обломков торчала рука, там нога. Но, к общей радости, всех откопали живыми. Некоторые были ранены, но после перевязки быстро вернулись в строй. Вскоре, на углу Нового Свята и Варецкой, Ежи попал под обстрел. Он почувствовал удар и потерял сознание. Рана оказалась не опасной — пробито предплечье, но, несмотря на это, рука пухла прямо на глазах. Он носил ее на перевязи, как что-то совершенно чужое. Именно в это время он посетил в больнице брата. Приближались последние дни восстания в Повисле. Уже было известно, что в каждую минуту может начаться эвакуация в район Сьрудмесьце. Ежи с отцом отправились в квартиру на улице Доброй, чтобы спасти кое-что из вещей. Они забрали с собой какую-то одежду, немного белья, остальные вещи отец спрятал во дворе в складской стене. При возвращении оказалось, что дорога перерезана. Напрасно они бегали по боковым улицам, им не удалось выйти к своим. Так их и застала ночь. Они уже не понимали, где находились немцы, где свои. Ночь провели в саду монастыря. Утром они узнали, что все вокруг было занято немцами, которые начали выгонять жителей из домов. Что делать? Ничего не оставалось, как закопать оружие, бело-красные нарукавные повязки и удостоверения солдат Армии Людовой. Закончив эти приготовления, они вышли на улицу и сразу же попали в руки немцев, которые выселяли в этот момент людей из соседнего дома, старательно всех обыскивая. И снова — в который раз! — отец принял моментальное решение: Орловский-старший подтолкнул сына в сторону тележки, на которой лежала какая-то старушка, и вот уже они оба тянут за собой повозку… Начался длинный, изнуряющий путь, путь в сторону Воли. Ежи приходилось прятать свою раненую руку, так как расставленные по улицам эсэсовцы один за другим вытаскивали из толпы молодых мужчин, особенно раненых, чтобы через минуту расстрелять в развалинах домов. Они зверски издевались над женщинами. Затем отец и Ежи попали в лагерь в Прушкуве, откуда им помог бежать какой-то врач, которого очень беспокоило состояние руки Ежи. После пребывания в деревне они одни из первых вернулись в разрушенную Варшаву, чтобы, как и тысячи других влюбленных в свой город варшавян начать голыми руками восстанавливать ее заново…
Первые выстрелы застали Хеленку и Рысека на улице Сенной. Молодые люди, на рукавах которых были повязки Армии Крайовой, уже возводили там первую баррикаду. Хеленке в то время было четырнадцать лет, а Рысеку только недавно исполнилось десять. Без единого указания и тем более принуждения они отставили в сторону свои кошелки (мать их послала за покупками) и вместе со всеми принялись за работу. Когда командир отряда — молодой симпатичный поручник — узнал, что детям перекрыта дорога домой, он предложил им остаться в отряде и быть связными. Он сразу же позаботился об ужине и ночлеге для них. Совсем рядом, на Сенной, находился Дом ребенка. Его кухня служила теперь повстанцам. Хеленку и Рысека поместили туда. Дети помогали взрослым на кухне, носили воду и провизию. Эта работа занимала у них целые дни. Однако день ото дня она становилась все опасней, так как все чаще путь до склада и обратно проходил под обстрелом. Немцы все усиливали атаки на позиции восставших. К складам с водой и провизией уже было не пробраться даже мыши, а раненые прибывали. Рышард Орловский до сих пор помнит шепот умирающих: «Воды!» Но воды уже не хватало даже тяжелораненым. В этих условиях начались походы за водой по местам, где еще сохранились колодцы. Лишь дети могли туда проникнуть. Трудно подсчитать сегодня, сколько фляжек и бидонов воды они доставили в те трудные дни. Сохранились в памяти, однако, другие переживания: адский грохот «шкафов», рушащиеся вокруг до самого основания дома, раненые и убитые. Взрыв очередного снаряда. Мгновение — и несколько только что улыбавшихся детей превратились в окровавленные бездыханные тела. Он уже не помнит, боялся ли он тогда. Помнит только, что оба они с Хеленкой хотели быть нужными до самого конца. Рысек все время находился недалеко от командира. Передавал донесения, подносил боеприпасы, под пулями ходил за водой, закладывал камнями поврежденные участки баррикады…
Станислав и Ежи Орловские закончили свой боевой путь в звании хорунжего. Сегодня Ежи подпоручник запаса. Оба Орловских рядом с памятными военными медалями и Грюнвальдскими знаками отличия носят также Партизанские кресты и почетные золотые знаки «За заслуги перед Варшавой». Оба они, несмотря на молодой возраст, официально признаны заслуженными деятелями рабочего движения. Сразу же после освобождения полковник Сенк-Малецкий представил обоих Орловских к награждению Крестом Грюнвальда. Хеленка и Рысек также награждены Грюнвальдскими знаками и медалями «За Варшаву». Когда сразу же после войны двенадцатилетний Рысек Орловский появился в морской школе с Грюнвальдским знаком на лацкане, учитель даже хотел отобрать его у мальчика: он был возмущен, что дети играют военными наградами родителей. Рысеку пришлось показать удостоверение, и после этого классный воспитатель смотрел на него с уважением. Все четверо Орловских получили знаки «Сын полка». Что делают Орловские сегодня? Станислав работает в Бюро Знака качества Центрального управления качества и мер. Он является партийным активистом. За свою военную и партийную деятельность в годы оккупации, а также общественно-политическую работу после освобождения он был награжден Кавалерским Крестом ордена Возрождения Польши. У Станислава двое взрослых сыновей. Ежи Орловский принимал активное участие в работе молодежных и партийных студенческих организаций. Он окончил юридический факультет Варшавского университета. В настоящее время работает в министерстве юстиции. Как и старший брат, он является партийным и профсоюзным активистом и также гордится Кавалерским Крестом ордена Возрождения Польши, которым он был награжден за партийную и военную деятельность в годы оккупации и общественно-политическую работу после освобождения. Выросли и уже стали родителями Хеленка и Рышард Орловские. Они, как и их старшие братья, также работают на благо своей страны и народа.
Войцех Козлович ДЕРЕВЬЯ, ИЗ КОТОРЫХ ВЫРАСТАЕТ ЛЕС
Сначала был зеленый мир. Великолепная, буйная глушь Рудницкой пущи, где отец Янека работал лесничим. Электричество сюда не провели, и вечера освещал теплый свет пахнущих смолой лучин. Новости о происходящих в мире событиях узнавали сами в отдаленных Олькенниках, где находилось управление лесничеств, почта, несколько магазинов. В школу Янек должен был ходить за семь километров, летом босиком, так как ботинки быстро изнашивались. Он привык к таким переходам, сопровождая отца в его бесконечных походах через пущу. Именно лес и стал для Янека первым ярким образом в жизни. — Нужно заботиться о каждом дереве, — слушал Янек монолог лесничего, который внимательно разглядывал молодые ростки в лесном питомнике. — Особенно о молодых деревьях. Ведь именно из них и вырастает густой, устойчивый против бурь лес… Целыми днями Янек пропадал в зеленых зарослях. Наблюдал буйную жизнь леса над тихими водами речки Меречанки. Первые слова о родине связывал он с лесным урочищем, которое окрестные жители называли «Шумайтис». Здесь легендой оживали повстанцы 1863 года, которые в этой глуши имели свои убежища. Они стали героями внутреннего мира Янека — мира, который могло нарисовать только его детское воображение. Но внезапно пришлось оставить эти места. Наступили трагические дни сентября 1939 года. Абстрактное до сих пор для Янека понятие «враг» стало конкретным на небольшой станции Танненберг. Именно сюда вышвырнули из железнодорожных вагонов семью лесничего Козыры, которая ехала к своим родным под Варшаву. Шли, спотыкаясь об узлы с поспешно собранными пожитками, подгоняемые гортанным непонятным криком. Из-под надвинутых на лоб касок лица конвойных не были видны. В любой момент могли раздаться выстрелы из автоматов. Напрасно Янек искал хоть что-то человеческое в лицах конвойных, какой-либо жест сочувствия или помощи — его взгляд натыкался на барьер жестокой, безразличной ненависти. Ночи в тесном бараке не приносили сна. Темноту за окном прорезали прожектора сторожевых постов, лаяли собаки патрульных… Свобода была отделена колючей проволокой. Раз в день ходили к лагерной кухне за пустой баландой. Неподалеку за усиленным кордоном постов был другой лагерь. — Боже мой, ведь это же наши парни! — услышал Янек шепот матери. Янек часто пробирался к ограждению, долго смотрел на солдат в польских мундирах, без знаков различия, без оружия. Однажды он увидел, как эта беспомощная, истощенная масса пленных внезапно вскочила по стойке «смирно», выравняла свои ряды, мимо которых шел высокий седой мужчина. — Это генерал! — услышал Янек чей-то голос. Страшным было сравнение этого лагеря с созданным детским воображением лагерем повстанцев 1863 года в урочище «Шумайтис». — Грюнвальд… Грюнвальд, — шептал тогда он упорно, ища в этом слове защиту от огромной несправедливости, разрушавшей тот спокойный детский мир у берегов речки Меречанки. Вскоре в лагерь начали прибывать новые колонны пленных. Среди них были французы и бельгийцы, негры из отрядов сенегальских стрелков. В какой-то степени им-то и была обязана свободой семья Козыры: ее отпустили домой, чтобы освободить место для все еще прибывавших на платформу Танненберга длинных эшелонов с пленными. Глядя на эту многоязыкую массу солдат побежденных армий, Янек удивлялся: — Так это не только мы, мама? Варшава, куда они приехали, была похожа на тот лагерь для пленных, только намного большего размера. Те же самые каски с черным орлом, насторожившиеся пулеметы и автоматы, в любой момент готовые ударить струей огня, пронзительный вой полицейских машин на мгновенно пустевших улицах. И все же город пытался жить. Длинные очереди перед магазинами, нищенские базарные сделки, измученная толпа на улицах. Однажды отец сказал Янеку: — Завтра пойдешь в школу… Мальчик не понял. — Как это, ведь война? — промолвил он наконец. Отец покачал головой: — Война — это дело взрослых… Для Янека слова эти прозвучали как-то неубедительно. На здании бывшей гимназии Гижицкого на Вежбне, далеком предместье Варшавы, оккупанты прибили табличку: «Обязательная профессиональная школа № 7». Но за вывеской гитлеровских властей в школе продолжали преподавать строго запрещенные предметы. Это грозило концлагерем как учителям, так и ученикам. Преподавались история, география, польская литература. Занятия вели такие замечательные педагоги, как доктор Роман Качоровский или доктор Роман Зелиньский из довоенной Главной школы сельского хозяйства. Янек изучал тайные «комплекты» — так тогда называли преподавание запрещенных гитлеровцами предметов. «Комплекты» были своего рода ступенькой к конспиративной харцерской организации. Паренек быстро оказался в ее рядах. Но в «Обязательной профессиональной школе № 7» действовала не только подпольная харцерская организация. Школьный товарищ Янека Масловский (подпольная кличка Эвек) стал позднее солдатом батальона Чвартаков[8] Гвардии Людовой, Рысек Свебода имел контакты с подпольной организацией Польской рабочей партии (ППР). В школе Козыра был Янеком, когда же сразу потом начинался сбор, его называли Рафалом, позднее у него была также кличка Терчин. На сборах изучали оружие, топографию, связь. Иногда под предлогом сельскохозяйственной практики совершали загородные выезды с субботы на воскресенье для занятий по боевой подготовке. Часто Рафал ездил как связной в Белостокское воеводство, не раз перевозил оружие в Келецкое воеводство или в окрестности Ченстохова. Харцеры из Островца-Свентокшиского научили его хорошему способу укрывать опасные посылки. Он брал буханку деревенского хлеба, осторожно отрывал снизу корку, вынимал хлебную мякоть и на ее место вкладывал пистолет или боеприпасы. Потом тщательно снова прикреплял корку, посыпал ее толстым слоем муки, чтобы скрыть следы, и отправлялся в путь. Однажды он шел с таким багажом по перрону Западного вокзала и в молчащей толпе пассажиров приближался к выходу, где стояли бдительные баншутцы — железнодорожные охранники. На коротких поводках они держали овчарок, которые принюхивались к проходящим мимо пассажирам. Один из «черных» (так называли немецкую военную железнодорожную охрану по цвету мундиров) был особенно известен своей жестокостью и зверством. Он стоял развязно, этот высокий, стройный, с тонкими красивыми, почти девичьими чертами лица тип. У него было резко контрастировавшее с его характером прозвище Девица, данное ему варшавской улицей. Позднее его настигнут меткие выстрелы по приговору, вынесенному ему борющейся Польшей. В этот день оккупации Девица стоял на переполненном людьми железнодорожном перроне, а плывшая навстречу ему плотная толпа пассажиров перед ним внезапно разделялась, как течение реки, наталкивающееся по пути на неожиданное препятствие. Маленький худенький парнишка был частью этой изголодавшейся, подгоняемой криком и удерживаемой в повиновении дулами автоматов людской массы, запуганной, но не покоренной. Но его вырвал внезапно из этой плотной толпы точный прыжок пса, из полуоткрытой пасти которого слышалось глухое рычание. Янек попятился назад, но овчарка уцепилась за чемодан, который он нес. Девица, слегка ухмыляясь, подозвал Янека к себе небрежным жестом: — Покажи! Замки не хотели открываться. Прямо перед лицом склонившегося Козыры маячила злая морда овчарки. Какой-то залатанный свитер, несколько яблок и большая буханка ржаного хлеба. Девица словно нехотя ковырялся в этом скромном содержимом чемодана стволом автомата. Наконец равнодушное «Пошел вон!» втолкнуло обратно испуганного парнишку в безликую толпу варшавского вокзала, в которой можно было скрыться. С этого момента Янек больше не смазывал маслом перевозимое им в буханках хлеба оружие. Правда, через несколько часов оно покрывалось налетом ржавчины, но легче было потом потратить немного времени на чистку оружия, чем подвергаться риску. Именно масло, которым был смазан пистолет, учуяла овчарка Девицы в пахнущей тмином буханке… Однажды домой не вернулся отец. Янек знал, что он был участником движения Сопротивления. Ждали его долго, но напрасно. Мальчик знал один из главных принципов борьбы с врагом: место выбывшего из рядов должен занять другой. Об этом говорила когда-то зимними вечерами в Рудницкой пуще почтенная бабушка, помнившая времена январского восстания 1863 года… Рассказав об отце только командиру отделения после сбора, Янек решительно заявил: — Теперь моя очередь. В один из июльских дней он получил приказ отправиться в Келецкое воеводство. Пункт связи находился в лесничестве Еленец. Стояла жара, и жаль было возвращаться к угрюмой, придавленной оккупацией жизни города. Вспомнились беззаботные дни «лесного детства», путешествия с отцом через пущу кабаньими тропами, многочасовое ожидание серны у лесного источника, деловитый стук дятла в знойный полдень. «Устрою себе один денек каникул», — подумал Янек, засыпая ночью на пахнущем сене в риге. Его разбудил чей-то голос. В полусне Янек стал искать спрятанный под головой пистолет, запихивая его еще глубже в солому. — Ну, поднимайся! — поторопил его певучий голос. Мальчик заморгал глазами: «Спится мне или что?!» Высоко, под крышей риги, на стропильной балке сидел какой-то веселый парень с автоматом в руках и соломенной шляпой на голове. Выглядел он настолько комично, что Янек поперхнулся от смеха. Вскоре они подружились с Антоном из советского партизанского отряда, который остановился в лесничестве. Козыра, однако, не выдал цели своего пребывания. — Я приехал на школьную практику, — сказал он, протягивая советскому командиру свое удостоверение. Русский отрицательно махнул рукой. Его больше интересовало положение в Варшаве, и он долго расспрашивал об этом Янека. — Во время нашего пребывания не покидай лесничества, — передал Янеку просьбу командира хозяин соломенной шляпы. Русские были прекрасно вооружены. Янек с интересом рассматривал автомат ППШ, восхищался скорострельностью «Дегтярева» и пробивной мощью противотанковых ружей. Советские партизаны охотно давали ему пояснения. А кто-то из них, увидев, как он ловко обращается с автоматом, сказал Янеку: — Ты говоришь, друг, что приехал сюда на практику? — Потом усмехнулся: — Ты скорей охотник, чем ученик… Вскоре к ним подошел командир: — Ты не хотел бы что-нибудь сделать для нас? А через несколько минут Антон отвез Янека на бричке на опушку леса. — Здесь буду ждать тебя… — сказал он. До Островца-Свентокшиского было километра четыре. Маленький городок, несмотря на июльский зной, был полон движения. Тянулись военные грузовики, из-под гусениц танков, двигавшихся по мостовой, сыпались искры. В тени деревьев упорно боролись со сном усталые немецкие солдаты. У Янека была хорошая память — не зря в оккупированном городе он вырабатывал навыки наблюдать и запоминать. Его интересовали номера полков, эмблемы воинских частей, он пересчитывал стоявшие на рыночной площади «пантеры». Янек вышел на перрон железнодорожной станции и стал смотреть, как на длинные вагоны-платформы немцы затаскивают машины. — Эвакуируют металлургический завод, — почувствовал Янек злость в чьих-то словах. Вернулся в лесничество он вечером. О нем уже начали беспокоиться. — Спасибо, союзник! — прозвучало как похвала. В Варшаву Янек возвратился вовремя, незадолго перед началом восстания. Место сбора по тревоге его взвода из 3-й роты находилось в Праге. Оружия было не много: один ручной пулемет, три автомата, одна винтовка, три нагана, два парабеллума, два пистолета бельгийского производства, «вальтер», польский пистолет «вис» и пистолет Янека. И все это приходилось на шестьдесят пять бойцов. Между прочим, ни один из них еще не достиг призывного возраста. Бои в Праге продолжались только три дня. Повстанцы атаковали немцев на Бялоленцкой улице, парализовали движение на железнодорожной станции Варшава — Прага. Однако вскоре вражеские танки оттеснили их за город к привисленским лугам. Отряд повстанцев отошел, оставив навсегда Юрека Кантарского, документы которого не раз будут выручать Янека из затруднительных ситуаций. Расположились в окрестностях Яблонной и стали пытаться переправиться на левый берег Вислы. Даже ночью видели его перед собой: он ярко светился высоким пламенем, отражавшимся в мрачном небе. Но немцы были бдительны. Совсем некстати их патруль наткнулся на ребят из взвода, когда они покупали у крестьянина хлеб, помидоры и молоко. А когда немцы нашли на дороге тело своего унтер-офицера, застреленного Миреком, командиром отряда Янека, оккупанты решили устроить в окрестностях облаву. Стычка с немцами произошла в конце сентября под Хошувкой. Была ночь. Янек нес ручной пулемет со своим вторым номером Ареком. Все произошло в течение доли секунды. Тени деревьев над дорогой внезапно дрогнули, стали гуще и плотней, раздался пронзительный крик: «Хальт!» Короткая автоматная очередь, прервавшая тишину, пригнула Арека и Янека к земле. Темноту разорвали взрывы гранат. Дождь оторванных листьев медленно сыпался с крон деревьев. На дороге остались лежать трое немцев. Их скосил огнем Янек. Зелень кустов скрывала еще четырех убитых немцев. Ребята из повстанческого взвода потерь не имели. Все глубоко вдыхали свежий воздух, который шел со стороны Вислы. Издалека непрерывным гулом взрывов приветствовала своих одиноких солдат восставшая Варшава. Еще раз, в Домбрувке-Шляхецкой, попытались переправиться через Вислу. Рыбаки дали лодку, но огонь гитлеровских пулеметов бдительно охранял гладь воды. Пришлось повернуть назад. Однако от намерения попасть на другой берег Вислы не отказались. Решили переправиться на Чернякув с другой стороны — от Саксонского парка. По одному пробирались через центр Праги, забитый отступающими с востока войсками оккупантов. За несколько дней до этого, прислушиваясь к отголоскам битвы, кто-то из ребят сказал с удивлением: — Это не из Варшавы!.. Артиллерийская канонада, доносившаяся с востока, говорила о приближении советского фронта. Его близость позволила наконец их взводу в одну из ночей обмануть бдительность немцев. Перебравшись на чернякувский берег, усталые, промокшие, стали карабкаться вверх. Доложили о своем прибытии в штабе полковника Радослава. Еще одна радость: встреча с товарищами из роты, которая пришла сюда из Старого Мяста через центр Варшавы. И это была последняя радость, ибо каждый минувший час забирал остатки боеприпасов, продовольствия, лекарств. И надежд. Солдаты Войска Польского, которые с большими потерями переправились через Вислу, не могли уже ничего спасти. Янек не забудет эту ночь с 23 на 24 сентября. Сначала остов судна «Байка» немного защищал от обстрела немцев. Но дальше была уже только водная гладь Вислы. Ветер рассеивал клубы дымовой завесы, которая висела над рекой, словно утренний туман. До рассвета было еще далеко, когда днище лодки зашуршало о песок пражского берега. Еще не успел Янек отоспаться, когда пришел приказ: «…Сегодня, когда на нашу территорию вступило регулярное Войско Польское, считаем своим солдатским долгом вступить в это войско, чтобы под командованием генерала Роля-Жимерского и руководством Польского Комитета Национального Освобождения нанести последний удар захватчикам. Да здравствует свободная, сильная и демократическая Польша! Командующий округом Армии Крайовой Прага подполковник Анджей». Военная комиссия, расположившаяся в здании бывшей школы на Бялоленцкой улице, приняла в ряды возрожденного Войска Польского капрала Армии Крайовой Яна Козыру. 24 сентября на рассвете перебрался Янек из охваченной огнем Варшавы на правый берег, и уже тот же самый день — 24 сентября 1944 года — вписали ему как день начала службы в Войске Польском. Он видел, что офицеры комиссии подозрительно приглядываются к его мальчишескому лицу. Не моргнув глазом, он назвал дату своего рождения, прибавив себе два года, чтобы не отослали в школу, как нескольких его ровесников. Шли колонной в казармы в Рембертув, когда подъехал студебеккер. Янек увидел какого-то капитана с черной бородой, который кричал, обращаясь к солдатам: — Мне нужны специалисты!.. — Заинтересовавшиеся подошли поближе, чтобы услышать: — Плотники, слесари, столяры… Кто-то сказал громко: — А что это за «купец»?! Раздался смех. Янек отпрянул, толкнул Боруту, Чарта и Свиста, своих товарищей по повстанческой роте, с которыми вместе вступил в Войско Польское. Они подошли к грузовику. — Вы к саперам, детки?! — удивился добродушно капитан Мацулевич, заместитель командира батальона. Это он был «купцом», который искал добровольцев в свою часть. — Мы минеры. — Янек сделал вид, что не услыхал пренебрежительного обращения. — Минеры? — недоверчиво переспросил офицер. — А тол знаете? — неожиданно обратился он к Козыре. — Тол не знаю, а тротил знаю, — не растерялся паренек. — А какие бывают взрыватели? — продолжался экзамен. — Механические, с часовыми механизмами, химические, — отвечали, перебивая друг друга, Борута и Чарт. Казалось, что капитан был убежден. Он заулыбался паренькам, и тогда Янек начал «атаку»: — Из взрывчатых материалов знаем также пластик… Мацулевич повертел головой: — Интересно… А что это такое — пластик? — Мнется, как пластилин, английский, с большой взрывной силой, — перечислял Козыра, как во время занятий, и продолжал: — Есть еще американский, с характерным запахом испорченного миндаля. — Где же это вы научились подрывному делу? — прервал его капитан. — В школе подхорунжих, — ответил Янек, вытянувшись по стойке «смирно». Вот таким образом на подваршавском шоссе Янек и его товарищи стали солдатами 2-го отдельного саперного батальона 2-й дивизии имени Яна Генрика Домбровского. Они положили начало воссозданию 1-го взвода 1-й роты. Из его бывших бойцов никто не возвратился из десанта на жолибожский плацдарм… Дни проходили в учебе, в подготовке к наступлению. Люди узнавали друг друга. Были они из разных мест, имели различное происхождение. Нужно было преодолеть не одно предубеждение, проявить много доброй воли, чтобы доверять друг другу. Командир роты Иван Смирнов был русским, родом из далекой Коми. Хорунжий Леон Юсиньский был подофицером довоенной армии, замечательным сапером-подрывником. Сержант Стефан Летки — коммунист, горняк из французских шахт. В сентябре 1939 года приехал в отпуск к семье на родину в деревню Цетуля… Янека назначили командиром отделения. Все его подчиненные были родом из одной деревни Добровляны. Разместились в предместье Варшавы, совсем рядом с Вислой. Небо над городом уже давно погасло. Иногда казалось, что в этой тишине слышно, как летят снежинки, которыми покрывала землю наступившая зима. Янек временами пытался найти в далекой панораме руин тот дом на Мурановской, который он оставил в знойный июльский день. — Когда же наконец двинемся?! — набросился он однажды с этим вопросом на замполита. Наступила тишина, в которой чувствовалось напряжение. Этот вопрос волновал всех уже давно. Тогда раздался серьезный, чуть насмешливый голос Стефана Летки: — Что это ты, Козыра, такой быстрый? Тебе захотелось завтра же идти в наступление? В воскресенье никто в батальоне не получил увольнительной. Теперь все понимали: ждать осталось недолго. В третий раз Козыра форсировал Вислу по льду, со стороны Жолибожа. Паренек ехал на самоходке. Всех варшавян распределили по атакующим столицу частям. Янек был назначен во 2-й отдельный самоходный артиллерийский дивизион в качестве проводника-разведчика. Ехали медленно по белой пустынной улице. Со стороны фортов Цитадели доносилась пулеметная стрельба. Приближались к виадуку возле Гданьского вокзала. Он был цел. Самоходки, зацепляя гусеницами землю, осторожно съезжали с насыпи. Виадук объезжали низом, пересекая железнодорожные пути. На другой стороне остановились. — Минутку! — Паренек стал карабкаться по откосу к пролетам моста. Тяжело дышал, проваливаясь в глубокий снег. Уже издалека он заметил подвешенные грузы. Осторожно Янек пробрался по стальной перекладине пролета к ящикам с динамитом. Одно движение ножницами — и детонирующий шнур обезврежен. Осторожно, не спеша он вынимал взрыватели из зарядов. Руки мерзли, мороз пронизывал его до костей. Янек еще раз тщательно проверил все, прежде чем возвратился в свой дивизион. По радио получили приказ сосредоточиться в районе улицы Маршалковской. Многие из солдат впервые видели столицу. Командир показал Янеку на плане города: — Должны выйти к этой точке… Гусеницы самоходных установок поднимали тучи снега. Козыра согревался кофе из чьей-то фляжки. — Приглашаю сегодня на обед «Под букетом», — пообещал он солдатам. — Что это значит — «Под букетом»? — спрашивали они, стараясь перекричать скрежет гусениц. — Я поведу вас в отличный ресторан! — объяснил он с гордостью. А потом Янек стоял в тишине, смотрел на обожженные взрывами бомб от крыш до подвалов дома, на остатки железной кровати, поскрипывающей на ветру на краю многоэтажной пропасти, на своих боевых товарищей, отворачивавшихся в сторону, когда он искал их взгляды. Но когда он возвратился к самоходке, кто-то ободряюще потрепал его по плечу, а кто-то сказал, держа в руках банку тушенки и самогон: — Ну, этот первый обед в Варшаве, младший сержант, организуем тебе мы. — Спасибо, союзники! — попытался он улыбнуться, и вспомнились ему внезапно лесничий домик в Келецком воеводстве и те же самые слова, которые он услышал тогда от советских партизан. Он уже был спокоен, когда шел на Мурановскую. Здесь тоже была тишина. На белом снегу ни одного следа, видно, уже давно никто здесь не проходил. Янек нашел кусок железа и на опаленной пожаром стене нацарапал свою фамилию и цифру 74 157 — номер своей полевой почты. Когда он возвратился в батальон, его встретили новостью: завтра военный парад! Он не поверил: — В Варшаве?! Их саперная часть получила задание в течение ночи поставить почетную трибуну для правительства и командования. Поехали на Иерусалимские аллеи, когда уже совсем стемнело. Мостовая была перегорожена остовом сгоревшего трамвая. Их батальонный ЗИС не мог его оттащить, поэтому пошли к советским танкистам, которые отдыхали поблизости. Тридцатьчетверка быстро очистила дорогу. Когда оттаскивали сгоревший вагон в сторону Познаньской улицы, увидели группу солдат. Они окружили нескольких жителей города, которые дожидались своих освободителей, укрываясь среди руин. Доски для трибуны Янек достал на каком-то складе в отдаленном районе города — на Воле. Рано утром трибуна была готова, но выглядела она неприглядно. — Где бы взять что-нибудь для украшения? — задумался паренек, глядя на скелеты сгоревших домов. Вдруг ему вспомнился путь, по которому они ехали через район Жолибожа. Вскоре трибуна, великолепно украшенная коврами, которые нашли в опустевших виллах офицерской колонии, ждала гостей. Козыру назначили во взвод охраны. Их грузовик ехал от понтонного моста в голове колонны правительственных машин. Грузовиком управлял рядовой Стефан Маласюк, рядом сидел командир батальона майор Петкевич. Янек же стоял на ступеньках студебеккера. На шоферской кабине был установлен «Дегтярев». Ехали медленно, улицы были еще плохо расчищены, поземка швыряла в лицо снег. Янек, склонившись набок, внимательно смотрел на мостовую. Неизвестно откуда в мертвом до сего времени городе стали появляться люди. Через груды камней одна за другой брели группы людей. Это произошло возле Беляньской улицы, у разваленной стены бывшего банка. Именно здесь Янек неожиданно увидел свою мать. Он окликнул ее. Женщина оглянулась, но машина продолжала ехать дальше. Солдат на ступеньке беспомощно махал рукой. Женщина, спотыкаясь, побежала прямо по снегу вдоль медленно ехавших автомашин с делегацией. — Сынок!.. Янек!.. — несся вслед за ним зов, в котором звучала такая мольба, что колонна машин остановилась. Из переднего виллиса медленно вылез генерал в шинели с каракулевым воротником и встал на мостовой между пареньком и бегущей женщиной. Спотыкаясь в снегу, Янек подошел к Роля-Жимерскому: — Гражданин генерал, капрал Ян Козыра! Прошу разрешить поздороваться с матерью. Все это он выпалил на одном дыхании, словно боясь, что волнение через мгновение стиснет ему горло. Роля-Жимерский отдал честь, а потом протянул ему руку: — Поздравляю со счастливой встречей! — кивнул головой и, отойдя в сторону, стал смотреть на далекую колоннаду сожженного Большого театра. Так мало было времени для встречи! Уже буквально через несколько мгновений колонна вновь двинулась вперед. Капрал Козыра опять стоял на ступеньках едущего впереди студебеккера. И ведь именно тогда, в Варшаве, могла окончиться для него война. Во время пребывания в расположении у сына мать совершенно неумышленно выдала действительный возраст Янека. — В школу! — пробасил бородатый Мацулевич, вспомнив первую встречу с «молокососами». И, наверное, этим бы решением все закончилось, если бы не внезапная тревога, прервавшая все текущие дела: был получен приказ двинуться в направлении Померанского вала. Тяжелый, форсированный марш. Часто без горячей пищи. Всегда слишком короткий сон — то в какой-нибудь халупе, то на сеновале… Сожженные танки возле дорог. Тела павших, ожидавшие погребения. Недоверие живых, ранившее, как пуля: — Вы действительно поляки?! Маленькая деревушка возле Быдгощи. Обнищавшие, понурые люди. Невдалеке замок, подпираемый белыми колоннами. Чей? Пана барона. А земля? Пана барона… Янек говорил. Об аграрной реформе, о земле для всех, о хлебе для всех. Он чувствовал, что людям очень нужны эти слова. Жители принесли солдатам картошку в мундире, вытащили остатки капусты из бочки. А когда Янек уже дремал, кто-то несмело потянул его за рукав мундира: — А школа?.. Школа тоже для всех? Потом был танковый десант под Мирославцем. Автоматчики на тридцатьчетверках. Не много их уже осталось в танковой бригаде имени Героев Вестерплятте. Вскоре на близлежащих полях вновь запылали тридцатьчетверки, растапливая своим жаром февральский снег. В чистом морозном воздухе далеко разносился грохот взрывов. Казалось, что небо валится на голову от мощной волны пикирующих бомбардировщиков. Пулеметный огонь самолетов выискивал бойцов на белом поле. Но они упорно ползли вперед через пахнущие едкой гарью воронки от бомб, через тела погибших товарищей, преодолевая собственную слабость и обычный человеческий страх. Ползли, пока не достигли этих прусских домиков и не ворвались на улицы городка, встретившего их поднятыми руками побежденных гитлеровцев. — Еще несколько дней назад они были в Бельгии, — сказали потом о них Янеку в штабе. Теперь надо было перестраиваться: днем отдыхать, а ночью нести саперную службу. Фронт словно окопался в снегу, накапливал силы. Иногда прокладывали путь через минные поля своим разведчикам, часто проникали на территорию врага, ставя там смертоносные ловушки. Порой, совершенно изнуренные, тащили по снегу большие противотанковые мины к немецким позициям. Однажды Козыра со Стасиком Юхневичем долго не возвращались из ночного патрулирования. Их встретили озабоченные лица товарищей. — Что, уже шестой час? — удивленно спросил Янек. Не мог же он признаться, что где-то там на предполье, под колючей проволокой, они горячо спорили о… воспитательных задачах харцерства. А потом была эта узкая полоса пляжа под Дзивновом. Увидел Янек море впервые. Как и другие, набрал воды в каску. — Соленая… — сказал он убежденно. Однажды, когда вернулись с прочесывания окрестных лесов в поисках рассеянных гитлеровских солдат, Янек получил новый приказ. Уже редко чему солдаты удивлялись, но на этот раз задание было действительно необыкновенное: — Засеять четырнадцать гектаров земли! Все хотели взяться за эту работу. Она была как бы предвестником близкого конца войны. В поле вышли с трофейными лошадьми, кому-то удалось запустить оставленный немцами трактор, который настойчиво вспарывал тяжелую влажную землю. На освещенном солнцем поле искали жаворонка, но, видно, было еще слишком рано… Солдаты тоже слишком рано радовались умолкнувшей войне. В день присвоения звания плютонового Козыре батальон саперов поспешно грузился на автомашины. Было начало апреля. Чувствовалась близкая весна. Выгрузились у какой-то реки, в полной тишине занимали позиции. Потом пришел политработник и сказал коротко: — Это Одра, ребята… Река текла быстро, широко разлившись весенним половодьем. Пятнадцатилетний плютоновый вспомнил тот лагерь, возле Танненберга, тяжелую, беспросветную жизнь пленных польских солдат, седого генерала, как бы сгорбившегося под тяжестью поражения… С утра до ночи, и даже ночью, привозили доски из отдаленных лесопилок, сколачивали десантные лодки, смолили пахнувшее лесом дерево. Потом лодки потихоньку подтаскивали в густой кустарник, как можно ближе к реке. С большими усилиями вручную двигали тяжелые металлические понтоны для наведения моста, потому что шум моторов автомашин мог выдать противнику подготовку к форсированию Одера. А потом ночь внезапно заполыхала красными зарницами, но это не был еще рассвет, хотя часы командира показывали 4 часа 45 минут утра. Янек смотрел в небо, забыв о промоченных в прибрежных кустах ногах, на огневой вал артподготовки. Одна за другой набегали горящие волны огня и разбивались о тот, еще немецкий, берег. Козыра видел немало боев, участвовал во многих наступлениях, но никогда не забудет этого огненного рассвета над апрельским Одером. Потом двинулись и они. Забрасывали «максимы» и «Дегтяревы» в лодки, а сами вскакивали в них уже в воде, чтобы как можно скорей достичь противоположного берега. Двое Болеков, Шарапо и Радзишевский, сидя на веслах, боролись с течением, Янек управлял рулем. Одними из первых они вскарабкались на молчавший противопаводковый вал, осмотрелись. Немцы, видно, отступили от артиллерийского огня, сокрушавшего дзоты так, словно они были сооружены из спичек. Козыра подал своим сигнал. Под прикрытием пулеметного огня они бросились вперед. На их пути вырос какой-то бункер с торчавшей вверх трубой от печки. Со всех сторон доносился крик атакующей пехоты. — Вылазь кто живой! — закричали они, медленно приближаясь к разбитому бункеру. И тогда перепаханная снарядами земля внезапно ожила несколькими поднятыми вверх руками. Потом опять руки, и опять… Заросшие лица из-под надвинутых на лоб касок. Рваные, грязные мундиры. Радзишевский обыскивал поочередно пленных. Их было семеро. — Больше никого нет? — Янек жестом показал на бункер. Немцы молчали, только один угрюмо покачал головой. — Шарапо! — обратился Козыра к товарищу. — Брось-ка гранату в трубу! Было хорошо слышно, как граната стукалась о металлические стенки дымохода, который через мгновение задрожал приглушенным взрывом. Ждали в напряжении. Козыра посмотрел назад. Над польским берегом пояс света становился все шире. Кивнул Болеку: — Еще одну! Новый взрыв на этот раз выбросил трубу из бункера. — Пожалуй, хватит! — решил Янек, подбегая к входу в дот. Посмотрел внутрь. Оттуда ударил тяжелый запах гари. Всюду валялись куски цемента, погнутый взрывом пулемет, остатки какого-то стола, на которых лежали тела убитых… Вновь переправлялись через реку на свою сторону. На этот раз откуда-то сбоку их настиг огонь немецкого пулемета. Крик кого-то из пленных «На помощь!» приглушило одно движение весла Болека Шарапо. Когда добрались до берега, было уже светло. Немцев отправили в штаб батальона. Это были первые пленные на участке дивизии. Командир сердечно обнял паренька: — Представляю тебя к награде! Слово свое сдержал. Через несколько дней после окончания войны на полевом аэродроме под Берлином генерал Поплавский вручил Яну Козыре Крест Храбрых. Получил он его заслуженно. Еще семь раз переплывал Одер на понтоне. Под Ораниенбургом шальная мина отправила его в госпиталь. Но лежал он там недолго. Догнал свой батальон на Эльбе. Принимал участие в последней, мирной уже переправе — на другом берегу ждали их американцы… Шел 1948 год, когда выпускник лесного лицея в Клодзке получил повестку явиться в военкомат. Молодой парень пытался что-то объяснить писарю в канцелярии, но ефрейтор резко оборвал его: — Раздеться на медицинскую комиссию! Без разговоров! Тогда Янек стал спокойно ждать, пока ему не был задан вопрос: — Фамилия призывника? — Козыра. — Имя? — Ян. — А потом добавил: — Подпоручник запаса. Два года в движении Сопротивления. Семь месяцев на фронте. Имею Крест Храбрых. С улыбкой слушал Янек слова извинения. Смотрел на молодых парней, стоявших вокруг, своих ровесников. Прошло три года после войны. Только теперь одногодки Янека Козыры шли в армию. Вот памятные реликвии пройденного пути. Фотографии, документы, награды. Удостоверение бойца батальона «Зоська» с номером 43 и пястовский орел[9] с конфедератки солдата саперного батальона, Крест Заслуги с Мечами за переправу с пражского берега на борющийся Чернякув и Командорский Крест ордена Возрождения Польши, которым были отмечены послевоенные заслуги Яна Козыры. Есть также объемистый труд с его фамилией на обложке: «Лесная защитная полоса верхнесилезского промышленного округа — проект и реализация». Тема, поднятая в этой магистерской работе Козыры, явилась предметом рассмотрения на заседании Совета Министров ПНР. Ее большое народнохозяйственное значение было подтверждено специальным решением правительства. О ней часто пишут ежедневные газеты: «Работники лесничества Катовицкого округа выполняют огромную задачу, связанную с созданием лесной защитной полосы верхнесилезского промышленного округа… В частности, проводится замена массивов хвойных лесов на лиственные, более стойкие по отношению к дыму и запылению…» Информацию в прессе дополняет директор Катовицкого округа государственных лесов Ян Козыра: — Наш план предусматривает создание высокого зеленого пояса вокруг четырнадцати городов верхнесилезского промышленного округа. Козыра улыбается: — В первые месяцы после войны, будучи сапером, я разминировал именно эту территорию нынешнего верхнесилезского промышленного округа… Я думаю о возвращении Яна Козыры в этот зеленый мир, от которого его когда-то оторвала война. И вспоминается мне его отец — лесничий из далекой Рудницкой пущи, который так хорошо сумел передать сыну первые знания о жизни в незамысловатом, но мудром рассказе о молодых деревьях, из которых вырастает устойчивый перед бурями лес.Войцех Козлович ПУТЬ МАРИИ
Отыскал я этот дом среди других построек-близнецов Ольши, отдаленного района Кракова. Современный, с глубокими лоджиями, с желтовато-голубоватыми лестничными клетками. Табличка на двери: Мария Чачик. На звонок отзывается заливистый лай собаки. — Я хотел бы поговорить с пани Марией… Женщина, открывшая дверь, делает приглашающий жест: — Мария делает уроки… Я вошел в комнату, большую, загроможденную множеством разноцветных подушек, фарфоровых фигурок пастушков с овечками, большой куклой, усаженной на магнитофоне, серией цветных картинок с миниатюрными замками, утопающими в сочной зелени, паройвлюбленных у озера, оленями с гордо поднятой короной рогов. В полосе солнечного света, падающего через листву огромного развесистого рододендрона, лежит китайский пинчер, лоснящийся черной шерстью, со сморщенной мордочкой и вытянутыми лапами. С обвитого густой зеленью балкона доносился девичий голос, настойчиво повторяющий урок английского: — У меня в руке сигарета… У тебя в руке сигарета… У него в руке… Девушке на балконе было не более двадцати, а я ведь… Среди многочисленных картинок на стене комнаты я увидел фотографию девушки, которую искал. — Я приехал именно к этой Марии. — Я показал рукой на фотоснимок молодой женщины в форме плютонового. Среди наград был Крест Храбрых и чуть выше три звездочки на темно-синем фоне орденской ленточки, означающие число ранений. — Это я. — Женщина, отворившая дверь, смотрела на меня вопросительно. — Мамочка, можно взять твой свитер? — в комнату вошла высокая девушка лет восемнадцати. — Это Зося, моя вторая дочь, — сказала пани Мария. Рядом с ее фронтовым снимком фотография мужчины, тоже в военной форме. — Муж шел с польской армией от самого Ленино и во время форсирования Одера был ранен в ногу… Встретились и поженились они уже после войны, но оба имеют этот общий, фронтовой раздел в своих биографиях. С той лишь разницей, что дорога Марии на родину была более сложной и трудной. — Этот снимок сделан уже после войны, кажется, летом 1945 года, — вспоминает хозяйка семьи. Лицо девушки с правильными чертами, гладко зачесанные назад волосы еще больше подчеркивали ее спокойную красоту, а также характер сильный, решительный, почти мужской. Пани Мария открывает шкаф и среди цветастых платьев находит зеленую военную форму. Среди наград военных лет — Крест Виртути Милитари, которого нет на том памятном снимке, сделанном сразу после войны. — Надо было быть мужественной, — говорит пани Мария. Ей было тринадцать лет, когда первый год войны вырвал ее неожиданно из родной семьи, которая состояла из семи человек. Они очутились в далекой Казани. Никогда прежде ей даже не приходилось слышать об этом городе, столице Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Девочка работала в одном из колхозов, расположенном почти рядом с городом. Младших братьев и сестер советские власти поместили в детский дом. Марыся была не по годам рослой и поэтому выглядела старше, чем это значилось в свидетельстве о рождении. Она стала прихварывать, очень ослабла и боялась, что не переборет болезнь. Испытывала одиночество, но умирать не хотелось, и она старалась о смерти не думать. Проклятая война, она отняла у нее все самое дорогое: дом, близких, — оставив ее без перспектив на будущее, разрушила все детские мечты! Однажды тоска не давала ей уснуть всю ночь, и на рассвете Марыся решила объявить войне свою личную, девичью войну. Она решила любой ценой возвратиться на родную землю и бороться за ее свободу. Утром пошла в город. Речной порт на Волге был в тот период переполнен людьми, эвакуированными сюда из разных районов, оккупированных немцами. С каждым днем далекая война становилась все более ощутимой. Об этом напоминали толпы беженцев, измученные лица людей. Марыся не имела никаких документов, а чтобы их получить в милиции, нужно было иметь справку о состоянии здоровья. Пришлось ждать очереди к врачу. Ночевала на пристани у реки, питалась на продовольственном пункте, где выдавали питание для беженцев. Наконец дождалась номерка к врачу. Чтобы получить документы и направление на работу, девушка дважды обманула, сказав, что ей шестнадцать лет и что она из Ленинграда. К этому времени она уже хорошо умела говорить по-русски, а прибавленные ею два года вполне подтверждались ее рослой фигурой. Вначале она получила работу в студенческой столовой. Но вскоре студенты ушли добровольцами на фронт, а их общежитие было занято танкистами. Затем работала на стройке, месила глину, подносила кирпичи… Однако в период войны не так много строилось, и Марыся вскоре опять должна была искать работу. Это был трудный и кровопролитный 1941 год, на фронтах шли тяжелые оборонительные бои. Плакаты призывали: «Все для фронта!» И Марыся решила пойти работать в госпиталь, куда привозили много раненых. Здесь, в госпитальных палатах, Марыся воочию увидела всю глубину несчастья и боли, которые несла с собой война. Среди больных и умирающих она познавала ужасающую по своей жестокости правду о слабости и мужестве человека. Вначале не могла смотреть на раны, ей делалось дурно от гноящихся ран, удушающего запаха лекарств… Не могла она слышать просьбы и стоны, крики боли и отчаяния, выносить взгляды тех, кто не имел уже сил говорить даже шепотом… Специально ее никто ничему не обучал. Практика была лучшим учителем. Не было времени ни для лекций, ни для курсов. Показали, как перебинтовывать, делать уколы, переносить раненых. Она пересилила собственную слабость и стала санитаркой. К ней теперь обращались просто: Маруся. Однако в Казани она не хотела оставаться, хотя здесь было спокойнее и безопаснее. Однажды с эшелоном уехала в Москву. Копала окопы на подступах к советской столице, затем попросила послать ее на фронт. Вначале отказали: — Слишком молода, тебе только шестнадцать лет… А в действительности ей было четырнадцать. Но она не уступила. Пошла в райком партии, а когда не смогла ничего добиться, привела с собой старших подруг: они за нее поручатся!.. Была зима 1942 года, когда их комсомольский отряд впервые увидел сражающийся Сталинград. К Волге добирались пешком. Постоянно усиливающийся грохот, как компас, указывал направление. А потом очутилась в занесенных снегом руинах города. В госпитальных палатах Казани Марыся думала, что страшнее уже ничего не может быть. Здесь, в развалинах города на Волге, она была не только санитаркой, но и солдатом. Временные госпитали находились в подвалах, которые зачастую становились опорными пунктами, отражающими гитлеровские контратаки. Тогда санитарки, врачи и раненые брались за оружие и сражались за каждый метр русской земли. Маруся помнит Андрея, стрелка ручного пулемета. Когда она доползла по заснеженному рву к его огневой позиции, он стрелял левой рукой. Правую ранило осколком. Не разрешил себя увести с боевой позиции и еще даже гневно крикнул: «Уходи!» Она не обиделась, научилась понимать и ценить этих прекрасных парней, прикрывавших героизм показной грубоватостью. Она быстро наложила на рану Андрея повязку, а он уже кричал: — Ленту подавай, ленту! Опять идут, гады проклятые! Много было таких парней, поэтому и город продолжал сражаться. Труднее всего приходилось раненым. Не всегда быстро удавалось их эвакуировать с передовой в полевой госпиталь, который находился в Бекетовке. Часто они подолгу лежали в темных подвалах. Иногда вовремя не подносили пищу, сильно мучила жажда, так как немцы старались отравить все колодцы. Воду брали из Волги или растапливали снег в котелке. Но пожалуй, самым трагическим было положение, когда не хватало медикаментов, а раненые продолжали прибывать. Каждой ампуле, каждому куску бинта не было цены — ведь иногда они предрешали чью-то жизнь или смерть. Командующий Сталинградским фронтом Андрей Иванович Еременко спустя много лет в своих мемуарах скажет горячие слова благодарности сталинградским женщинам, которые вместе с мужчинами стояли в первых рядах борьбы с врагом. Женщины — летчицы, моряки, стрелки-снайперы, связистки, артиллеристы, санитарки… На первый взгляд слабые, женские руки, однако, быстро и точно выполняли любую работу. Он, в частности, выражал уверенность, что те оратории или симфонии, которые несомненно будут написаны композиторами в честь Сталинграда, будут звучать и в честь сталинградских женщин. Одной из них была санитарка Маруся, как называли ее раненые. Андрей-пулеметчик, которого она вынесла из-под огня; Коля, которому ничем не смогла помочь, только держала его руку, когда он умирал, тяжело раненный в живот. И многие, многие другие: с различными именами, с разными лицами, но так похожие друг на друга своими муками… Много раз во время таких вылазок через опасную пустыню руин вытаскивала Марыся раненого. Иногда оказывалось, что это был немец. Однажды она пережила потрясающий момент: тяжелораненый взывал о помощи по-польски! Так давно она не слышала родной речи, и вдруг здесь, из уст врага дошли до нее знакомые слова боли и отчаяния! Это были поляки из Силезии, насильно взятые в гитлеровскую армию. Здесь, на берегу Волги, такие встречи были для этой девушки в военной форме огромным потрясением. Поставленная перед жестокими фактами войны, Маруся упорно искала на этих нелегких военных дорогах свою собственную правду и личную цель: дорогу в Польшу. Там, в Казани, она чаще встречала земляков. Можно было хотя бы жить воспоминаниями, вспомнить родную сторонку, людей… Здесь, хотя, казалось, нет на это времени, она мучительно ощущала одиночество. Но старалась отбрасывать эти мысли, зная, что сейчас есть дела поважнее, идет великая битва и ее ждут раненые. Подавала лекарства, сменяла повязки, иногда нужно было просто сесть около больного и постараться улыбнуться. Потом тащилась через леденящее пространство, пробиралась, избегая выстрелов снайперов, ходила с донесениями в санчасть. Даже ночью не было отдыха. Постоянно звали раненые, нужно было доставать воду, готовить пищу, бороться с собственной усталостью и морозами сталинградской зимы… Много лет спустя она будет с удивлением вспоминать: — Не знаю, откуда иногда брались силы, чтобы волочить или нести взрослого мужчину, вдобавок раненного. Я, конечно, боялась, как, пожалуй, и все, но знала, что должна перебороть страх и ко всему еще подбадривать раненых и вселять в них надежду… В один из январских дней тревога подняла ее из подвального помещения госпиталя: опять раненый звал ее на помощь. Она колесила среди развалин, проскакивала участки, простреливаемые пулеметами. Иногда она задерживалась в воронке от бомбы, так как очень тяжело было бежать в ватных брюках и стеганке, а белая защитная накидка путалась в ногах. Но, вспомнив, что ее ждет раненый, она продолжала свое состязание со смертью, угрожающей ей и раненому… Вот она уже около него! Быстро наложила повязки. В этот момент земля покрылась высокими фонтанами взрывов — очередной минометный налет. Она склонилась над солдатом, прикрыв его своим телом от осколка, который разорвал ей спину. Их вместе забрали в госпиталь… Через несколько дней от радости Марыся подскочила в постели: армия Паулюса капитулировала! Сталинград освобожден! После выхода из госпиталя девушка возвратилась в свою часть, которая находилась в городе на Волге. Хотя сражалась в нем много дней, совсем не могла узнать Сталинграда. Тогда, зимой, казалось, что не может быть более мрачного в своей суровой трагичности города, разрушенного войной. А теперь, когда весной растаявший снег обнажил страшные раны, нанесенные домам, улицам, площадям, Марыся просто не могла попасть на место расположения своей части в районе бывшего городского театра. Она шла первыми дорогами, которые проложили танки. Потом все же по остаткам фонтана с пухленькими амурами, которых война также не пощадила, она нашла то, что искала. Именно здесь она чуть позже увидела то, что было предметом ее мечты. В лучах летнего солнца, расстегнув мундиры, сидели на изрешеченной пулями балюстраде несколько молодых парней в военной форме. И это были поляки! Один из них вскочил и громко воскликнул: — Марыська! Это был Здзислав, сын Врублевских, из той же деревни, что и Марыся. На погонах блестели офицерские звездочки! — Боже! — не могла поверить девушка. — Поедем с нами! — начал уговаривать Здзислав, а она только громко всхлипывала, не стыдясь своих слез. — Не могу же я взять и уйти! — Она беспомощно встряхнула автоматом: — Должна хотя бы сдать оружие… Запыхавшаяся, она влетела к командиру роты. Черноволосый грузин спокойно выслушал ее беспорядочные слова, а потом решительно отказался отпустить из части. — Ну поймите! — отчаивалась девушка. — Я хочу к землякам. Офицер был непоколебим: — Здесь ли, там ли — одного немца бьем! Но Марыся не могла забыть встречу у сталинградского фонтана. Внешне казалось, что уступила, но все было иначе. Она стала ждать случая. Однажды вечером уехала в эшелоне, скрываясь от военных патрулей. Задержали ее под Ростовом. Преступление было несомненное и серьезное: фактически дезертирство из войсковой части во время войны. Но Марыся, как бы не отдавая себе отчета в трагичности ситуации, все время с упорством повторяла: — Я должна к землякам… В такое суровое время выяснять до конца причины, побудившие ее на такой поступок, было некогда. Достаточно было самого факта преступления. — Дезертировала! — Таков был вывод. — Я не убежала с фронта! — отпиралась девушка. — Я хочу сражаться вместе со своими, — убеждала она. — Ведь я могла остаться в тылу, а пошла сама, добровольно!.. Спустя несколько дней ей приказали возвращаться в часть… А потом настал день, когда она получила, наконец, официальный перевод в Войско Польское. Явилась на сборный пункт в Житомир. Выдали польскую форму, не хватило только фуражки. Они ехали на запад, до той небольшой станции, малозначащей в железнодорожных расписаниях, которую Маруся никогда не забудет. Первую польскую станцию приветствовали торжественным маршем дивизионного оркестра. — Наконец-то на родной земле! Маруся добилась своего: вернулась в Польшу. Могла просить демобилизации, остаться на освобожденной территории, продолжить прерванное обучение: ей ведь было всего шестнадцать лет, из которых два года фронтовых боев. Но даже на минуту не подумала об этом. Наоборот — стремилась опять на фронт. А пока в Белостоке служила в караульной роте. …В ту ночь было исключительно темно. Тучи шли низкие, грозовые, цепляясь за взвихрившиеся кроны деревьев. Они росли густо около поста Марыси, сгущая еще больше темноту, внезапно отозвавшуюся отзвуком шагов. — Стой! Кто идет? В ответ услышала неопределенное: — Свой! — Пароль?! — потребовала она резко. Но в ответ до нее долетело какое-то недовольное ворчание. — Ложись! Буду стрелять! — громко предостерегла она. Шаги приблизились, она нажала на спусковой крючок. Эхо выстрела стихало долго, из-под темного свода медленно падало несколько листьев. — Еще шаг — выстрелю в тебя! Ложись! Задержанный медленно выполнял приказ. Ближе она не подходила, ожидая, когда придет смена. Это продолжалось целый час. — Гражданин поручник, — доложила она, — кто-то здесь хотел пройти, а пароль не знает. Я приказала ему лечь. Она смотрела, как офицер подходит к лежащему человеку. Было темно, поэтому она увидела лишь, как человек встает и идет к ней с офицером. Минуя девушку, задержанный отрывисто произнес: — Завтра явиться ко мне!.. И прежде чем поняла содержание приказа, она услышала шепот поручника: — Генерала положила!.. Она не смутилась, чувствуя свою правоту: — Генерал не генерал, а пароль не знает!.. Утром старательно вычистила форму, сапоги и прибыла к командиру дивизии. — Получай четырнадцать суток, — услышала она. Не успела возмутиться, как генерал закончил: — … отпуска! Проходили дни. Марыся продолжала нести службу в караульной роте, потом ее направили в столовую. Она могла спокойно дождаться конца войны в тылу. Даже не надо было исправлять год рождения. Но, когда зимой фронт снова двинулся на запад, она не захотела остаться в теплой штабной кухне. Попросила командира направить ее на передовую. Тот отказал, как в свое время грузин в Сталинграде. — Ты здесь работаешь для победы, — показал он на картофель. Отказалась она и от предложения начальника офицерского клуба стать его ординарцем. — Я могла готовить самому генералу! — бросила в ответ. А когда ей уже надоела служба на кухне, от которой фронт быстро удалялся, она рискнула догнать его. Опять — вопреки приказу. В каком-то городке наткнулась на штаб войсковой части. Услышала фамилию «Сверчевский» и, не задумываясь, явилась к командующему 2-й армией Войска Польского. Генерала не застала, а офицером, принявшим девушку в штабе, была женщина. Мария доложила о себе по форме, а потом расплакалась отнюдь не по-солдатски, а по-женски. И с удивлением заметила, что ей стало легче. Так сильно она нуждалась в чьей-то теплоте, в проявлении к пен интереса, заботы — и наконец нашла ее у этой умной женщины. Вся напряженность минувших нелегких дней, минуты усталости и слабости, до сих пор сдерживаемые упорством и силой воли, внезапно прорвали плотину, и Марыся, как обыкновенный ребенок, могла наконец излить свое горе… Но для нежностей не было времени, так как Сверчевский удовлетворил просьбу молодой санитарки: она пошла на фронт с танковым корпусом. Опять была санитарная сумка и опять постоянная игра в прятки со смертью. В этой борьбе за жизнь других Марыся никогда не щадила себя. Всегда шла туда, где была нужна. Много раненых вынесла Марыся из-под пуль и спасла им жизнь. Шла она в атаку вместе с наступающими ротами, чтобы вовремя оказать помощь. Вместе с автоматчиками ехала на броне танков, вытаскивала обожженных танкистов из горящих машин. Именно такой была молоденькая санитарка Марыся, или Маруся, как ее называли. Откуда в этой девушке было столько зрелого мужества? Решение, принятое той ночью в Татарии, — возвратиться на свою родную землю, — она осуществила, не ожидая в тени стен казанского кремля развития фронтовых событий, перехитрила войну, прибавив два года к своему возрасту! И в великую победу над Германией санитарка Марыся внесла свой достойный вклад, подтвержденный боевыми наградами за мужество. Во имя этой победы она не щадила себя. Чуть ли не последние снаряды врага настигли ее уже под Дрезденом. Многие месяцы лечилась от тяжелой контузии. Сейчас она живет в Кракове. В ее квартире висят фотографии военных лет. У нее два взрослых сына, две дочери. Пани Мария улыбается. Лоснящийся черной шерстью китайский пинчер напоминает о себе. — Это наш Рифи, — говорит она и показывает диплом, который висит в нарядной рамке: достойная родословная, подтвержденная семью медалями, полученными на общепольских выставках породистых собак. — Это не только потому, что мы любим собак. Это мой помощник. Сообразительный, внимательный и громкий. После контузии я стала плохо слышать, и, когда остаюсь дома одна, он предупреждает, что кто-то звонит в дверь. Ходит со мной в город, я увереннее себя чувствую с ним на улице… Пес улегся у стула пани Марии, как бы понимая, что речь идет о нем.Войцех Козлович «НАДЕТЬ ПАРАДНЫЕ МУНДИРЫ!»
Был день его именин, 8 мая. Именно в этот день подразделения танковой дивизии, собранные на утреннем смотре, заслушивали приказ, слышать который приходилось не каждый день: «Надеть парадные мундиры!» Капитулировал Вильгельмсхафен. Перед ними — перед первой танковой дивизией. Когда Станислав Шоен-Вольский подводил итог своего участия в войне, какой-то полковой писарь союзников в его документе написал по-английски: «Двадцать шесть дней службы». Ну что же, можно и так. Двадцать шесть дней службы. Все правильно, правда, если считать от того апрельского дня. До 12 апреля 1945 года Сташек был военнопленным гитлеровского лагеря Оберланген, недалеко от голландской границы. И именно здесь, вдоль границы, получили приказ наступать польские танкисты, чтобы отсечь находившиеся в Голландии значительные силы немецкой армии. Все произошло неожиданно. На площадь их выгнал нарастающий гул самолетного двигателя. Небо было чистым, они осмотрелись вокруг: самолет вынырнул из-за зеленой стены леса. Он летел прямо на длинные прямоугольники бараков, окруженных пустотой «зон смерти». Пролетел быстро, но, однако, не на столь большой скорости, чтобы сотни заключенных не рассмотрели опознавательных знаков. — Англичане! Сташек в это время находился в больничном бараке. Состояние его здоровья было настолько тяжелым, что гитлеровцы даже исключили его из списка военнопленных, подлежащих отправлению в рейх. Вероятно, решили, что четырнадцатилетний больной скарлатиной «варшавский бандит» не дождется прихода союзников. Прошло много времени, прежде чем здоровье начало возвращаться к нему. На место вывезенных мужчин немцы поместили в лагерь несколько сотен женщин, главным образом участниц Варшавского восстания. Женщины — товарищи по немецкой неволе тепло заботились о нем. К нему обращались просто Имек, и мало кто знал, что это не только уменьшительная форма имени парнишки. Именно там, в лагерном больничном бараке, до него долетел тот крик: — Англичане! Несмотря на слабость, он через минуту оказался во дворе. Возможно, это был просто слух, очередной, напрасно возбуждающий надежду? Но самолет возвращался. Он появился над рядом наблюдательных вышек, между которыми была натянута сетка из колючей проволоки, окружавшей лагерь. Раздались короткие пулеметные очереди. Люди не бежали от бараков. Это стрелял летчик. Пули били в слепые глазницы прожекторов, разбивали в щепки деревянные помосты и будки наблюдательных вышек, ударялись в бункер охраны лагеря. А затем, едва стих гул мотора истребителя, со стороны близлежащего торфяника, откуда на лагерь всегда тянуло зловонным ядом болотных испарений, донесся другой звук. Среди пустынной равнины медленно ползли танки. Шедший из них первым выломал ворота лагеря и потянул за собой сорванные сети колючей проволоки. Снова раздался крик. В этом крике были и неверие в то, что предстало перед глазами, и торжествующая радость: — Поляки?! Когда Сташек сквозь толпу обрадованных и счастливых женщин протиснулся к танкам, командир взвода поручник Станислав Дульский произнес с нарочитым облегчением: — Ну, хоть один мужчина… Офицер протянул руку. Однако «мужчина» не бросился к нему в объятия, несмотря на то, что хотел это сделать в первом порыве радости. Подтянулся, как будто на нем была солдатская форма, а не изношенные лохмотья, и сказал: — Пан поручник, докладывает бомбардир Имек, солдат Армии Крайовой, участник Варшавского восстания. На мгновение сделалось тихо. — Хлопче… — первым заговорил офицер, а затем обнял Сташека. — Из Варшавы? — спросил он минуту спустя. Шоен-Вольский кивнул. Только сейчас он почувствовал волнение и постарался скрыть его. — Из Варшавы! Слова прозвучали громко и пламенно, казалось, он искал в слове «Варшава» уверенность и силу перед неожиданным наплывом чувства скорби, с которым он по мог совладать. — Мы вышли двадцать седьмого… Он встретил непонимающий взгляд поручника. Минуту спустя он догадался, о чем спрашивал взгляд офицера. — Сентября… — прошептал он, как будто только сейчас понял, что с того времени прошло более полугода. — Двадцать седьмого сентября. День был такой же теплый, как сегодня. Многие годы потом историки будут размышлять о том, как это было возможно продержаться столько времени, если у восставших варшавян патронов и гранат в лучшем случае должно было хватить на два, самое большее на пять дней! Имек не смог добраться до Мокотува, где он жил, до пункта сбора своего отряда в Сьрудмесьце и после начала восстания обратился в другой отряд Армии Крайовой, командир которого без возражений принял его. Парень был рослым, выглядел сильным и проворным, тем более что поручник Вальдемар не спрашивал о возрасте. Важно было другое: — Стрелять умеешь? Отец Вольского, инженер, был офицером запаса 7-го уланского полка. Перед войной он часто брал сына на стрельбище. Уже семилетним мальчиком Сташек освоил спортивное оружие. Но за время оккупации, до самого восстания, ему ни разу не пришлось стрелять, хотя уже в 1942 году он стал членом харцерской организации мокотувского подполья. Сташек распространял нелегальную печать, был связным, писал на степах антигитлеровские лозунги, разбрасывал листовки. После того как командир группы «Гранат» согласился принять Сташека, мальчик спросил несмело: — А оружие, пан поручник? Прошло тем не менее несколько дней, прежде чем он получил старую австрийскую винтовку времен еще первой мировой войны, а к ней всего три патрона, у одного из которых гильза была треснута и грозила разорваться при выстреле. Позднее, когда ребята из группы «Гранат» убедились, что Имек стреляет очень хорошо, он получил другую, первоклассную винтовку с оптическим прицелом. И вот наступило 27 сентября. Группа «Гранат» капитулировала последней в районе. Из отряда осталось в живых только девять человек — все были ранены. Они проходили мимо немцев с автоматами. Шли складывать оружие. Недалеко стоял остов сгоревшего танка. Это Имек из своей винтовки остановил экипаж, когда подхорунжий Збигнев Вроньский подбил машину из противотанкового ружья. Правда, при этом он сам был тяжело ранен. И вот теперь Имек должен был сдать свое оружие. Сейчас он мог, кипя от бессильного гнева, только про себя повторять слова отмщения: — Еще встретимся!.. Он ждал этого момента долго. В медленно двигавшихся эшелонах. За колючей проволокой немецких лагерей для военнопленных. Иногда даже начинал сомневаться: а наступит ли он вообще — этот час отмщения. А теперь он опять был одет в польскую военную форму. В тот же день, когда танковая дивизия освободила узников лагеря, он еще раз обратился к командиру взвода бронетранспортеров поручнику Дульскому с просьбой принять его к себе. Когда ему пробовали отказать, он прибегал к наиболее убедительному, как ему казалось, но звучавшему по-детски аргументу: — Я должен!.. Должен!.. Он не хотел объяснять почему. Да никто и не настаивал. Он получил наконец назначение, о котором мечтал: во взвод бронетранспортеров роты оружия, поддерживавшей 8-й батальон 3-й бригады. Не моргнув глазом, заполнил анкету. Между прочим, ему грозило двухлетнее заключение за неправильно указанные сведения. В графе «возраст» он без колебания написал: 17 лет, хотя в действительности ему было на два года меньше. Через несколько часов Вольский из военнопленного снова стал солдатом. Он был назначен стрелком ручного пулемета на бронетранспортере. Снова в его руках было оружие. Выезжая за ворота гитлеровского лагеря Оберланген, он с детской нетерпеливостью думал: «Все же встретимся!..» Вскоре взвод Сташека получил приказ войти в соприкосновение с противником. Бронетранспортер медленно двигался по шоссе вдоль ровных торфяных полей. Солдаты внимательно смотрели по сторонам, чтобы не попасть под огонь противника. Казалось, окрестности пустынны. На темной равнине кое-где блестела спокойная гладь воды. Туман, похожий на куски ваты, цеплялся за редкие заросли кустарника. Неожиданно раздалась резкая пулеметная очередь. Сташек невольно наклонился, но тут же услышал голос подпоручника Зеленского: — Выходи из машин! Достаточно было сойти с твердой дороги, и болотистая земля прилипала к сапогам, затрудняя бег. Вражеский пулемет вскоре заставил их залечь. Сташек, тянувший за собой свой пулемет, выбирал место с хорошим сектором обстрела. Огневую точку немцев обнаружили быстро. Это был первый бой, в котором участвовал Вольский. Он приготовился к стрельбе… У английского ручного пулемета не было сошек. Сташек нажал на спусковой крючок и внезапно из-за острой боли отдернул руку. Он совсем забыл, что стреляные гильзы у этой марки пулемета вылетают вниз, а не вверх: в результате получил по пальцам, а пули все ушли в землю. После этого, казалось, все пошло хорошо: гранатометчики забросали огневую точку противника, и, когда дым рассеялся, они услышали крики сдающихся немцев. Сташек глядел на вылезающих из подземного бункера немцев. Выглядело это несколько комично — словно стрелы автоматов медленно вытягивали их из торфяных нор: сперва появлялись поднятые вверх руки, затем лица из-под неровно сидящих на голове касок, неуверенные, подозрительные… Все молчали; издалека доносился ритмичный шум моторов бронетранспортеров. И вдруг случилось неожиданное. Сташек не мог понять, как это произошло. Возможно, один из немцев испугался его движения руки? Может, увидел что-то в лице парнишки? Хотя он ведь не мог знать, что у мальчика позади пятьдесят семь дней варшавских баррикад, что дошел он сюда, до самого Кюстенканала, несмотря на капитуляцию на Висле. В тот миг, когда ствол пулемета оказался слишком близко у лица немца, тот прыгнул обратно в бункер, паренек почти машинально отклонился, и пуля гитлеровца лишь слегка оцарапала его… На привалах Сташек был обязан рассказывать о Варшаве. Это было нелегко. Тем, кто слушал, чтобы все понять и прочувствовать, надо было представить себя там, в этом «адском домике» в Сельцах, вгоняемом в землю бомбами, снарядами танков, гранатами. Именно в нем, несмотря ни на что, группа Сташека продержалась две недели. Нужно было вместе с ребятами взвода БД (боевой диверсии) сражаться за дома в Верхнем, а затем и в Нижнем Мокотуве, которые постепенно превращались в груды битого кирпича и щебня. Надо было пережить долгие часы в окруженном немцами доме на улице Гроттгера, зная, что в соседнем доме, который занимали гитлеровцы, находилась мать, что именно в нем он провел все четырнадцать лет своей жизни… Они, солдаты 1-й танковой, умели ценить смелость. Знали цену героизму, так как многие из них без перерыва воевали, начиная с того проигранного сентября 1939 года. Когда после девятнадцати дней боев с гитлеровскими танковыми лавинами они отступили в Венгрию, то сделали это по четкому приказу. Это не было беспорядочное отступление: тогдашняя 10-я механизированная кавалерийская бригада переходила венгерскую границу организованно, при всем оружии. Проволока лагеря для интернированных не задержала их надолго. Только им известными дорогами они добрались до Франции, чтобы здесь снова возобновить прерванную битву за Польшу, которая стала также битвой за Францию. Частичной модификации подверглось название польского соединения: оно вошло в состав французской 4-й армии как 10-я бронекавалерийская бригада. И из этой военной кампании, хотя и проигранной, польские танкисты вышли неповерженными. В третий раз возродилось это боевое соединение, теперь уже в Шотландии, как 1-я танковая дивизия. Ее солдаты приняли участие в высадке союзников в Нормандии и снова вернулись на французскую землю. Это они перекрыли горловину в известном фалезском мешке, где союзниками была окружена немецкая 125-тысячная группировка. В августе 1944 года они разбили в Нормандии части немецкой 2-й танковой дивизии, той самой, которую не смогли задержать на родной земле во время боев в сентябре 1939 года. «…Польская танковая дивизия под командованием генерала Мачека сыграла ведущую роль в достижении победы союзников в Нормандии, закрыв 19 августа 1944 года выход, который стал единственной дорогой на восток от Аржантена для разбитой немецкой армии. В течение шести дней очень тяжелых боев польская дивизия выдержала всю неистовую силу атак двух немецких корпусов СС, взяв в плен пять тысяч солдат и офицеров, в том числе одного генерала…» Так писал о борьбе поляков журнал британских танковых войск «Танк», а Сташек Вольский знакомился с боевой историей дивизии по фронтовой хронике и рассказам участников минувших боев. В то время, когда польские танкисты шли через Нормандию, преследуя противника до французско-бельгийской границы, когда сражались на Гентском канале и бились за древний Гент, четырнадцатилетний солдат повстанческой группы «Гранат» получил свою первую боевую награду — Крест Храбрых и звание бомбардира… — Ты артиллерист? — удивлялись потом солдаты из 1-й танковой. Они не могли понять, что в оккупированном городе существовала подпольная военная организация, которая пользовалась званиями, принятыми в артиллерии, но совершенно не имела артиллерии как таковой. И в то же время давала отпор немцам настолько успешно и так ощутимо, как если бы располагала таким оружием. Сташек помнил это долгое ожидание выстрела, который должен был быть обязательно прицельным, нельзя было зря расходовать боеприпасы. Он усаживался где-нибудь у окопного проема, забирался в руины опустевших квартир. Как тогда, на Пясечиньской. Расчет немецкой огневой точки имел хорошее укрытие, ее огонь не позволял повстанцам пошевелиться и парализовал их действия. Сташек добровольно вызвался отправиться на «охоту». Он внимательно проверил патроны, посмотрел, не попал ли на них песок, и положил обоймы в карманы рубашки. Неожиданно он вспомнил мать. Она не плакала и ни о чем не просила его, когда в тот августовский день он прямо сказал ей: — Мама, меня ожидают… Через открытые окна доносился далекий гул: это шли танки на позиции повстанцев на заводе «Брунверке». — Ты… — ее голос на мгновение осекся, — ты считаешь, что нужен там? Тогда Имек вспомнил далекий сентябрьский день. Отец, уже в офицерском мундире, укладывал чемодан, хотя еще не получил мобилизационного предписания. Мать в молчании вынимала из шкафа его личные вещи, и вдруг в какое-то мгновение ее руки бессильно опустились. — Ты действительно должен идти? — прошептала она. Муж не вернулся. Теперь она провожала сына. Взяла со стула его рубашку, внимательно оглядела: все ли пуговицы на месте, а затем, вывернув карманы, проверила, нет ли в них дыр. — Чтобы не потерял патроны, — ошеломила она его своей предусмотрительностью. Сколько раз потом, рассовывая по карманам патроны, он вспоминал это спокойное, глубоко трогающее прощание. Он долго и осторожно выбирал место для засады, потому что сам мог легко оказаться на мушке — гитлеровских снайперов было много. Наконец нашел удобное место. Правда, самой огневой точки немцев он не видел, но держал под прицелом непосредственно прилегающее к ней пространство. После длительных наблюдений он убедился в том, что через определенные промежутки времени немецким солдатам доставляли боеприпасы и продовольствие. Сташек не спешил. Он расположился в глубине комнаты, чтобы вспышка от выстрела не выдала его. Вырванная взрывом оконная рама вместе с частью стены давала достаточный обзор. Использовав для опоры никелированную спинку старосветской кровати, он уселся поудобнее на куче пробитых осколками подушек. Целился долго, старательно… Сделав несколько выстрелов, он решил возвращаться. Стало слишком темно, и не было смысла дожидаться рассвета. В случае необходимости он мог еще вернуться. Во взводе его встретили радостной новостью: гитлеровцы забрали убитых и свернули позицию… Это была радость непродолжительных побед. Позади были многие дни борьбы, и они все более отчетливо понимали, что не в состоянии победить. С каждым днем, с каждым часом положение восставших ухудшалось. Их оттеснили из Садыбы, под угрозой находился весь Нижний Мокотув. Вражеские танки разрушали одну баррикаду за другой. Артиллерия тщательно перепахивала снарядами позиции повстанцев. Самолеты летали прямо над крышами, вели огонь из пулеметов или педантично, сектор за сектором, заваливали восставших в чудовищных могилах разбомбленных домов. Но, несмотря на это, оттесненные с позиций, повстанцы контратаковали, заранее зная, что снова придется отступить… На углу Кондукторской и Дольной расстояние между позициями повстанцев и гитлеровцев составляло не более двадцати метров. Огонь гитлеровского станкового пулемета прижимал к земле любого, кто пытался приподнять голову. Новый командир взвода поручник Ежи Роман (предыдущий командир Вальдемар Ольшевский погиб в одной из атак) вызвал добровольцев. Действовать надо было в одиночку… Не так, как потом, во время апрельского наступления на Кюстенканале. В том случае, если было недостаточно огня автоматов, если даже гранатометы не были в состоянии разрушить гитлеровские доты, командир взвода вызывал по рации артиллерию или авиацию, после чего оставалось только ждать. Лежали в окопах, кто-нибудь украдкой, пользуясь минутным затишьем, затягивался дымом сигареты. Смотрели в небо, спокойное, тоже пока пустое. Но это длилось недолго. Вскоре появлялись самолеты и прокладывали им дальнейшую дорогу к победе. Тогда в восставшей Варшаве они не имели ни самолетов, ни артиллерии. У них не было ни радиостанции, ни танков. Ручные пулеметы можно было пересчитать по пальцам, а патроны для обычных винтовок делили, как сухари и воду. Даже более тщательно. Когда Имек отправился один против расчета гитлеровского станкового пулемета, при нем были только две гранаты: трофейная, с длинной деревянной ручкой, и английская, обладающая большой взрывной силой. — Это все, что ты можешь получить, — говорил по-ручник Ежи, прощаясь с Имеком. — Будь осторожен. Последнее замечание могло означать либо «будь осторожен и береги себя», либо «будь внимателен и не промахнись». Имек считал самым главным второе. Во взводе никто не щадил себя. Узнавали друг друга очень хорошо, хотя нередко знакомство исчислялось всего несколькими часами или днями. Условия борьбы требовали решений недвузначных, проверяя каждого жестоко, но безошибочно. Иена этих испытаний была нечеловеческой. Из взвода Имека, насчитывавшего около пятидесяти солдат, после подавления восстания в живых осталось чуть больше десяти. Это свидетельствовало не только об ожесточенности борьбы, которую они вели. Это была мера их патриотизма и самоотверженности, и именно в этом кроется тайна продолжительности борьбы, которую историки и стратеги ищут в донесениях о количестве оружия и боеприпасов, которыми располагало подполье Варшавы. Когда спустя 57 дней капитулировала группировка на Мокотуве, в сообщении немецкого командования говорилось: «На Мокотуве взято трофеев: 4 зенитных орудия, 8 противотанковых ружей, 7 противотанковых гранатометов, 1 средний миномет, 3 ручных пулемета, 6 автоматов, 210 винтовок, 180 зенитных артиллерийских снарядов, 30 мин к миномету, 30 ручных гранат…» Имек получил только две гранаты. Его союзницей должна была стать ночь. Немецкий пулемет находился недалеко, в доме напротив. На другой стороне улицы. В нормальных условиях это всего несколько шагов через мостовую. Тогда же эта дорога заняла у паренька очень много времени. Он шел босиком. Ботинки производили слишком много шума, кругом лежали груды выброшенных из квартир предметов, о которые можно было споткнуться, и битое стекло, треск которого мог оказаться предательским. Ночь была темная, беззвездная, и Имек подумал о том, что она очень удобна для выброски грузов с воздуха. Возможно, снова прилетят русские и взвод получит немного боеприпасов или продовольствия. Пока он шел через развалины домов, он прятался в длинных тенях, падающих от разбитых стен; в любую минуту он мог укрыться в каком-нибудь подвале либо в развалинах. Но теперь необходимо было пройти самый трудный участок — пустую и опасную мостовую, ибо немцы, вне всякого сомнения, были начеку. Улицу пересекала неглубокая траншея. Пулемет был установлен довольно далеко от траншеи, но это увеличивало шансы незаметно подойти к немцам. Время у него было, ночи становились все длиннее. Сташек уже не раз ходил на подобные задания ночью, и тем не менее всегда волновался. Он осторожно забрался в узкую траншею, прополз мимо нескольких неподвижных тел гитлеровцев, которые не были достаточно осторожны и попали в прицел его винтовки. Каждую минуту он приподымался прислушиваясь. Иногда отдыхал, так как болели ободранные в развалинах локти и коленки. Время от времени раздавался одиночный выстрел, однако его эхо быстро поглощалось воцарившейся тишиной, очень грозной и неестественной. Прежде чем смолкло эхо очередного выстрела, он быстро поднялся и протиснулся в пролом в стене дома. Теперь Сташек был на другой стороне. На немецкой стороне. «Не торопись», — успокаивал он самого себя. Ему мешала бутылка с бензином, добытая им в последний момент. Чтобы освободить руки, он привязал ее шнурком сзади на шее. А когда добрался до траншеи, передвинул бутылку под подбородок, хотя это было опаснее: в нее могла попасть шальная пуля или осколок. Кажется, было уже недалеко. Он хорошо знал эти дома: вырос на Мокотуве, прожил здесь четырнадцать лет, а в течение этих нескольких дней боев узнал окрестности еще лучше: каждый проходной двор, каждое пробитое в стене отверстие, пригодное для прохода. Их взвод постоянно переводили на наиболее угрожаемые участки, на выполнение наиболее опасных заданий… И вот он на месте. Быстро проник в окно жилого подвального помещения. Когда глаза привыкли к темноте, осторожно обошел большую бесформенную груду хлама в середине подвала. Он помнил большие неуклюжие цифры на стене дома, в котором расположился расчет гитлеровского пулемета. Лестничная клетка. Ступенька за ступенькой — вверх. Послышались приглушенные голоса. Имек осмотрелся, чтобы не ошибиться. Вот, видимо, сюда по небольшому коридорчику, в конце которого были двери. Недалеко, несколько метров. Там? Да, вероятно, там. Совсем близко подходить нельзя. Его могли услышать. Граната легко долетит туда. Теперь можно… Однако Имек выждал еще минуту. Нужно было успокоиться, сердце колотилось в груди очень сильно. Слишком сильно. Он сделал глубокий вдох, потом еще раз… Припомнил обратную дорогу: одиннадцать ступенек в подвал, влево за груду… Вот теперь… Резкий взмах руки — и назад. Он был уже на лестнице, когда услышал звук, похожий на удар камня о двери. Он остановился на полушаге. Понял: граната не взорвалась. На мгновение ему сделалось жарко. И в тот же момент по спине прошел холод. Это не был озноб сентябрьской ночи. Это был обычный человеческий страх. Что делать? Он не успел еще принять окончательного решения, а ноги уже понесли его по лестнице. Не дальше, а вверх. Сташек поднялся уже на пол-этажа, когда из-за тех дверей до него донеслось по-немецки: — Кто там? — И минуту спустя снова и нетерпеливо: — Кто там? Еще шаг. Вот коридор. Он держал в руке немецкую гранату. Услышал, как открылись двери. Бросил и в то же мгновение увидел свет фонарика. Взрывная волна догнала его на лестнице и свалила с последних ступенек. Взрыв был такой сильный, что Имек в течение долгого времени ничего не слышал. Только позднее понял, что взрыв немецкой гранаты вызвал также детонацию английской. Однако на всякий случай, опасаясь возможного преследования, он бросил в подвал бутылку сбензином. Но за ним никто не гнался… Позднее, на дорогах войны, Сташек не раз убеждался в том, что мокотувской капитуляции не было, что те, кто в то сентябрьское утро под дулами немецких автоматов покидали развалины мокотувского бункера, не были побежденными. Хотя гитлеровцы забрали у повстанцев оружие, они не в силах были отнять надежду: ни в кошмарном лагере военнопленных в Скерневице, ни в полных страданий эшелонах во время многодневных перевозок, ни в лагерях в Санбестеле или Оберлангене. Имен из группы «Гранат» одержал свою личную победу в этой войне с гитлеровцами уже как солдат 1-й танковой дивизии. Это было как раз в день именин паренька, 8 мая. Они въезжали на своих бронетранспортерах на улицу Вильгельмсхафен. В парадных мундирах — в соответствии с приказом генерала Мачека. База гитлеровских военных кораблей капитулировала перед польской дивизией. Из домов выходили немецкие солдаты, на тротуарах и площадях росли горы сдаваемого оружия. Перед домом, где находился немецкий пост, стоял здоровый, откормленный жандарм. «Фриц как будто из Варшавы», — подумал Имек. Он хорошо помнил патрулировавших по столице оккупантов с характерными большими знаками различия, презрительно прозванных «жестянщиками». Он не забыл тех немецких солдат, уверенных и жестоких, когда в сентябре на Мокотуве отдавал им вместе с другими повстанцами свое оружие. Подъехав ближе, Имек увидел, что у жандарма на ремне висит кобура. Паренек соскочил на тротуар. Не спеша подошел к немцу. — Отдай! — Жестом руки он пояснил приказ. Немец, глядя на молодого солдата, почти ребенка, безразлично усмехнулся. Но вдруг побледнел, силясь что-то сказать, одновременно рука его потянулась к кобуре за пистолетом. Он не отрывал взгляда от мундира паренька — парадного мундира с нашивкой «Поланд». Шоен-Вольский был уже взрослым человеком, когда получил неожиданное послание. В тридцать четыре года оно снова напомнило ему события, возможно, не настолько забытые, сколько, казалось, освобожденные от эмоций и напряжения тех лет, которые минули с памятных дней августа и сентября. Письмо пришло из Лондона и нашло его в Варшаве. В той самой, в которой он жил вместе с матерью четырнадцатилетним мальчиком: Нижний Мокотув, улица Гроттгера, 11, в той самой, но в то же время другой — Варшаве шестидесятых годов. Он читал письмо, как будто оно было адресовано кому-то другому. Как будто оно касалось кого-то сердечно близкого, очень хорошего знакомого, но не его лично. «№ 12573. Бюро Капитула военного ордена Виртути Милитари подтверждает, что бомбардир Станислав Шоен-Вольский является кавалером военного ордена Виртути Милитари 5 класса. Лондон, 14.Х.1963 г.»К этой высокой боевой награде четырнадцатилетний солдат группы «Гранат» был представлен еще 2 октября 1944 года. Получал ее взрослый мужчина; почти двадцать лет спустя он узнал о награде. Кто-то в архивах нашел забытую папку. Извлек армейские приказы, которые сейчас начинают привлекать интерес только историков. Станислава Шоен-Вольского я знаю давно, у нас одна профессия. Но, разыскивая «сыновей полков», в том числе и Имека из группы «Гранат», я даже не подозревал, что тот четырнадцатилетний солдат сегодня работает редактором, чью фамилию мы очень часто видим на экранах телевизоров во время передачи последних известий.
Михал Воевудзкий НА ПУТИ В БЕРЛИН
Стояла темная, очень темная и тоскливая осенняя ночь. Холод проникал сквозь солдатскую шинель. Ветер свистел и выл, неистово хлопал брезентом тента автомашины. Однако холод и темнота — это было еще не самое страшное. Это еще как-то можно было перенести. Но вот это кладбище рядом! Автомобили 11-го полка 1-й отдельной минометной бригады стояли именно у стены кладбища в деревне Мокободы, недалеко от Седльце. Часовой, охранявший автомашины, старался держаться подальше от кладбищенской стены. Но все же под конец смены необходимо было осмотреть стоянку машин, а для этого предстояло пройти вдоль ограды. Часовой втянул голову в поднятый воротник шинели, крепко сжал в руках автомат и быстро зашагал, стараясь поскорее миновать этот неприятный участок На кладбище ветер шумел в кронах деревьев, качавшихся на фоне черного неба. Из-за стены виднелись белые кресты. Тоскливо шелестели металлические венки, прислоненные к памятникам. Каждый куст напоминал очертание фигуры: человека, зверя или какого-то загадочного существа. Были моменты, когда Метеку хотелось броситься в сторону и бежать, бежать, бежать… Потому что Метеку Карпиньскому едва исполнилось четырнадцать лет, что и говорить — еще почти ребенок. Наконец он прошел участок вдоль кладбищенской стены и мог немного перевести дух. Теперь он находился со стороны деревни, однако чувствовал себя ужасно одиноким, усталым, покинутым… Он на минуту присел на ступеньку одного из автомобилей, и ему вспомнился родительский дом в Рембертуве. Тоска сдавила его сердце. Слезы как-то сами собой потекли по щекам, и он почувствовал на губах их соленый вкус. Но момент слабости длился недолго. Он быстро вытер слезы. Хорошо, что их никто не видел. Еще несколько раз обойти вокруг стоянки автомашин, и придет смена. Внезапно он остановился, напряг внимание и весь превратился в слух. Что это было? Чьи-то шаги? Паренек весь собрался, прислушался. Снова какой-то шелест, отчетливо слышны осторожные шаги… — Стой, кто идет? — Это уже не кладбищенские привидения, а живые люди, и мальчик-солдат решительно крикнул: — Подойти ближе! Недалеко от полковых машин слышно какое-то передвижение и замешательство. Мальчик опустился на колени с выставленным вперед автоматом и на фоне слегка посветлевшего неба заметил какую-то фигуру. — Подойти ближе! — снова раздался приказ. — Пароль? Вместо ответа он услышал, что кто-то в темноте прыжками старался его обойти. «Хотят меня окружить», — подумал он и в ту же секунду крикнул: — Стой! Стрелять буду! Одновременно он молниеносно сменил место и упал на землю за деревом, которое находилось слева от него. На слова его приказа никто не отозвался. Нельзя было терять ни минуты, скорее вызвать подкрепление. Метек дал вверх две короткие автоматные очереди. В ответ посыпались выстрелы невидимых врагов. Мальчик в ответ дал длинную очередь по кустам, из-за которых засверкали вспышки выстрелов. Деревня проснулась. Залились лаем собаки. Потом послышался топот ног и крики солдат, которые вместе с караулом спешили на помощь. — Сюда, сюда! Ко мне! — крикнул Метек. Через минуту у дерева лег подпоручник, начальник караула. Метек в двух словах объяснил ему обстановку. Офицер отдал приказания, солдаты рассыпались цепью и двинулись на укрывавшихся врагов, которые, несомненно, намеревались совершить диверсию против полковых автомашин. Временами то там, то здесь мигали огоньки фонариков. Огонь усиливался. Диверсанты пытались быстро отойти. Но солдаты 11-го полка 1-й отдельной минометной бригады все теснее сжимали кольцо вокруг них. На рассвете противник вынужден был сдаться. К сожалению, во время боя погиб один солдат 1-й батареи, в которой служил Мечислав Карпиньский. Переживания последних часов — бой и похороны товарища, — вероятно, были прощанием Мечислава Карпиньского с детством. Он набрался мужества, закалился и полностью поверил в себя. Из мальчика, одетого в военный мундир, он превратился в солдата. Перед строем он получил благодарность за образцовое несение караульной службы. Как же так произошло, что стоянку автомашин 11-го полка 1-й отдельной минометной бригады охранял ночью четырнадцатилетний мальчик? И каким образом он стал солдатом? Мечислав Карпиньский родился в 1929 году. Начало второй мировой войны застало его в Рембертуве под Варшавой, где жили его родители. В сентябре 1939 года мальчик должен был пойти в четвертый класс общеобразовательной школы. Десятилетний паренек с тревогой смотрел на входящие в Рембертув моторизированные подразделения гитлеровской армии. Чужие солдаты, в зеленоватых мундирах, с автоматами на груди, в стальных касках, ехали на мотоциклах и автомашинах по улицам, гордые и самоуверенные, бросая подозрительные взгляды на стоящих по обеим сторонам мостовой поляков. В лицах гитлеровцев, в их поведении было что-то такое, что в первую же минуту вызвало в мальчике ненависть. Немцы заняли все строения, которые еще не так давно занимали подразделения польской армии, выгоняли поляков из хороших домов. — Варшау капут! Полен капут! — издевательски покрикивали они, а в сердце мальчика росла ненависть, разжигаемая бессилием. — Папа, выстоит Варшава? — с надеждой и тревогой спрашивал он отца. Однако надежд оставалось все меньше, в то время как артиллерийская канонада становилась все сильнее, все больше немецких мотоциклистов и автомашин проходило через Рембертув, все больше бомбардировщиков с гулом летело в сторону еще продолжавшей борьбу Варшавы. И наконец пришел тот черный день: защитники столицы Польши капитулировали. Наступили холодные осенне-зимние дни. Не хватало угля, электрическое освещение постоянно отключалось. Часто приходилось голодать, когда отец Метека не мог найти работы, с продуктами было очень трудно. И как назло, зима 1939–1940 года была страшно холодной. Выпало очень много снега, а сильные морозы держались до самой весны. Немцы в Рембертуве все больше распоясывались. Без малейшего повода арестовывали, избивали людей. В праздники рождества в 1939 году жителей Рембертува потрясла ужасная весть: в соседнем Вавере фашисты расстреляли свыше ста невинных людей! Сто человек! Масштаб преступления, в который трудно было поверить, потряс всю польскую общественность. В Рембертуве из уст в уста передавались фамилии расстрелянных, которых многие знали и уважали. Среди расстрелянных были не только взрослые, но и дети. В доме Метека Карпиньского все задавали себе вопрос: для чего, с какой целью немцы это сделали? Люди еще не понимали тогда, что это была одна из попыток застращать, терроризировать польский народ. Стало, однако, ясно: преступление, совершенное в Вавере, убедительно показало, что гитлеровцы — это бандиты, от которых можно ожидать самого худшего. Только в 1940 году снова открылась общеобразовательная школа в Рембертуве. Метек Карпиньский стал учиться в четвертом классе. Он крепко подружился с Рышардом Соберайским, который также люто ненавидел оккупантов и мечтал о том, чтобы хоть как-нибудь навредить немцам. Директором школы в то время в Рембертуве был Мариан Круликовский, позднее опытный подпольщик, который воспитывал своих учеников в духе горячего патриотизма. В этих условиях ученики школы, а среди них Метек Карпиньский и Рышард Соберайский, очень быстро столкнулись с подпольным движением. Уже осенью 1940 года Метек и Рышард по собственной инициативе совершили необычно дерзкую акцию. В один из дней они встретили на улице Падеревского пьяного немецкого солдата. Ребята сначала потихоньку издевались над шатающимся фрицем, который что-то бормотал по-немецки, время от времени вставляя какое-нибудь польское слово. Ребята для забавы начали кричать немцу: «Водка, водка, шнапс!» Пьяный солдат, которому, по-видимому, было мало выпитого, очень живо заинтересовался словами мальчиков. — Во ист водка? — Там, там… — ответили ребята, указывая рукой перед собой. Солдат выразил пожелание, чтобы его проводили туда, где можно купить «водка». Он сказал, что у него есть деньги, и в доказательство вытащил горсть немецких монет. Однако ребята с завистью поглядывали на кобуру с пистолетом. Иметь в своем распоряжении такое оружие в то время, вероятно, было одним из величайших желаний большинства поляков, а что же тогда говорить о мальчишках! Вот поэтому у Метека Карпиньского моментально родилась дерзкая мысль: нужно украсть у него пистолет! В это время пьяный немец плелся по улице, шатаясь все сильнее и сильнее. Уже начало смеркаться. Неожиданно немец споткнулся и упал на тротуар. Оба мальчика только этого и ждали. Они бросились к нему, как будто желая помочь, а сами стали отстегивать кобуру. Еще минута — и пистолет оказался за пазухой у Метека. Мальчики вовремя подставили ножку подымающемуся с земли фрицу, который снова растянулся во весь рост, а сами бросились наутек. Добытый пистолет первоначально спрятали в дровяном сарае, но спустя некоторое время через Генрика, сына Круликовского, передали его подпольной организации. Дерзкий поступок мальчиков заставил обратить на них внимание, и тот же Генрик Круликовский предложил им вступить в настоящую подпольную организацию. Это была рембертувская ячейка харцеров. С того времени Метека Карпиньского захватил водоворот подпольной деятельности. Он, в частности, участвовал в распространении нелегальной печати, изучал науку так называемого «малого саботажа» и даже проходил боевую подготовку в лесочке около Зомбков. Одним словом, он начал борьбу с оккупантами. Весной 1942 года рембертувские харцеры совершили смелую операцию. Им стало известно, что на запасных путях железнодорожной станции в Рембертуве стоят вагоны с овцами, предназначенными для немецкой армии и для отправки в рейх. Ребята незаметно приблизились к составу и внезапно, по условному сигналу, бегом бросились к вагонам и поспешно начали отодвигать двери. Им удалось открыть восемь вагонов и выгнать из них животных. Что делалось в это время, трудно описать! Стадо овец неслось, не разбирая дороги, и добежало до Рембертува, где, напуганное людьми, начало разбегаться. Жители моментально воспользовались случаем. Кто только мог, хватал овцу, загонял к себе во двор и, не теряя времени, резал ее. Мясо прятали, где придется. Событие было из тех, которые происходят не каждый день, да и польза для людей огромная. Вся эта история закончилась без репрессий со стороны оккупантов. Овцы, отнятые у населения, были списаны немцами как естественные потери. В 1943 году ребята получили задание разведать военный полигон в Рембертуве, где в то время находился лагерь власовцев. Метек Карпиньский отправился на выполнение задания с Рышардом Соберайским и своим младшим братом. Власовцы не обращали никакого внимания на мальчиков, которые шныряли тут и там, осторожно приближаясь к установленным в козлы на краю полигона винтовкам. Выбрав момент, Метек и Рышард схватили две винтовки и поспешили в ближайший лесок. Власовцы, занятые своими делами, не заметили дерзкой кражи. Ребятам счастливо удалось кружным путем принести винтовки в дом Метека. Дело было сделано, но им очень хотелось испробовать добытое оружие, и уже ничто не могло их от этого удержать. Они забрались в дровяной сарай, решив, что деревянные стены и поленницы дров заглушат выстрелы. Результат «испытания» винтовки был «потрясающим». На звук выстрела изо всех ближайших домов выбежали соседи. Все стало сразу же известным, но, на счастье, немцев не оказалось поблизости. Наступил 1944 год. В Варшаве 1 августа началось восстание. Советские и польские части освободили Рембертув. Четырнадцатилетий Мечислав Карпиньский принял твердое решение любой ценой вступить в Войско Польское. Отец относительно легко согласился с этим, хотя пытался втолковать сыну, что такого маленького никто в армию не примет. Мать же впала в отчаяние. Под конец плакали все: и мать, и младший брат, и даже отец. Но Метек не отступил. Он собрал свои вещи и пешком отправился в ближайший военкомат, который размещался в Гарволине, куда и прибыл Карпиньский 27 сентября 1944 года. Военком не хотел даже разговаривать с мальчиком: детей в армию не принимают, и точка. Нашла, однако, коса на камень: Метек Карпиньский два дня просидел в военкомате около печки и, несмотря на просьбы и угрозы, заявил, что не сдвинется с места, пока не будет принят в армию. В конце концов сердце офицера не выдержало, смягчилось, и он произнес: — А, чтоб тебя… — Он хотел сказать «черти побрали», но вовремя спохватился и без слов выдал Карпиньскому направление в 11-й полк 1-й отдельной минометной бригады, который был сформирован под Седльце. При виде худощавого мальчика командир полка подполковник Калентьев насторожился. — А ты куда, сынок? — грозно спросил он. — Иди к маме, а не воевать! Уходи домой! При этих словах слезы покатились из глаз мальчика, который, однако, и в этот раз не уступил. Он по пятам ходил за подполковником и досаждал просьбами, объяснял, что он очень сильный, уверял, что ему шестнадцать лет!.. Сначала ничто не помогало. Подполковник Калентьев то ругал паренька и прогонял его, то, как отец, прижимал к груди и горячо убеждал, что детям нельзя идти на фронт. Но в конце концов и старый солдат не устоял перед настойчивыми просьбами мальчика: махнул рукой и разрешил остаться в полку. Метек Карпиньский направился на склад и получил обмундирование. Но когда он стал одеваться, раздался оглушительный смех. Гимнастерка опускалась почти до щиколоток. Брюки, хотя и подтянутые под самый подбородок, производили весьма комическое впечатление. А сапоги — семимильные! Но портной вручную подогнал обмундирование под небольшую фигуру мальчишки. Карпиньский был зачислен во взвод управления, где проходил трудную боевую подготовку. Паренек с большой охотой выполнял свои обязанности… После ночного происшествия во время несения караульной службы у Метека прибавилось мужества и веры в себя. С каждым днем у него становилось все больше друзей. Отцовской заботой окружили его подполковник Калентьев и поручник Качковский, который старался добыть пареньку дополнительное питание, а иногда и какое-нибудь лакомство. Но, вероятно, наибольшую привязанность к мальчику проявил старший сержант Генрик Крук, которому было около тридцати восьми лет. В Освенциме у него погибли отец и мать. Во взводе он был командиром отделения разведки, в котором Метек Карпиньский был связистом. Между командиром отделения и мальчиком завязалась солдатская дружба. Наступил давно и с нетерпением ожидаемый всеми солдатами 1-й отдельной минометной бригады день отправки на фронт. Жители деревни Мокободы с чувством грусти прощались с отбывающими подразделениями. Солдаты садились по машинам и направлялись на запад, вслед за отступающим противником. Маршрут бригады проходил через Седльце, Миньск-Мазовецки, недалеко от Рембертува, а затем через лежавшую в развалинах Варшаву. 11-й полк получил боевое крещение под Кутно, неподалеку от деревни Лубента. К месту назначения прибыли вечером. Солдаты быстро выгрузили минометы и начали оборудовать огневые позиции впереди советской пехоты, которая окопалась на окраине деревни. Старший сержант Крук со своим отделением разведки получил приказ немедленно выступить в распоряжение советской части, где им предстояло развернуть наблюдательный пункт. Польские минометы должны были на рассвете поддержать огнем атаку советской пехоты. Метека охватило огромное чувство гордости, когда вместе с солдатами отделения разведки он шел от батареи к передовой. Мальчик нес две катушки телефонного кабеля, телефонный аппарат, автомат и вещмешок. Шли осторожно, соблюдая тишину. И вдруг один неосторожный шаг — и Метек полетел в довольно глубокий ров, что вызвало сильный шум. Разведчики моментально упали ничком на землю. К счастью, окопы противника находились значительно дальше, чем предполагали разведчики. Только после тяжелого перехода, длившегося более трех с половиной часов, добрались они до расположения советской части. По договоренности с командиром было решено, что Карпиньский задержится, а остальные разведчики протянут телефонный кабель до позиций минометной батареи. Метек быстро освоился на наблюдательном пункте. Подключил аппарат, сделав временное заземление с помощью винтовочного шомпола. Советские солдаты с интересом наблюдали за работой мальчика, с некоторым недоверием поглядывая на юного разведчика. Когда же увидели, что мальчик быстро и мастерски обращается с телефонным аппаратом, они успокоились и разошлись по своим местам. На рассвете их ожидал новый бой. Метека, утомленного тяжелым переходом, неудержимо клонило ко сну. Надев наушники, он улегся у аппарата и моментально уснул. Однако вскоре мальчика разбудил телефон: это товарищи позвонили перед рассветом, чтобы проверить связь. Метек без промедления ответил и в наушниках услышал голос подполковника Калентьева: — Ну, хорошо, сынок, молодец! Через некоторое время вернулся старший сержант Крук вместе со своими разведчиками. На рассвете немцы пошли в атаку. Метек со своего наблюдательного пункта неожиданно увидел пять немецких танков. Они находились на расстоянии почти семисот метров и направлялись прямо на наблюдательный пункт. Выглядели танки так грозно, что в первую секунду в голове Метека мелькнула мысль: «Бежать!» Но это длилось одно мгновение. Он овладел волнением, вызвал по телефону батарею и передал, где находятся танки, которые подходили все ближе, ведя огонь по советской пехоте. Но вот на предполье начали падать мины его батареи. Метек с горячностью сообщал о местах разрывов. Наконец одна из мин попала в немецкий танк, над которым поднялся черный клуб дыма. Остальные продолжали продвигаться вперед. Грохот рвущихся мин сливался с непрерывными очередями автоматов советской пехоты. В тот момент, когда танки приблизились на триста метров к советским позициям, два метких выстрела из противотанковых ружей остановили еще две машины. Остальные повернули обратно. Минуту спустя на польский наблюдательный пункт прибежали советские солдаты, довольные успешным отражением атаки, к чему Карпиньский имел непосредственное отношение. Потом оказалось, что за уничтоженным польскими минометами танком лежало много убитых немецких солдат. Около полудня Метек по телефону получил поздравление от командира, который одновременно сообщил ему, что он первый из батареи представлен к награждению знаком «Отличный минометчик» за участие в уничтожении танка. Солдаты 1-й отдельной минометной бригады в то время еще не знали, что вскоре их ожидают тяжелые бои за Померанский вал. В этих боях Метек Карпиньский проявил большое мужество. Однажды отделение разведчиков старшего сержанта Крука, а вместе с ним и Метек Карпиньский, под сильным огнем противника продвигалось вперед. Каждый метр грозил смертью — немцы упорно сопротивлялись. Но солдаты не останавливались. Выжидали минуту-другую, пока не стихнут вражеские автоматы, а затем делали короткие перебежки и падали на землю, когда противник снова открывал огонь. Метек бежал с автоматом за спиной и быстро разматывал кабель с катушки. Вдруг он неожиданно увидел прямо перед собой воронку, полную трупов. Видимо, немцы складывали в нее своих убитых солдат. Метек, разогнавшись, уже не мог остановиться и сделал два-три шага по трупам. И вдруг из тела одного убитого вырвался какой-то ужасный звук. Волосы на голове Метека стали дыбом. — Перепугался я тогда не знаю как, — вспоминает Карпиньский. — Подумал, что наступил на живого немца. Упал на землю и моментально выставил автомат в том направлении, откуда, как мне показалось, грозила опасность. Но испугался я напрасно. Метек побежал догонять товарищей. Вскоре польские солдаты вынуждены были залечь — на их пути встал мощный дот; немцы вели огонь из тяжелых пулеметов и легких пушек. Метек быстро связался с командиром батареи, который немедленно приступил к обстрелу дота. Однако мины мало что могли сделать. Правда, вскоре одна из немецких пушек была уничтожена, однако стена огня прижала к земле наступающих. Старший сержант Генрик Крук вместе с Метеком попытались обойти дот. Им это удалось. Метек поднял голову и, к своему удивлению, увидел, что массивная железная дверь дота была открыта. Не задумываясь, он стал стрелять из автомата. Минуту спустя в проеме двери показались три немецких офицера с поднятыми вверх руками. — Сдаемся, не стреляйте! Сдаемся!.. — громко закричали они. Метек Карпиньский, держа автомат наизготовку, подошел к немцам. Они с тревогой глядели на поляка и упорно повторяли: — Нихт шиссен! Не стрелять! Сдаемся!.. Метек приказал им отойти подальше от двери и, соблюдая осторожность, по очереди разоружил их. Они послушно сняли пояса с пистолетами и бросили их на землю. Метек осмотрелся и в стороне увидел Крука, который в любой момент мог прийти на помощь. — Хенде хох! Марш! Они его поняли, обошли дот и остановились около залегших польских и советских солдат. Появление трех немцев, конвоируемых Метеком Карпиньским и Генриком Круком, было встречено радостными возгласами. Пленных немедленно увели в штаб на допрос, а Метека сразу же окружили польские и советские солдаты. Все хвалили его, хлопали одобрительно по плечу. Вскоре пришло сообщение, что по представлению командира 1-й отдельной минометной бригады Мечислав Карпиньский награжден бронзовой медалью «Отличившимся на поле боя». Награду вручил сам командир бригады. Боевой путь в тяжелых и кровопролитных боях вел Метека дальше через Мирославец, Калиш-Поморски и район Дравско. Вместе с товарищами он прорывался через пылающее местечко Реч, остервенело оборонявшееся немцами, участвовал в штурме Старгарда-Шецинского и дошел до берегов Одера. После снежной и морозной зимы наконец в свои права вступила весна, пробуждая радость, хорошее настроение и светлые надежды у солдат, которые отдыхали после тяжелых боев за Померанский вал. В это время Верховное Главнокомандование Советской Армии готовило план Берлинской операции, который предусматривал разгром стратегической группировки немецких войск на берлинском направлении, овладение Берлином и безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. В этой операции предстояло принять участие и соединению Войска Польского. Польские солдаты прекрасно понимали, что наступают решающие дни, близится конец войны. Однажды товарищи Мечислава Карпиньского нашли на берегу Одера листовки, сброшенные с немецких самолетов. Это были призывы к немецкому населению, остававшемуся восточнее Одера, организовывать диверсии в тылу советских и польских войск. Польское командование одновременно проводило разведку района будущих боев между реками Одер и Альте-Одер. Результаты показали, что трудности предстоят огромные. Ширина русла Одера в этом месте составляла около трехсот метров. Однако река разлилась в некоторых местах до двух с половиной километров. Причиной этого было не только весеннее половодье, но и уничтожение немцами противопаводковых дамб. Разведка установила, что самые подходящие для переправы места находятся в районе разрушенного немцами железнодорожного моста в Христианзауэ, западнее Секерок, где имелся удобный подход к берегу, а также южнее местечка Старе Лысогурки, где к реке подступал лес. С этих трех пунктов хорошо просматривались не только зеркало реки, но и укрепления и опорные пункты противника на западном берегу Одера. Несколько позднее данные разведки подтвердили, что немцы создали западнее Одера три полосы обороны, которые они назвали «линией Нибелунгов». Первую полосу «линии Нибелунгов» составляла противопаводковая дамба вдоль западного берега реки. Немцы построили здесь много дзотов, оборудовали укрытия для пулеметов и противотанковых орудий. Далее на запад — между Одером и Альте-Одером — тянулась плоская долина, оканчивавшаяся еще одной противопаводковой дамбой, где немцы также воздвигли оборонительные сооружения. Наконец, здесь же, на западном берегу Альте-Одера, который в этом месте имел всего около сорока метров в ширину, находилась еще одна полоса обороны, основой которой являлась третья высокая противопаводковая дамба. Здесь же проходят шоссе и железная дорога, соединяющие Бад Фрейенвальде и Врицин. Следует добавить, что местность между реками Одер и Альте-Одер, покрытая густой сетью оросительных капав, также была удобна для организации пунктов сопротивления. Кроме того, авиационная разведка донесла, что все городки и даже отдельные каменные застройки были подготовлены немцами к круговой обороне, а въездные и выездные дороги в этих городках были перегорожены баррикадами. Разумеется, вся «линия Нибелунгов» была насыщена минными полями, заграждениями из колючей проволоки и т. п. Разведка установила, что в полосе наступления 1-й армии Войска Польского действовало около 18 артиллерийских и минометных батарей противника. В глубине обороны препятствие для наступающих представляли кагал Гогенцоллерн и река Хафель. Наконец подготовка к форсированию Одера была закончена. Карпиньский запомнил, что проходила она спокойно, организованно. Память его не сохранила особых подробностей. В этом нет ничего удивительного: отдельный солдат и даже большая группа солдат не может охватить всей панорамы предстоящей военной операции. Момент решающей битвы на Одере приближался. Уже 10 апреля саперная разведывательная рота начала изучать подходы к реке и исходные позиции для форсирования трудной водной преграды. Саперы подготовили пятнадцать наблюдательных пунктов, на которых изучались течение реки, ширина русла, уровень воды и т. п. Специально выделенные группы несколько раз пытались переправиться на западный берег Одера. Эти попытки не удались, но наблюдение за сильным огнем противника дало возможность засечь огневые точки немцев. Эти данные позволили выбрать основные места для переправы. В то же время другие саперы готовились к наведению деревянного моста и строили саперные лодки. Было собрано свыше 50 рыбацких лодок, пехотные дивизии также строили для себя лодки. Кроме того, готовились амфибии и буксируемые ими паромы. 13 апреля в бригаде был объявлен набор добровольцев для высадки с целью разведки на западный берег Одера. Метек Карпиньский вышел из строя. Рядом с ним встал его верный товарищ старший сержант Крук. В ночь на 14 апреля 1945 года подразделения 1-й пехотной дивизии, а также артиллерийская разведка были подтянуты к берегу Одера. Они имели задание форсировать реку и захватить плацдарм в районе уничтоженного железнодорожного моста в Христианзауэ, что, в свою очередь, должно было дать возможность главным силам армии подойти к Альте-Одеру и овладеть плацдармами на западном берегу реки. С подходом к Альте-Одеру передовых частей армии саперы и дорожно-мостовые батальоны должны были начать восстановление железнодорожного и шоссейного мостов в районе Христианзауэ, а также навести понтонный мост через Одер. В течение ночи на всем участке противник освещал местность ракетами и вел прицельный обстрел позиций. В районе Гоздовице горел лес, и тучи дыма от пожара наползали на берега реки, создавая естественную дымовую завесу, которую усиливали химическими средствами солдаты батальона противохимической защиты. В 7 часов 30 минут утра 14 апреля после короткой артиллерийской подготовки батальон пехоты, в составе которого находились Метек Карпиньский и его неразлучный друг Крук, приступил к переправе. Началась разведка боем и одновременно попытка овладеть плацдармом. Переполненные солдатами лодки одна за другой рассекали грязно-серые волны широко разлившегося Одера. Противник со своего берега открыл ураганный огонь из пушек, минометов и пулеметов. Снаряды и мины густо падали рядом с продвигающимися вперед лодками, в которых, пригнувшись, сидели польские солдаты. Огонь противника усиливался с каждой секундой, становился все более губительным. Разбита одна, другая лодка… Метек, пристально всматриваясь в противоположный берег, слышал крики раненых, тонущих и зовущих на помощь. Берег приближался. Еще несколько взмахов веслами, и группа солдат, с которой переправился Метек, выскочила на берег. Командиры рот, взводов и отделений кричали: «Вперед, вперед!» Метек бежал изо всех сил, но земля была скользкой и вязкой. Паренек спешил побыстрее подняться на взгорок, чтобы оттуда координировать огонь своих минометов. После короткого, но тяжелого бега он с радостью почувствовал наконец под ногами твердую почву. Это была узкая коса, образовавшаяся в результате весеннего разлива. В это время вокруг начали рваться мины и снаряды. Берег реки к тому же находился под перекрестным огнем немецких пулеметов. Продвижение вперед стало совершенно невозможным. Польская артиллерия не смогла подавить вражеские батареи. Пехоте ничего не оставалось, как окопаться в мокрой, вязкой земле и переждать ураганный огонь. С ног до головы Метек вымазался в жидкой грязи. Вода впитывалась в шинель, проникала под форму… Особенно донимали совершенно мокрые локти и колени. Но сейчас он думал лишь о том, чтобы поскорее установить связь со своей минометной батареей. Но, соединившись с командиром, он, к сожалению, смог доложить только о сложившейся тяжелой обстановке, которая не позволяет ему корректировать огонь. Он окопался на узкой косе и теперь ни на шаг не мог продвинуться вперед. Плотный огонь немецкой артиллерии длился в течение четырех часов. Едва наступало хотя бы короткое огневое затишье, как Метек снова полз вперед по мокрой земле — он должен был выбрать подходящий наблюдательный пункт. И в конце концов нашел место, с которого хорошо видны были позиции немцев. Метек окопался, ветками и пучками травы замаскировал свой окопчик и только после этого осмотрел лежащую перед ним местность. Вскоре он снова установил связь с минометной батареей и начал корректировать ее огонь. Результаты не заставили себя долго ждать: одна за другой было уничтожено несколько немецких огневых точек. В тот же день на направлении Ной-Карлсхоф разведку боем произвел батальон 3-й пехотной дивизии. Перед ним была поставлена задача овладеть плацдармом на северном берегу Альте-Одера, который сливался с Одером южнее Секерок, а на севере с каналом Одер-Хафель. К сожалению, и эта попытка не закончилась полным успехом. Батальон был остановлен огнем противника. Утром следующего дня, 15 апреля, по приказу командования 1-й армии Войска Польского батальон 1-й пехотной дивизии, расположившийся на речной косе, возобновил разведку боем, но, несмотря на более сильную артиллерийскую поддержку, не добился успеха. В то же время новые попытки форсировать Альте-Одер успешно завершились, и подразделения 3-й и 2-й пехотных дивизий сумели продвинуться на несколько сот метров в северном направлении. Таким образом, польские части сосредоточились в пункте, откуда они уже могли начать успешное наступление на первую позицию обороны противника. В это время солдаты, с которыми переправился на западный берег Одера Метек Карпиньский, уже вторую ночь вынуждены были проводить на размокшей речной косе. Положение этих подразделений было тяжелым, так как они все еще не только находились под огнем противника, но и не имели продовольствия, потому что немецкая артиллерия сделала невозможной его доставку. В эти тяжелые часы Метек подружился с молодым советским солдатом, который также высадился на этой проклятой косе. Они оба укрывались в одном окопе, делились сухарями и тушенкой, спали на одной плащ-палатке и укрывались одной шинелью. Вторая ночь также встретила их ужасной погодой. Едва оба, страшно измученные, уснули в окопе, как вдруг почувствовали, что находятся в воде. Уровень воды в реке неожиданно повысился, и их окоп затопило. Только 16 апреля 1945 года началось генеральное форсирование Одера. Полки 1-й и 2-й пехотных дивизий после мощной тридцатиминутной артиллерийской подготовки, в которой очень активно участвовал Метек Карпиньский, корректируя огонь минометов со своего наблюдательного пункта, переправились через Одер, захватили плацдарм на его западном берегу и перерезали железную дорогу в районе Бинненвердера. Части 2-й пехотной дивизии заняли Цакерикер, Лозе, Нойе-Лютцигерике, а подразделения 3-й пехотной дивизии подошли к Вустрову. Немцы оказывали упорное сопротивление. Они неоднократно предпринимали контратаки, которые вскоре захлебывались. Таким образом, уже в первый день наступления соединения 1-й армии Войска Польского на своем нравом фланге прорвали первую позицию обороны гитлеровцев, а на левом — вторую позицию. 18 апреля польские соединения форсировали главную полосу обороны немцев между реками Одер и Альте-Одер. В этот же день советская 47-я армия, наступавшая южнее польских войск, заняла важный пункт Врицен. В ночь на 20 апреля противник из-за угрозы окружения начал отходить на запад по всей полосе наступления польских войск, которые сразу же перешли к преследованию в направлении Ораниенбурга и Берлина. Главные усилия были сосредоточены прежде всего на левом фланге. Здесь, используя очень благоприятную обстановку, сложившуюся в результате успехов советской 47-й армии, которая стремилась обойти и окружить Берлин, удачно вела боевые действия 4-я пехотная дивизия. Уже 21 апреля эта дивизия овладела лесом северо-западнее Бернау. Не менее успешно развивал наступление правый фланг 1-й армии Войска Польского. В результате к исходу дня 22 апреля польские войска вышли на канал Гогенцоллерн. Переправу через канал обороняли отборные подразделения СС, однако польские и советские войска решительно преодолели сопротивление гитлеровцев, форсировали канал Гогенцоллерн и уже 24 апреля вышли к оборонительным рубежам Берлина. 25 апреля советские войска железным кольцом окружили столицу третьего рейха. В смертельном кольце оказался Адольф Гитлер вместе со своим ближайшим окружением. Судьба фюрера уже была предрешена, хотя он все еще верил в какое-то чудо, которое спасет его от гибели. Одной из таких надежд была армия генерала Штейнера, находившаяся севернее Берлина в районе лесов Форст Рутник. И действительно, эта группировка при поддержке артиллерии и остатков авиации осуществила 25 апреля удар на участке, занимаемом 2-й польской пехотной дивизией. Сначала немцам удалось даже прорваться на глубину до трех километров. Бои продолжались до 27 апреля, когда в результате контратаки прорыв был ликвидирован. В это время 1-я армия Войска Польского начала повое наступление на сильно укрепленные немецкие позиции, основой которых являлся Хафельлендишер Гроссер Хаупт-канал. Оборона гитлеровцев на этом участке была прорвана 30 апреля. В этот же день 1-я пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко передала свою полосу обороны советским частям и была переброшена в район Берлина для участия в штурме столицы фашистской Германии. Среди соединений, которым выпала эта честь, оказалась также 1-я отдельная минометная бригада, которая была придана советской 47-й армии. Метек Карпиньский, сын полка, по-прежнему воевал в минометном полку, который теперь должен был поддерживать наступление советской пехоты. Метек Карпиньский после боев на Одере принимал участие и во всех боях между Одером и Хафельлендишер Гроссер Хаупт-каналом. Он пережил не одну трудную минуту. Не раз ему приходилось браться за автомат и гранаты, чтобы вместе с пехотинцами отбивать контратаки немцев. В одной из таких атак Метек, перепрыгивал через заграждение, вскочил на стоявшую вверх дном бочку. Бочка перевернулась, и под ней Метек увидел спрятавшегося немецкого майора. Полки 1-й минометной бригады сражались затем за овладение Шпандау и Потсдамом. 5-й и 8-й минометные полки совместно с советскими бойцами вели наиболее тяжелые бои между двумя озерами Зеровер и Лениц, в то время как 11-й минометный полк, в котором служил Метек Карпиньский, вел особенно ожесточенные бои под Зеебургом, Штакеном и Клостерфельде. Здание за зданием, улица за улицей переходили в руки советских и польских солдат. Все чаще из подвалов разрушенных домов выходили группы гитлеровцев с белыми тряпками на палках, с поднятыми руками. И почти в последние часы войны Карпиньский чуть не был убит на поле боя. Когда под обстрелом он полз через одну из берлинских улиц, чтобы перебраться на другую сторону и занять более удобный наблюдательный пункт, его ранило в спину небольшим осколком. К счастью, позвоночник не был задет, и хирург извлек осколок, который до сих пор Карпиньский хранит у себя дома среди памятных вещей военного времени. Он оставался на передовой до самого конца войны. За свои боевые заслуги он был неоднократно награжден. Среди его наград медаль «Отличившимся на поле боя», Крест Грюнвальда, медали «За Одру, Нису и Балтику» и «За участие в боях за Берлин», а также советские «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». После демобилизации Мечислав Карпиньский поселился в Слупске, там окончил профессиональную школу, а позже, в Бялогарде, — механический лицей. Работал техником-нормировщиком в Слупске, а с 1958 года — в Модлине. Затем стал преподавателем и инструктором верховой езды в городе Новы Двур-Мазовецки.Михал Воевудзкий ЧЛЕН ЭКИПАЖА ТАНКА № 100
Из окна дома семьи Ткачиков на Новом Брудно хорошо была видна широкая панорама Варшавы. По ночам над городом полыхали громадные зарева пожаров. Днем темно-коричневые столбы дыма подымались к небу. Из-за Вислы до Нового Брудно доносилась артиллерийская канонада. Там продолжались незатихающие бои. Восставшая Варшава безуспешно пыталась осилить ненавистного оккупанта. На Новом Брудно в это время было относительно спокойно. В садах дозревали фрукты. По вечерам дурманяще пахло резедой. Цвели цветы. Спокойствие в Новом Брудно как-то не вязалось с тем, что происходило за Вислой, и жителей охватывало тревожное предчувствие, что такое положение долго не продлится. Первого августа 1944 года и на Новом Брудно повсеместно раздались выстрелы, но к утру все стихло. Попытка организовать восстание совершенно не удалась. Многочисленные немецкие патрули на автомашинах и мотоциклах терроризировали население, которое попряталось в подвалах, дровяных сараях и других хозяйственных постройках. Старый Ткачик, токарь с фабрики «Сокол», не имея занятия, бегал от соседа к соседу, с тем чтобы узнать какие-либо новости. Тринадцатилетнего Збигнева мать пыталась держать при себе, но где там… Он убегал из дому, спешил к приятелям и с ними пробирался как можно ближе к Висле, чтобы видеть пылающий, сражающийся город. Иллюзорное спокойствие быстро кончилось. На четвертый или пятый день восстания улочки Нового Брудно заполнились немцами. Они выскакивали из автомашин, держа автоматы наизготовку, окружали дом за домом, угрожающе крича: — Алле раус, алле раус! Шнеллер, шнеллер, раус! Всем выходить! Быстро! Они грозили, что если кто-нибудь не выйдет из подвала или из дому, будет расстрелян на месте. Мужчины выходили из укрытий, тревожно озираясь, держа жен и детей за руки… Под крики и удары прикладов немцы отделяли мужчин от детей и женщин. То здесь, то тамраздавались выстрелы, душераздирающие крики женщин и детей. Ткачика взяли вместе с другими мужчинами и погнали в неизвестном направлении. Его жена осталась с сыном, который, к счастью, был небольшого роста и таким щуплым, что, видимо, показался немцам еще меньше, чем был на самом деле. Наступили дни, полные страха и напряжения, усиливаемых неведением о судьбе мужа и отца… Мать и сын укрывались то в подвале, то в огороде, где был вырыт погреб, прикрытый ветвями и досками. Из укрытия выходили только в случае необходимости. Так проходили дни и недели. Варшава продолжала сопротивление. На востоке от Нового Брудно нарастал гул канонады. Теперь уже не было сомнения, что идет огромное сражение. Наконец однажды артиллерийская канонада сменилась пулеметными очередями, и на улицах Нового Брудно появились советские и польские солдаты. Жители Нового Брудно вновь обрели свободу. Мать и сын не могли, однако, оставаться в доме. — Вам придется уйти отсюда, — сказали солдаты, которые остановились в их доме. — Здесь будет проходить передний край. Мы знаем, что вам будет трудно, но мы должны вас эвакуировать. Ткачикова поспешно вытаскивала из укрытий спрятанную муку, сало, немного крупы… Увязывала в узлы необходимую одежду — свою, сына и мужа. — А что же будет, когда муж вернется? Ведь он не будет знать, где нас искать, — сокрушалась она. — Найдет, найдет, — успокаивали солдаты. — Война ведь теперь долго не продлится. Прогоним немцев из Варшавы, и тогда вернетесь домой. И муж тоже сюда вернется. А Збышек в это время восхищенно рассматривал форму на солдатах и их оружие. Его внимание привлекли автоматы с большими круглыми дисками. «Сколько патронов в нем помещается? Семьдесят два? Ого! У немцев таких автоматов нет. А „катюши“ что это такое? Ракетное оружие? Вот это да!..» Мать и сын, обвешанные узлами, побрели в сторону Пустельника, где жили их знакомые. Может, удастся найти там какой-нибудь угол? По дорогам проходили автомашины с солдатами, распевавшими незнакомые песни. Везде встречались люди, которым тоже было приказано уйти из районов, прилегающих к Висле. Когда мать и сын добрались до Зацише, неожиданно раздались взрывы — это немцы из-за Вислы обстреливали Зацише из орудий. Беженцы вбежали в первый попавшийся дом и спрятались в подвале, чтобы переждать артиллерийский налет, который длился не слишком долго: польские и советские артиллеристы быстро обнаружили позиции немецких батарей и меткими залпами заставили немцев замолчать. Выйдя из дома, Ткачикова встретила свою подругу, которая сразу же забрала их к себе в дом. Дом был просторный, прочно срубленный. Большинство комнат в нем занимали офицеры-танкисты из танкового батальона. В это время в Зацише расквартировалась 1-я отдельная танковая бригада имени Героев Вестерплятте. Для матери и сына также нашлась комната. Командиром батальона был майор Шевченко, а его заместителем по строевой части капитан Тарасов. Последний был невысокого роста, задорный, всегда веселый и улыбающийся. Кожаный шлем танкист носил, сдвинув на затылок, а надо лбом нависал чуб черных густых волос. Он с первой же минуты полюбил Збышека Ткачика, расспрашивал его, как он учился, как было во время немецкой оккупации, что делает его отец и т. п. — Ничего, ничего, вернется отец, — твердо заверял он мальчика, когда узнал, что немцы забрали его отца. — Все будет хорошо, увидишь. Он говорил с такой убежденностью и уверенностью, что ему нельзя было не поверить. Капитан Тарасов брал мальчика с собой и показывал ему танки. Збышек забирался на них, заглядывал внутрь… Он ни на шаг не отступал от капитана Тарасова, часто выполнял его поручения, и майор Шевченко, естественно, обратил на это внимание. — Ты что же, адъютанта нашел себе? — спросил он однажды шутливо. — Конечно, нашел! — рассмеялся во весь голос Тарасов и похлопал мальчика по плечу. Шутки шутками, а однажды Збышек, набравшись смелости, обратился к майору Шевченко, встав перед ним навытяжку: — Товарищ командир! Гражданин Збигнев Ткачик покорно просит принять его в армию. Мальчик говорил совершенно серьезно, однако майор воспринял это как шутку, а капитан Тарасов громко рассмеялся и сказал командиру батальона: — Ну и хорошо. Прими паренька. Проворный. Пригодится… Шутка ему очень понравилась, и он тут же забрал с собой мальчика и проводил к экипажу танка № 100. — Вот вам новый член экипажа! — издалека сказал он сержанту Мариану Хлопицкому, командиру сотки. Шутка была подхвачена и танкистами. Механик-водитель сержант Ян Янковский достал из танка запасной шлемофон и надел его на голову восхищенного Збышека. Заряжающий плютоновый Антоний Селицкий вручил ему трофейную немецкую винтовку, а стрелок-радист сержант Ян Шидловский сказал с важностью в голосе: — Теперь ты можешь нести караульную службу при танке. Збышек же воспринимал все это с полной серьезностью. С этой минуты он не отходил от танка ни днем, ни ночью. Днем помогал танкистам смазывать части машины, приносил им обед, выполнял каждое поручение. Нес при танке караульную службу с винтовкой на плече. Плютоновый Селицкий, правда, вынул из магазина винтовки все патроны, но это ровным счетом ничего не значило. Ведь никто, кроме экипажа танка, не знал, что винтовка не заряжена. Ночью Збышек спал в танке. Было там жестко, неудобно, душно, но мальчишке все равно было приятно. Танкисты посмеивались по поводу этого ночлега, а мать умоляла, чтобы он возвращался на ночь в постель. Но, несмотря ни на что, он проводил ночи в танке. После двухнедельного пребывания в Зацише ночью в танковом батальоне была объявлена неожиданно тревога, и его в составе бригады перебросили в Стару Милосну. О мальчике, который спокойно спал в танке, забившись в угол, совершенно забыли. Шум двигателя и тряска от движения по неровной местности разбудили Збышека только на минуту. Мальчик подумал, что проходят какие-то учения, и спустя мгновение спокойно спал, повернувшись на другой бок. Но утром, когда в Старой Милосной увидели мальчика, вылезающего из танка, все заволновались. Теперь уже было не до шуток. Танкисты в ту же минуту приказали ему возвращаться к матери. Однако парнишка не хотел даже об этом и слышать. Он в армии и в армии останется, настойчиво твердил он. Ему объясняли, что мать будет волноваться, что батальон в любой момент может быть направлен на фронт, но ничего не помогало. Каким образом капитану Тарасову удалось уговорить майора Шевченко, чтобы он оставил мальчика в батальоне, никто не знал. Как бы там ни было, капитан Тарасов вышел от командира батальона с раскрасневшимся лицом и объявил, что мальчик будет зачислен в батальон. Некоторое время спустя пришел портной, который пригнал по фигуре обмундирование, а сапожник сшил сапоги нужного размера. Танкисты три месяца находились в Старой Милосной. Все это время они жили в землянках. Збышек хорошо усваивал законы воинской жизни. Был дисциплинирован, выполнял любую работу и при этом старательно учился. Вскоре он освоил специальности радиотелеграфиста и заряжающего. Сержант Янковский учил его управлять танком. В начале января 1945 года всем стало ясно, что вскоре предстоят новые бои. В бригаде проверяли состояние боевой техники, чистили оружие. Солдатам было приказано не покидать район расположения землянок. Встречи с гражданским населением были совершенно ограничены. Наконец ночью 12 января вся бригада оставила Стару Милосну и выступила в юго-восточном направлении, вверх по Висле. Танки вышли в новый район сосредоточения, откуда они должны были ударить по врагу, находящемуся на другом, левом берегу Вислы. Марш был очень тяжелый. Выпал обильный снег, который завалил поля и дороги, затрудняя продвижение. Збышек Ткачик понимал, что в любой день он может принять участие в боях вместе с экипажем танка № 100. Он пытался поделиться своими переживаниями с членами экипажа, но они были какие-то другие, необычные: серьезные, напряженные, суровые. — Конец шуткам, Збышек, — сказал командир танка Мариан Хлопицкий. Радиотелеграфист Ян Шидловский не снимал с головы шлемофона: ожидал возможных приказов. Заряжающий Антоний Селицкий в который раз проверял наличие боеприпасов, что-то перекладывал, подсчитывал, наводил порядок там, где уже давно все было в порядке… Механик-водитель Ян Янковский внимательно вел танк по заснеженной узкой с выбоинами дороге, стараясь соблюдать установленную дистанцию между своим и идущим впереди танком. После многочасового перехода 1-я танковая бригада скрыто переправилась на плацдарм под Варкой и Гурой-Кальварьей. Подготовка 1-го Белорусского фронта, в состав которого входила 1-я армия Войска Польского, к большой Варшавской операции подходила к концу. Оборону вдоль Вислы в этом районе осуществляли соединения 9-й немецкой армии под командованием генерала Люттвица. Он получил от Гитлера твердый приказ о том, что Варшава должна стать крепостью, сражающейся «до последнего солдата». В соответствии с планом командующего 1-м Белорусским фронтом непосредственное освобождение разрушенной Варшавы должна была осуществить 1-я армия Войска Польского. Наступление началось 14 января. В направлении Варки, Груеца и Гродзиска с варецко-магнушевского плацдарма ударила советская 61-я армия. Утром 15 января из района Модлина перешла в наступление советская 47-я армия. Она форсировала Вислу и развивала наступление в направлении Блоне, стремясь соединиться с наступавшей с юго-востока 61-й армией. 16 января вступила в бой 2-я пехотная дивизия 1-й армии Войска Польского, которая форсировала Вислу в районе Кемпы-Келпиньской и создала плацдарм под Ломянками. 17 января соединения советских 61-й и 47-й армий заняли Гродзиск и Блоне, угрожая окружить немецкие войска, находившиеся в районе Большой Варшавы. В тот же день, на рассвете, главные силы 1-й армии Войска Польского в составе 1-й, 3-й и 4-й пехотных дивизий, 1-й танковой бригады, в которой воевал наш герой, с плацдарма под Варкой и Гурой-Кальварьей перешли в наступление. Эти соединения, сломив упорное сопротивление противника, заняли Гуру-Кальварью, Пясечно и вошли в южный район Варшавы — Мокотув. Одновременно 2-я пехотная дивизия заняла Жолибож, а 6-я дивизия — Жерань и Ляс. На улицах Варшавы шли бои с немецкими подразделениями, которые прикрывали отход главных сил, пытавшихся отойти на запад. И вот 17 января 1945 года столица Польши была свободна. Экипаж танка № 100 с болью в сердце смотрел на громадные пепелища и руины Варшавы. Казалось, что город уже никогда не встанет из развалин. Но на длительные размышления и отчаяние не было времени. Танковая бригада должна была преследовать поспешно отступающего врага. Уже 19 января 1-я танковая бригада, как и вся 1-я армия Войска Польского, была неожиданно направлена на север от Варшавы, получив задание совершить марш-маневр и овладеть городом Быдгощ. Это было вызвано тем, что в этом районе образовался разрыв, который мог быть использован немцами. 1-й Белорусский фронт после освобождения Варшавы в соответствии с разработанным заранее планом осуществлял решительное преследование противника в направлении Быдгощи. В это время на правом берегу Вислы войска 2-го Белорусского фронта ударили от реки Нарев в северном направлении с целью овладения Эльбонгом. Таким образом, между обоими фронтами образовался разрыв, поэтому 1-я армия Войска Польского должна была частью сил обеспечивать стык фронтов. Командование армии разделило войска на две группы: обеспечения, которая уже 19 января двинулась из района Кампиноса вдоль Вислы, и маршевую группу. Части обеспечения быстро продвигались вперед, освобождая населенные пункты. Вскоре они достигли района севернее Быдгощи, который все еще был занят немцами. В ходе марш-маневра польские части ликвидировали разрозненные группы сил противника, оказывавшего упорное сопротивление. В это время 1-я танковая бригада имени Героев Вестерплятте временно была придана советской 47-й армии, действовавшей на правом фланге 1-й армии Войска Польского. Марш проходил в трудных погодных условиях. Стояли сильные морозы, снежные бураны заметали дороги. Это очень затрудняло подвоз боеприпасов, топлива и продовольствия. Но, несмотря ни на что, польские части безостановочно продвигались вперед, покрывая в среднем по 40 километров в день. Экипаж танка № 100 по пути на Быдгощ участвовал во многих боях, из которых выходил целым и невредимым. Однако были в батальоне и потери. Несколько танков были подбиты немецкими противотанковыми расчетами, а несколько подорвались на минах. Погибло много солдат, с которыми Збышек Ткачик очень подружился. Он и сам не раз смотрел смерти в глаза, познал не только радость одержанных побед над врагом. Наиболее упорные бои произошли 24 и 25 января, когда 1-я танковая бригада приступила к очистке Быдгощи от противника. Наконец 25 января танки бригады имени Героев Вестерплятте вступили на улицы освобожденной Быдгощи. Радость жителей города трудно было передать. Ведь они пережили ужасные времена в сентябре 1939 года, когда гитлеровцы после занятия Быдгощи устроили кровавое побоище поляков, а также шестилетнюю оккупацию. Эта радость была причиной очень забавного приключения Збышека Ткачика. На одной из улиц танк № 100 на несколько минут задержался, и Збышек вылез из него. При виде маленького, стройного танкиста с орлом на шапке люди начали его обнимать, целовать… Парнишка переходил из рук в руки… Его бросали вверх и снова сжимали в объятиях, целовали и передавали стоящим рядом. Ошеломленный Збышек пытался вырваться из этих объятий, но все было напрасно! А в это время танк двигался дальше. Когда же наконец Збышеку удалось вырваться, он очутился на другой улице. После длительных поисков он в конце концов нашел свой батальон. Экипаж танка № 100 расположился на отдых у Вишневских на улице Грюнвальдской. Семья, состоявшая из отца, сына и трех дочерей, очень сердечно приняла танкистов. Однако эта сердечность и забота об экипаже доставили Збышеку немало хлопот. Вишневский-отец пришел к выводу, что Збышек ни в коем случае не должен больше оставаться в армии. — Он же совсем маленький! — возмущался он. — Он должен идти в школу! Кто из него вырастет, если он не будет учиться? На этом он, однако, не остановился, а обратился к командованию батальона и заявил, что готов взять Збышека под свою опеку и обеспечить ему, как и своим детям, материальное содержание, воспитание и образование. Командиры вызвали Збышека и изложили предложения Вишневского. Но мальчик не согласился ни с какими доводами. При этом имели место, конечно, слезы и шмыгание носом. В конце концов было принято решение, что Збышек останется в армии. После десятидневного пребывания в Быдгощи 1-й танковой бригаде имени Героев Вестерплятте, которая за участие в освобождении столицы Польши получила почетное наименование «Варшавская», была поставлена новая и, надо сказать, очень трудная задача. Вместе с остальными соединениями 1-й армии Войска Польского она должна была участвовать в прорыве мощной системы немецких оборонительных сооружений под названием Померанский вал. Эти укрепления, если верить гитлеровской пропаганде, должны были служить бастионом против возможного вторжения поляков в третий рейх. В действительности же они были задуманы как плацдарм для нападения на Польшу, и строительство их Гитлер начал еще в 1935 году. Мощный комплекс железобетонных сооружений в своей основе предусматривал максимальное использование естественных преград: рек, озер, каналов, болот, лесов, возвышенностей. Вал протянулся от Щецинека через Валч до реки Нотец. В 1944 году немцы свезли в этот район тысячи рабочих и заключенных и начали лихорадочно совершенствовать укрепления Померанского вала. Были оборудованы и новые позиции в районе Надажице, Жабина, Боруйско, Калиша-Поморского. Еще один оборонительный рубеж проходил через Подгае, Ястрове, Злотув и другие пункты, главным образом расположенные вдоль западного берега реки Гвда. Все оборонительные сооружения, артиллерия и пулеметные гнезда были хорошо замаскированы. Перед укреплениями тянулись многочисленные противотанковые препятствия и минные поля. Бои за овладение Померанским валом были упорными и кровопролитными. Уже в районе Ястрове экипаж танка № 100 понес невосполнимую потерю: геройской смертью погиб командир танка сержант Мариан Хлопицкий — покровитель и наставник Збышека Ткачика. Новым командиром был назначен старшина Микулин, опытный танкист, который с первого же дня расположил к себе экипаж. В последующие, еще более трудные и опасные дни новый командир показал свое мастерство. Экипаж танка участвовал в тяжелых боях за Мирославец, Злоценец, Дравско-Поморске. Каждый из этих городов представлял собой самостоятельные, сильно укрепленные оборонительные пункты, овладеть которыми танкисты и пехота могли лишь ценой величайших усилий. Во время наступления на один из населенных пунктов Збышек Ткачик был свидетелем ужасной трагедии. В атаке принимали участие пехотинцы, которые ехали на танках. Сначала атака проходила по плану. Казалось, что высадка танкового десанта осуществится полностью. Но неожиданно с одного из хорошо замаскированных полевых аэродромов поднялись немецкие самолеты. Они летели на бреющем полете над польскими танками. Бомбы и убийственный пулеметный огонь нанесли большие потери. В живых остались немногие. Спустя некоторое время экипаж танка № 100 пережил драматические минуты. По приказу командира батальона танк должен был вместе с другими танками атаковать небольшой населенный пункт, в котором засели немцы. Машина двигалась по ровной полевой дороге, проходившей у края леса. Микулин хотел по ней объехать широкую поляну. Она простиралась до самых строений, среди которых наблюдалось какое-то движение. Атаку танков должна была поддержать советская артиллерия. Батарея, скрытая за густым лесным массивом, ждала только сигнала танкистов, которые выбирали удобную позицию. Внезапно сильный взрыв подбросил машину — она наскочила на мину. Водитель пытался отвести танк назад, но он крутился на месте. Одна гусеница оказалась перебитой. Необходимо было срочно устранить повреждение. Старшина Микулин отдал приказ сержанту Янковскому и Збышеку Ткачику выйти наружу и соединить гусеницу. Едва Збышек открыл люк и высунул голову, как увидел, что из леса к танку бегут немцы. Мальчик моментально захлопнул крышку и громко закричал: — Немцы! Почти в ту же минуту гитлеровцы начали взбираться на танк. Стучали прикладами, стреляли и кричали, требуя выйти наружу. Положение было трагическим. Экипаж был совершенно лишен возможности сопротивляться. Хотя и немцы также пока ничего не могли сделать танкистам, но по многоголосым крикам можно было понять их намерение: один из немцев предлагал взорвать на двигателе связку гранат, что совершенно вывело бы танк из строя. К счастью, они не могли сделать этого, как как жалюзи танка были закрыты и к двигателю нельзя было подобраться. Гитлеровцы продолжали греметь прикладами по башне танка и всеми силами пытались проникнуть внутрь. Страшные мысли проносились в голове Збышека Ткачика. «Убьют, — с отчаянием думал он. — Убьют. Такой глупый конец!» Внезапно он услышал приказ Микулина: — Збышек! Повращай башню! Мальчик в ту же секунду включил электрическую систему. Башня начала вращаться как сумасшедшая. Однако это не много дало, разве только то, что немцы ничего не могли делать, так как им приходилось судорожно держаться за скобы на башне. Но именно этого и добивался Микулин! Старшине пришла в голову гениальная, хотя и очень опасная, мысль. Он связался по радио с советской батареей. — Я Микулин! — кричал он. — Я Микулин. Танк № 100. Нас окружили немцы. Сообщаю свои координаты. Немедленно откройте огонь шрапнелью. Как поняли? Командир советской батареи сразу оценил обстановку, однако несколько заколебался. — Стрелять по вашему танку? — спросил он неуверенным голосом. — Стреляйте! — крикнул в ответ старшина. — По мне, осколочными! Спустя несколько секунд мощный взрыв в воздухе прямо над танком возвестил о том, что рискованный план Микулина по освобождению танка был реализован. Раздался крик раненого немца. Было слышно, как он упал с танка. Последовали еще два взрыва. Грохот от них слился с грохотом осколков по броне и криками немцев, которые поспешно соскакивали с танка и в панике убегали в лес. Микулин попросил артиллеристов перенести огонь на край леса и тут же приказал экипажу исправить гусеницу. Можно себе представить, как спешили танкисты выполнить этот приказ и как вместе со всеми старался Збышек! Повреждение устранили быстро. Старшина Микулин направил огонь советской батареи на видневшиеся вдали строения. Танк № 100 двинулся в атаку. 8 марта 1945 года 1-я отдельная танковая бригада имени Героев Вестерплятте получила новую задачу — совершить быстрый переход в направлении Гданьска и Гдыни, чтобы принять участие в боях за освобождение этих крупных портовых городов. Недаром бригада носила имя польских солдат, которые первыми приняли неравный бой с врагом на полуострове Вестерплятте в районе Гданьского порта 1 сентября 1939 года. Здесь началась вторая мировая война и здесь польским танкистам выпала честь отомстить гитлеровцам за погибших защитников Вестерплятте. Таким образом, 1-я танковая бригада вошла в состав войск 2-го Белорусского фронта и приступила к боевым действиям с целью ликвидации большой немецкой группировки, попавшей в котел в районе Гдыни и Гданьска. В этом котле находились войска 2-й немецкой армии, которые в марте 1945 года были отрезаны от главных сил немецкой группы армий «Висла» и прижаты к морю войсками 2-го Белорусского фронта. Командование 2-й немецкой армии стремилось эвакуировать часть своих войск по морю через порты Гданьска и Гдыни. Одновременно они упорно отбивались от наступающих советских войск и польской танковой бригады, которая из-под Бялогарда около Кошалина вышла на реку Реду недалеко от Вейхерово. Весь район Гданьского побережья был насыщен оборонительными сооружениями: дотами, дзотами, противотанковыми препятствиями, проволочными заграждениями, минными полями. Кроме того, немецкую оборону на суше поддерживали артиллерийским огнем с моря корабли. Уже 12 марта 1945 года 1-я танковая бригада имени Героев Вестерплятте в составе 8-го советского гвардейского механизированного корпуса перешла в наступление на немецкие оборонительные позиции, тянувшиеся на запад и север от Вейхерово. Польские танки, а среди них танк № 100, поддерживали наступление советских бойцов 321-го и 329-го стрелковых полков. Смелой атакой советские автоматчики и польские танкисты после ожесточенного боя прорвали оборону противника. Немцы оставили на поле боя много убитых и раненых. Целые группы немецких солдат сдавались в плен. Польские танкисты тем временем организовали преследование отступающих немецких частей. Темп преследования был настолько высок, что танкисты перед Смеховом захватили врасплох колонну противника и уничтожили ее, после чего вступили в Реду, а затем овладели Вялой Жекой. Успешная атака на Реду для экипажа танка № 100, однако, окончилась трагично. В танк попали два снаряда из немецкой противотанковой пушки, искусно замаскированной невдалеке от дороги. Первый снаряд разбил ведущее колесо и повредил гусеницу. Последствия второго попадания были значительно худшими. Снаряд ударил прямо в башню командира, который был убит наповал. Остальные члены экипажа сумели быстро оставить танк. Первым выскочил Ян Шидловский, за ним Збышек Ткачик, затем Ян Янковский, которому также удалось укрыться среди придорожных деревьев. В люке танка уже показался Антоний Селицкий. Выбросив ноги, он пригнулся и спрыгнул на землю. И в этот момент раздались выстрелы. Селицкий закачался, вскрикнул и упал на землю. Как оказалось позднее, немецкий снайпер попал ему в лопатку пулей «дум-дум». Друзья сразу же бросились к нему. Селицкий был без сознания, истекал кровью. Рваная рана выглядела ужасно. Танкисты оттащили в сторону заряжающего и быстро перевязали. Вскоре санитары отвезли раненого в госпиталь. В течение двух следующих дней 1-я танковая бригада продолжала вести бои против гитлеровской 4-й дивизии СС. В бою под Яново, оказывая поддержку наступающей на этот населенный пункт советской 101-й стрелковой дивизии, бригада потеряла восемь боевых машин. Поврежденный танк № 100 не принимал участия в этом грозном бою. Оставшиеся в живых члены экипажа, потрясенные трагедией, были заняты похоронами своего геройского командира, старшины Микулина. Его похоронили на кладбище в Вейхерово. Збышек Ткачик очень тяжело переживал гибель командира, который нравился ему небывалой отвагой, а также справедливостью и заботливостью по отношению к своим подчиненным. При выходе с вейхеровского кладбища лицо мальчика было таким печальным, что капитан Тарасов не выдержал и начал утешать его: — Не расстраивайся, Збышек! Меня и тебя смерть не встретит. В нас пуля не попадет — мы оба слишком малы ростом. Пуля пролетит мимо нас. Вскоре после похорон командира танк № 100 был отремонтирован и снова был готов к боям. Уже 17 марта бригада получила приказ перейти в район Ленжице, а затем проследовала до Рогалево, где получила кратковременную передышку, восстанавливая и приводя в боевую готовность свои машины. Конечно, пребывание во втором эшелоне не могло длиться долго. Уже 23 марта вместе с советским 1-м танковым корпусом польские танкисты ударили по немецким оборонительным позициям под Вельким и Малым Кацком. Необходимо было прорвать оборону противника и продвигаться в направлении Сопота, чтобы расчленить силы немцев на две отдельные группы в Гдыне и Гданьске. Танк № 100 в составе батальона майора Шевченко наступал на Гдыню. Бои за этот город длились два дня — 25 и 26 марта. Польские танкисты вместе с солдатами советской 313-й стрелковой дивизии шаг за шагом преодолевали сопротивление гитлеровцев. Наконец утром 27 марта советские автоматчики и польские танки ворвались на улицы Гдыни. В тот же день танки 1-й отдельной бригады имени Героев Вестерплятте прошли улицу Свентоянскую, заполнили грохотом гусениц Кашубскую площадь и остановились перед яхт-клубом. Гдыня была свободна. Остатки немецких войск сопротивлялись еще только в Кемпе-Оксывской. В то время часть бригады вместе с батальоном моторизированной пехоты были переброшены в западный район Гданьска. Польские бойцы приступили к очистке этого района города и уже 28 марта смогли через пылающие улицы старого Гданьска дойти до дворца Артуса. Среди этих бойцов находился и член экипажа танка № 100 Збышек Ткачик. Главные силы 1-й танковой бригады тем временем вели бои против немцев, оборонявшихся в Кемпе-Оксывской. Танкисты последовательно овладели фольварком Дембогуже, выбили немцев из Подгуже, сломили сопротивление противника на шоссе, ведущем в Косаково, и заняли Сухы Двур. Под натиском польских танков и советской пехоты остатки немецких войск начали эвакуироваться на косу Хель. В это время взвод Збигнева Ткачика вернулся из Гданьска, чтобы принять участие в заключительных боях за Оксыве. 5 апреля после артподготовки польские танки двинулись на штурм. Немецкие подразделения, оборонявшие Баби-Дул, были ликвидированы, после чего была предпринята вторая атака на позицию немецкой береговой артиллерии на Оксыве. Экипаж танка № 100 вышел из машины. День был чудесный, солнечный, погожий. С Оксыве открывался широкий вид на Гдыню. Хотя окончательно уничтожение гитлеровских войск завершилось только через месяц, для Збышека Ткачика, члена экипажа танка № 100 из 1-й отдельной танковой бригады имени Героев Вестерплятте, вторая мировая война уже закончилась, так как бригада не принимала более участия в боевых действиях. Осенью 1945 года Збигнев Ткачик был демобилизован в звании капрала. За отличную службу он был много раз награжден. Его постигло большое горе: он получил официальное уведомление, что его отец, схваченный немцами во время Варшавского восстания, погиб в концлагере Маутхаузен. Вскоре Збышек Ткачик закончил 7-й класс и начал изучать профессию вальцовщика. В 1948 году он был снова призван в армию и зачислен в 1-й варшавский танковый полк. По прибытии в часть он встретился с многими хорошо знакомыми еще по фронту офицерами и подофицерами, вместе с которыми прошел длинный путь от Старой-Милосной до Гданьска. Во время службы в армии он окончил школу подофицеров танковых войск и курсы командиров танка. За отличные показатели по службе и учебе он получил знак отличия «Примерный солдат». В настоящее время Збигнев Ткачик работает на большом варшавском заводе легковых автомобилей.Теофил Урняж ПАРЕНЕК ИЗ АЛЬБОМА ВОЕННЫХ ЛЕТ
Хорошо помнится тот день. В наших газетах тогда развернулась кампания по поиску «сыновей полков». Один из сотрудников военного полиграфического комбината в Варшаве Ян Точек принес нам фотографию, о которой пойдет рассказ. На этой фотографии была изображена группа сержантов и рядовых в парадных мундирах. На первом плане сидели два маленьких солдатика, держа в руках винтовки, которые были больше, чем они сами. Один из пареньков имел нашивки капрала, другой — ефрейтора. — Эта фотография оказалась среди моих сувениров военных лет, — объяснял наш гость. — Это группа воинов из моего взвода, когда я сам еще был подофицером в 1-м варшавском понтонно-мостовом батальоне. А эти пареньки… Убейте меня, но я уже не помню, как их звали. Они были с нами на фронте, два таких маленьких «сына». По скольку же им тогда было лет? Десять или одиннадцать… В наш редакционный архив в то время поступало много фотографий молоденьких солдат, присланных читателями. Но эти двое из альбома Яна Точека были, пожалуй, самыми молодыми из всех тех, кого мы знали. Мы сердечно поблагодарили за снимок, и едва ли не на следующий день фотография была напечатана в газете «Жолнеж вольности» с горячим призывом к читателям помочь нам в поисках этих ребят. Кажется, уже через неделю редакционная почта принесла первый ответ на этот вопрос. В конверте оказалась подобная фотография, с той лишь разницей, что выполнена она была в зимнее время. Те же самые два мальчугана в солдатской форме, с винтовками. Рядом стоит еще несколько солдат, а у ног пареньков лежит красивая овчарка. Не помню, к сожалению, фамилии автора письма, но через некоторое время письмо это пропало. Поскольку кампания по поиску «сыновей полков» в это время приобретала все большую популярность и о ней стали писать не только военные газеты, это письмо, вместе с некоторыми другими, «одолжил» один журналист из другой редакции и не возвратил. Насколько мне помнится, автор письма сообщал некоторые очень существенные подробности о мальчуганах. По его рассказу, обоих пареньков в январе 1945 года приютил в Варшаве 6-й саперный батальон, так как они после Варшавского восстания остались сиротами. Одного из мальчишек звали Франек Ковальский, а имени и фамилии второго даже автор письма уже не помнил. Их «усыновил» 6-й саперный батальон, а повсюду их сопровождал прибившийся к бойцам снятый на фотографии пес. Мы начали поиски Франека Ковальского. Потом Сильвестер Краиньский из Вроцлава пытался нам доказать, что Ковальского звали Генриком, а Франек была его кличка. К тому же он якобы был вовсе не у саперов, а у летчиков, и сейчас уже сам летчик… Это известие внесло у нас в редакции определенное замешательство. Однажды в нашу редакцию заглянули два летчика: майор и капитан. Приехали они прямо с аэродрома. Капитан — сухощавый и стеснительный на вид человек. Майор — стройный, приветливый, полный темперамента. — Разыскиваете паренька с фотографии? — спросил он бодро. — Это он! Представляю вам «сына полка», ныне капитана, летчика первого класса… Иеронима Ковальского!.. — Иеронима? Так что, даже не Генрик, а Иероним? — Именно так, хотя до сегодняшнего дня его все называют в полку Франеком Ковальским… Ну, отзовись, Франусь! Но капитан уже заметил на редакционном столе под стеклом большую фотографию двух маленьких солдатиков с винтовками и лежащей у их ног овчаркой. Он был явно взволнован. — У меня нет этого снимка, — сказал он. — Этот мальчишка с нашивками капрала — Рысек Сивек. Вскоре после этого мы расстались, и я не знаю, что с ним было дальше. Кажется, нашел отца… Ему тогда было десять лет, а мне на год больше… А это наш пес — Люкс. Верный Люкс!.. Мы смотрели на возбужденное лицо капитана. Да, не было ни малейшего сомнения. Те же черты лица, то же выражение глаз. — Я заместитель командира полка по политчасти, — между тем представился майор. — Привез вам капитана Ковальского, он скромный парень и сам бы, пожалуй, сюда никогда не приехал… К тому же хорошо знаю Франека и уверен, что сам о себе он не будет говорить. А я могу вам кое-что о нем рассказать… Он прекрасный летчик, летает как дьявол, и все в полку это могут подтвердить… Воспитывает молодежь в аэроклубе, вообще большой друг молодежи… Короче, это превосходный офицер и летчик!.. Ну, скажи, Франек, с какого времени ты летчик первого класса? — Разве это так важно? С 1960 года. — А сколько часов налетал? — Свыше тысячи девятисот, в том числе свыше тысячи четырехсот на реактивных… но ведь я сюда приехал не затем, чтобы хвалиться… — Ты не прав! — противился майор. — Это не хвастовство. Пусть все знают, что этот воробей с фронтовой фотографии сегодня что-то из себя представляет… Ну, хотя бы то, что ты уже давно летаешь на скоростных и являешься летчиком высшей квалификации… — И, обращаясь к нам, майор добавил: — Именно в армии он стал настоящим человеком. Сейчас он женат, у него двое детей. А в детстве армия заменяла ему и дом, и семью. Да, это настоящий «сын полка»! В принципе Франек был сыном даже двух полков: вначале его воспитывали саперы, а потом летчики… Через несколько недель этот паренек из альбома фронтовых фотографий полетел на маленьком «яке», взятом в аэроклубе, в Варшаву, на первую встречу «сыновей полков». Ему не повезло. Когда он шел на посадку в Гоцлавеке, заметил, что не выпускается шасси. Пытался это сделать с помощью аварийного устройства — не вышло. Случайные свидетели восхищались в тот день удивительной воздушной акробатикой маленького «яка», не предполагая даже, что это отнюдь не демонстрация высшего пилотажа, а стремление летчика дать самолету такую перегрузку, чтобы шасси выпустилось. Однако ничего не получилось… Сел он в результате «на брюхо», но так мастерски, что повредил только винт. Механики уверяли капитана, что после замены винта он сможет на этом же самолете вернуться домой. И вот сидит он среди ста других «сыновей полков», на груди у него сверкает серебристый знак самого молодого солдата. Как и все в этом зале, он глубоко взволнован. Здесь создалась такая атмосфера, при которой даже взрослые люди не стыдятся слез. Оживают воспоминания военного детства, отчего спазмы сжимают горло… Влоцлавек. Район Гживно, который он отчетливо помнит, хотя уже сам не знает, картина ли это, увиденная глазами шестилетнего ребенка, или же это то Гживно, какое он представляет себе после прочтения книги «Воспоминания о „Целлюлозе“». Книгу эту он читал несколько раз… Деревянный домик, заросший диким виноградом. Сад полон малины. Летом там цвели настурции, а под окнами росли высокие мальвы. Домик бабушки Ковальской. Так его тогда все называли. В этом домике он родился, там делал первые шаги. Бабушка Ковальская в то время уже не жила с ними. Уехала в другое место, оставила домик сыну и невестке. Жили вчетвером: отец, мать, он и на пять лет старше его брат по матери, Збышек Конверский. Отец по субботам, после зарплаты, всегда приносил им конфеты. Он работал каменщиком на «Целлюлозе»… Отец? Как выглядел отец? Сейчас трудно представить… Как в тумане, помнит он сцену прощания, когда отец уходил на войну, а мать очень сильно плакала. Уже тогда все ему говорили, что скоро у него будет сестричка… Домой отец не вернулся, погиб под Кутно, а во Влоцлавек пришли немцы. Именно тогда в их доме поселилась бабушка Зося, а вскоре мама родила Тереску. Ну, а потом был этот страшный день. Столько лет прошло, а он все еще помнит стук прикладами в дверь и гортанные крики немцев: — Алле раус! Шнель, абер шнель! Раус!.. Все выходи! Быстрей! Помнит он топот подкованных сапог, звон разбитых стекол, треск сломанной мебели и страшный крик бабушки, когда она с кулаками бросилась на вооруженных гитлеровцев, собственным телом загораживая им дорогу к кровати, на которой лежала мать. Она уже несколько дней не вставала с постели после тяжелых родов. Спрятавшись под кроватью, он увидел, как один из немцев вынул пистолет, приставил бабушке к голове и выстрелил. А потом… нет, об этом не хочется думать!.. Он хотел бы всего этого не помнить. Потом другой немец очередями из автомата стал стрелять в лежащую на кровати мать, в скорчившегося в углу комнаты за столом Збышека, в детскую колыбель… До сегодняшнего дня он помнит злое и жестокое выражение лица стрелявшего эсэсовца. Лицо убийцы… Они ушли. А он продолжал лежать без движения, не решаясь выйти из своего укрытия, не решаясь посмотреть на все это. Его привела в дикий ужас страшная тишина в комнате, лежащая без движения в луже крови бабушка и привалившийся к стене, бледный, истекающий кровью Збышек. У него не было мужества подойти к постели матери. Вдруг в этой зловещей тишине он услышал голос. Это в простреленной пулями колыбели запищал младенец. Только тогда он расплакался. 9 июня 1956 года. Он стоит на колене на покрытом ковром возвышении. Минуту назад зачитали его, вторую по списку, фамилию как выпускника офицерского авиационного училища. Прикосновение сабли… Пожатие руки генерала… Он и его товарищи посвящаются в офицеры, на их погонах новые, красиво вышитые звездочки подпоручников… Потом солдатский прощальный товарищеский обед, рядом с выпускниками сидят их отцы, матери. Цветы, поцелуи, семейные тосты… Только рядом с ним нет никого из близких.Соседи заглянули в их квартиру лишь вечером, когда отряд эсэсовцев уехал в Гживно. Увиденная ими картина привела всех в ужас. Недалеко от двери в луже крови лежала мертвая бабушка. На кровати умирала Антонина Ковальская. В углу комнаты полулежал тяжело раненный девятилетний Збышек. А он, шестилетний мальчуган, залитый слезами, качал в простреленной колыбели расплакавшегося, голодного трехдневного младенца… Спустя три дня он шел за гробом матери. На кладбище его кто-то спросил, открыть ли гроб, хочет ли он в последний раз взглянуть на мать. Не хотел. С того времени не было у него дома. Не помнит, кто привез его в Хотчу и отдал в семью Мусяловских, где с первого дня его послали пасти коров. А потом и Мусяловские вынуждены были все оставить немцам: дом, постройки, скот, личные вещи. Вместе с другими поляками их посадили в специальный поезд и вывезли в глубь так называемого генерал-губернаторства. Высадили их в Бялой-Подляской. Еще помнит выселки Гарбары, работу у немецкого колониста. Ему было семь лет, и он должен был зарабатывать на свое существование. Стал пастухом. Школа? Другие дети его возраста ходили в школу. Немецкий хозяин ему этого не разрешил. Ни в том году, ни в последующие годы. Когда ему исполнилось десять лет, его нашла бабушка Ковальская. До этого он мало ее знал. С тех пор как выехала из домика в Гживно, она редко у них бывала. Кажется, не любила его мать. Когда же после многих лет увидала оборванного и полуголодного внука, дрогнуло ее сердце. — Теперь будешь со мной! — решила она. Бабушка была энергичной женщиной. Осмотрелась, поразмыслила и пришла к выводу, что в Гарбарах они не останутся. Связала в узелок свои скромные пожитки, взяла мальчика, и однажды ночью они просто убежали. Сколько недель скитались, сколько километров отмерили они тогда пешком, этого он сегодня уже не помнит. Во всяком случае, то были продолжительные скитания. Все время шли на юг. Куда? Этого бабка Ковальская и сама не знала. Шла туда, где лучше люди и, главное, где нет немецких колонистов. Так они добрели до сандомирских краев. И опять воспоминания. Деревня Бедыхув. Дом Яна Роевского, который предложил бабушке работу. Здесь также нужно было пасти коров и помогать по хозяйству, но теперь уже никто не помыкал мальчуганом. Бездетный хозяин относился к нему как к сыну. Приобрел ему одежду, предлагал даже бабушке, в случае если она согласится, усыновить мальчика. Все чаще поговаривал, что в новом году парнишка должен пойти в школу, а по вечерам учил его читать и писать… Ян Роевский был подофицером запаса и членом подпольной организации. Десятилетний мальчик уже догадывался, что в доме есть оружие и что хозяин поддерживает связь с партизанами. Иногда он даже посылал Иеронима в соседнюю деревню с письмом, которое всегда велел хорошенько спрятать, а иногда и с устным сообщением к кому-нибудь, со строгим приказанием хранить это сообщение в большом секрете. — Возьми с собой козу, — советовал он. — Тогда никто на тебя не обратит внимания. Подумают, что идешь на пастбище… Лето 1944 года. Из-за Вислы с каждым днем приближался гул орудий. Однажды, когда мальчик, как обычно, пас коз, со свистом и воем над его головой пролетело несколько снарядов, которые разорвались где-то за деревней. Испугался он тогда и побежал домой. — Хорошо, что вернулся, — сказал хозяин. — Русские уже на другом берегу Вислы. Не будем ждать, пока они придут сюда. На шоссе полно немецких автомашин, и фашисты успеют нас всех истребить. Может, попытаемся перебраться через Вислу. Забираю тебя с собой… От Бедыхува до Вислы немногим больше километра. Перейти через реку не удалось. Всюду уже были немецкие оборонительные позиции, а от Вислы прибывало все больше автомобилей и орудий. Группа партизан, которых вел Ян Роевский, ночью далеко ушла от Бедыхува. И опять бездомная жизнь. Скитания. Ночлег на копнах еще не убранного хлеба, переходы под боком у немцев от деревни к деревне. Так прошла осень, наступила зима… В одну из январских ночей Роевский разбудил мальчишку: — Вставай! Одевайся! Сейчас выходим!.. Иероним уже привык к ночным тревогам и постоянной смене места. На этот раз дело было серьезнее. Небольшой партизанский отряд под прикрытием снежной поземки должен был прорваться за Вислу. Шли полями, проваливаясь по пояс в снег, старательно обходя перекрестки дорог и деревни,где располагались немцы. Было около трех часов утра, когда из-за Вислы неожиданно обрушилась на их берег лавина огня и стали. Земля дрожала от рвущихся снарядов, небо пылало от тысяч взрывов. Ему казалось, что прямо перед ним разверзается ад. Так началось известное январское 1945 года наступление советских войск. До сегодняшнего дня он хорошо помнит панический страх, охвативший его. Помнит также, как этот внезапный вал огня дезориентировал партизан. Не знали, идти вперед или отступать. В результате они налетели на немецкое пулеметное гнездо. Кто-то рядом с ним упал на снег и жалобно стонал. Другие бежали и падали, скошенные снарядами. Не было видно Яна Роевского. Иероним тоже побежал, но его что-то неожиданно ударило, и он потерял сознание… Когда он открыл глаза, то увидел наклонившееся над ним заботливое женское лицо. Женщина была вся в белом и заботливо подкладывала ему руку под голову. Лежал он на удобной полевой койке, рядом стояли такие же койки. Склонившаяся над ним женщина улыбалась. Он находился в советском полевом госпитале. Рана оказалась не такой тяжелой, хотя рука заживала медленно. Но из-за того, что тогда он много часов пролежал на снегу и морозе, схватил воспаление легких. Здесь ему было хорошо. Медсестры Таня, Оля и Вера ухаживали за ним, как за родным сыном. Полюбили его и врачи. А когда командир батальона узнал, что он сирота и потерял на войне отца, а мать убили немцы, решил: мальчик останется у них подольше, до тех пор, пока не выздоровеет окончательно. В батальоне в то время был уже один «сынок» — четырнадцатилетний Володя. Тоже сирота. Советские солдаты нашли его где-то на пути боев батальона. Володя ходил в специально сшитой для него форме и очень этим гордился. Теперь одну из форм Володи переделали для маленького поляка. — Слушай, Иероним, — спросил однажды Володя. — Почему у тебя такое странное имя? Это польское?.. Он пытался, как мог, объяснить Володе, что имя польское, но редко употребляемое, и что он не любит этого имени, но ничего не сделаешь, если так назвали родители… — Ну, а какие есть настоящие польские имена? — допытывался Володя. — Ну… Янек, Стасек, Франек… — Франек — это красивое имя! С сегодняшнего дня ты для меня Франек Ковальский. Если по-польски, так по-польски!.. Таким образом четырнадцатилетний Володя «перекрестил» Иеронима в Франека. И так осталось. Советский санитарный батальон быстро продвигался вслед за наступающими войсками и примерно в середине марта остановился вблизи Одера. Однажды на совещании командир батальона поставил вопрос о дальнейшей судьбе Франека. — Привыкли мы к нему. Полюбили, как родного сына, это все правда. Мальчик тоже нас любит. Но он поляк и должен возвратиться к своим. Недалеко от нас находится польский 6-й саперный батальон. Я уже разговаривал с командиром батальона Леоновым. Нужно туда отвезти мальчика… Расставание было сердечное и не без слез. И вот он среди польских солдат… — Здесь будет у тебя друг, твой ровесник, — сказал после приветствия командир саперного батальона и приказал кого-то позвать. Вскоре открылась дверь, и в комнату влетела могучая овчарка, приветливо помахивая хвостом, а за ней вбежал паренек в форме с нашивками капрала, может, на голову еще ниже Иеронима Ковальского. Форма на нем сидела ладно, и он чувствовал себя в ней очень уверенно. — Меня звать Рысек Сивек, — сказал он, протягивая руку. — А это Люкс. Не бойся его, он очень добрый. Я рад, что теперь нас будет двое. С утра ждем тебя с Люксом. Сколько тебе лет?.. — Одиннадцать! — А мне девять. Как тебя звать?.. Хотел сказать, что Иероним, но сказал: Франек. Как-то уже привык к этому имени. Так что в саперном батальоне он остался тоже Франеком. Рысека Сивека саперы приютили еще в Варшаве. Он был бездомным ребенком. Нашли его в развалинах, полузамерзшего, оборванного и исхудавшего — одна кожа да кости. Вскоре он стал любимцем и баловнем всего батальона. Прошел с ним от Вислы до Одера. Мальчики подружились, всюду их видели вместе. С ними всегда был верный пес Люкс.
Одер… Установка пограничных столбов… Теперь Иероним уже знает, что был свидетелем исторического события, когда саперы 6-го батальона вбивали в Приодерский вал окрашенный в бело-красные полосы столб, а с другой стороны Одера еще летели немецкие снаряды… Первый пограничный столб, ныне он стал музейным экспонатом. Начались бои за Одером… Командир батальона майор Леонов послал его тогда с донесением в штаб бригады, а он заблудился и чуть не попал в руки немцев, но убежал и доставил донесение… На следующий день перед строем батальона получил повышение — стал ефрейтором… Какой-то полевой аэродром, где он впервые увидел самолеты… Целый день просидел около них, забыв об обеде, а в батальоне все его в это время искали. До сегодняшнего дня он помнит, с каким восхищением осматривал тогда обычные небольшие «кукурузники». Может, именно тогда родилась в нем эта страсть к авиации?.. 6-й саперный батальон в Берлине… Так мало он помнит Берлин, а ведь умолил майора Леонова взять его с собой, Рысек Сивек тогда остался с подразделениями, находившимися в резерве… Доставлял какие-то донесения… Ездил на машинах с боеприпасами… Помнит штурм немецкого дота. Там был тяжело ранен его самый близкий друг и покровитель — сержант Шедрак. Все лицо у него было в крови и серьезно ранена нога. Все говорили, что он не выживет, и санитары сразу же вывезли его в тыл. Однако он выжил… Уже после войны, когда батальон временно располагался во Влоцлавеке, Шедрак приехал из госпиталя в часть. Приковылял на костылях. В госпитале ему ампутировали ногу. После войны батальон был переформирован в понтонно-мостовой полк и направлен во Влоцлавек, в город, где когда-то находился родной дом Франека.
Он исходил улицы Влоцлавека, напрасно разыскивая следы своего детства. Когда интересовался районом Гживно, люди только плечами пожимали. Наконец добрался туда, где когда-то стоял деревянный домик с мальвами под окнами. Не было уже домика, не было Гживно. Немцы все сожгли, сровняли бульдозерами. На этом месте уже рос небольшой лес. Он показался ему карликовым, противным, растущим как бы на огромном кладбище. Пошел на кладбище, но не смог найти могилы матери. У пожилых усатых саперов, сопровождавших его в этих поисках, выступали слезы на глазах. Он же не плакал. Кое-что ему удалось узнать о сестре и брате. Тереска была жива. О ней позаботились родные матери. Сестра жила в Нешаве. Збышек Конверский жил где-то у чужих людей. А Франеку некуда было идти. Командир полка Пилиньский решил оставить мальчика с саперами. Присвоил ему даже звание капрала. Рысека Сивека в то время уже не было в полку. Он поехал с одним солдатом в отпуск в Варшаву и там будто бы нашел отца. Спустя некоторое время во Влоцлавек возвратилась из-под Сандомира бабушка Ковальская. Жила она где-то у людей, в маленькой избушке, впроголодь. Старшина роты поймал как-то Франека, когда тот нес что-то из солдатской кухни. — Потихоньку ничего нельзя выносить! — отругал он паренька. — Для твоей бабушки всегда что-нибудь найдется в нашей кухне. Пусть приходит обедать!.. Так прошел почти год. А потом опять произошла встреча с летчиками. Весной 1946 года батальон 1-го понтонно-мостового полка строил мост. Поблизости в то время размещался 1-й истребительный авиационный полк «Варшава». Тогда Франеку было уже двенадцать лет. Возраст, когда ребенок начинает задумываться над тем, кем станет в будущем. Когда он увидел форму летчиков и особенно самолеты, ему захотелось только одного — стать летчиком. Он убегал из батальона на аэродром, крутился около механиков, познакомился и подружился с ними, а каждого знакомого офицера просил взять его в авиационный полк. Наконец он напал на самого командира полка, майора Вихеркевича. У майора было мягкое сердце. Позвонил он полковнику Пилиньскому, и тот дал согласие. Теперь ему не нужно было тайком убегать на аэродром. С утра до вечера он просиживал здесь с механиками. Подавал им винты и гайки, начищал до блеска металлические части, как и они, ходил весь измазанный маслом. Он был причислен к 3-й эскадрилье. Но летчики терпели его присутствие на аэродроме только до тех пор, пока продолжалось лето и каникулы. Потом он получил приказ: «Пойдешь в школу!» Он взбунтовался. Уже привык к самостоятельности, к тому, что слишком многого от него не требовали. Пытался прогуливать уроки. Убегал из школы на аэродром, особенно когда были полеты. Но командир эскадрильи просто запретил пускать его на аэродром, и как раз во время полетов. И удивительно, все также придерживались этого мнения: должен учиться! И все при случае повторяли ему: — Если хочешь стать когда-нибудь летчиком, должен учиться, притом хорошо. Ты сильно отстал. Неучей в авиацию не берут… Учеба лишь вначале давалась ему с трудом. Потом становилось все легче. Он поверил в свои силы. Из класса в класс переходил со все лучшими оценками. А когда наступали каникулы, он опять мог с раннего утра до ночи находиться на аэродроме. Его всюду охотно встречали, относились к нему по-товарищески и по-отцовски. Он окончил школу, начал работать авиамехаником. И продолжал учиться. Он уже не помнит, что тогда для него было более важным: аттестат зрелости или первый прыжок с парашютом. И то и другое проходило успешно. Потом были курсы планеристов, первые полеты в аэроклубе… Кажется, в 1953 году его вызвал командир полка и спросил: — Ну что, Франек? Чувствуешь себя в состоянии сдавать экзамены в офицерское авиационное училище? А может, хочешь попробовать в военно-техническую академию? Не раздумывая, выбрал авиационное училище. Тогда ему было двадцать лет. В части уже мало кто помнил, как он появился когда-то здесь двенадцатилетним пареньком, был «сыном полка». Да и для летчиков это уже не имело значения… Ковальский возвращается мысленно к выпуску, когда получал первую офицерскую звездочку, к торжественному товарищескому обеду, когда рядом с товарищами сидели их родители, а рядом с ним никого не было. Ему было в этот момент грустно. Но потом он подумал, что ведь в те трудные годы бездомного детства он не остался один. Что и советский санитарный батальон, и 6-й саперный батальон, и 1-й понтонно-мостовой батальон, и 1-й истребительный авиационный полк «Варшава» были его родным домом. Его окружили вниманием, воспитывали, выучили, сделали из него человека… Когда он вернулся после встречи «сыновей полков» на аэродром, самолет стоял уже готовым к вылету. Механики все внимательно осмотрели. Все в порядке. Он взлетел и взял курс на свой аэродром. Завтра в полку полеты. Опять он полетит на своем скоростном МиГ-21. Вечер проведет дома. Девятилетний Мирек и пятилетняя Эльжбетка очень любопытны — как выглядит знак «Сын полка», который прикололи ему рядом со знаком военного летчика, где в золотом венке видна единица, означающая, что обладатель этого знака — летчик 1-го класса.
Войцех Козлович ПАРАБЕЛЛУМ
Сложный рисунок позолоты в стиле сецессион раскинулся на потолке большого зала ресторана. Официантка приняла заказ. Майор взглянул на меня: — Как это было? — Он протянул руку с худыми, но крепкими пальцами, давая прикурить. Усмехнулся: — Как раз у нас тогда жеребилась кобыла… Официантка, поставив кофе, окинула нас удивленным взглядом. Откуда она могла знать, что именно так начиналась солдатская биография. Та ночь явилась началом истории, которая потом взрослому уже мужчине и солдату даст право на почетный знак «Сын полка». Никто не приказывал тогда Тадеку ночевать в конюшне. Но десятилетний паренек был сильно привязан к лошадям и сам вечером удрал из дому. Он зарылся в мягкое душистое сено с твердой решимостью ждать рождения жеребенка. Ото сна оторвал его протяжный звук. Подумал, что это, возможно, стон кобылы, но увидел, как темноту конюшни освещает расширяющаяся полоса света. Через приоткрытые двери заглядывал месяц и четко вырисовывал темные силуэты стоящих на пороге людей. Разговаривали они тихим голосом. Он вдруг услыхал голос брата. Бронек что-то говорил тем двоим: в одном из них Тадек узнал соседа Зенека Стшесневского, другим был житель деревни Куба Краевский. Не слышно было, о чем они говорили, но сердце вдруг громко забилось, так как он увидел винтовки на плечах ночных гостей. Они его не заметили, но на другой день Тадек сам все рассказал брату. Бронек посмотрел на него внимательно. — Это тайна, Тадек, — сказал он. — Ничего никому, понял? — И, наклонившись, предостерег: — Особенно насчет того, что ты видел эти «палки». Такой была первая встреча Тадека с оружием. Вскоре он научился различать эти «палки»: винтовки, двустволки, автоматы. Тлубице — небольшая деревенька, насчитывавшая в то время около сорока изб. До ближайшей железнодорожной станции было примерно десять километров. Война и сюда ворвалась уже в первые дни своей жестокостью, злом, трагедией неожиданного поражения. Тадек помнит, как в один из вечеров отец, возвратившись от соседей, сказал: — Взяли Собеского из Бомбалице. Наступило молчание, а потом самый старший брат, Бронек, добавил: — И Шевчикевича из Лелице. Ходили с готовым списком… Картофельный суп остывал в тарелке. Тишину прервал вопрос Тадека: — Куда взяли? Вскоре он понял смысл всего этого, но тогда с назойливостью ребенка добивался объяснения. — Почему их арестовали? — продолжал он спрашивать. — Потому что были коммунистами, — объяснял отец. — Коммунистами? — не понимал паренек. — Ну, хорошими поляками, — пытались объяснить парнишке как можно проще смысл классовой и национальной борьбы. Эти слова глубоко запали в память Тадеку. Это был первый урок патриотизма, который объяснил ему, почему куда-то время от времени исчезают из дома старшие братья или пропадают выпеченные буханки хлеба, которые только до ночи заполняли полки в кладовке… Тадек за всем внимательно и с большим интересом наблюдал, хотя редко о чем-либо спрашивал. Научился он также не попадаться на глаза немцам. В Тлубице они не квартировали, но часто заглядывали в деревню из недалекого Вельска или из Лелице. Особенно ненавистными были три жандарма из Зонготов: Копка, Шрыт и Отто… Не было, пожалуй, хозяина, которому бы от них не досталось. Приезжали они обычно на велосипедах. Тадек знал, что если он их раньше заметит, то должен всегда предупредить жителей деревни. Иногда он это делал, оставляя на произвол судьбы пасущихся на лугу коров. Однажды Тадек помчался в деревню изо всех сил, однако с другой новостью. Он был в поле, когда услыхал выстрелы. Прислушался, но кругом стояла глубокая тишина, от которой, казалось, звенит в ушах. Однако он пошел в сторону, откуда донесся звук выстрела, лугами и перелесками, до перекрестка дорог, ведущих в Серпец и Лелице. Лежали они на пустынном шоссе, в пыли, неподвижные, уже не страшные: Копка, Шрыт и Отто. К деревне он побежал напрямик, только ему известными дорогами, и именно тогда понял, что означают эти ночные исчезновения старших братьев, частые посещения чужих людей, эта таинственность и осторожность, непонятная, но влекущая, и эта встреча в кустах лещины, когда созревали орехи… — Мальчик! — услышал он громкий шепот по-русски. Двое незнакомых спрашивали нетерпеливо: — Партизаны где? Он отрицательно повертел головой, давая понять, что не знает, и полетел домой. Не из-за страха. Нашел брата, Казика. Быстро рассказал ему о встрече. — Это, наверно, русские, — добавил он, объясняя, где их встретил. Когда в сумерках он пригнал коров, то увидел тех двоих, которые вместе с братьями копали укрытие у пруда. Один из них заговорщически улыбнулся и сказал: — Я Гришка. Укрытие у пруда было большое, старательно замаскированное насыпью из золы. Позже здесь не раз ночевали партизаны Кубы Краевского, останавливался при проезде из штаба округа Армии Людовой на инспектирование Теодор Куфель и другие партизанские командиры. Иногда один из братьев звал Тадеуша: — Покарауль, Тадек, в случае чего — дай знать… Они знали, что на мальчишку можно положиться. Иногда он выполнял различные поручения партизан, носил донесения, вел наблюдение. Лежал ночью где-нибудь под кустом, глядя на побеленную луной дорогу, или в отцовском полушубке, съежившись, слушал, как зимой трескаются от мороза деревья. Он был тогда так горд, как редко когда-либо потом… Может, так же, как десять лет спустя, когда командир офицерского училища в Замостье вручал подпоручнику Тадеушу Тыбурскому диплом об окончании училища, а также грамоту за отличные показатели. В офицерском мундире, со звездочками на погонах, переступил порог деревенской избы и заметил слезы в глазах матери. Не знала она, что он был в офицерском училище. Он хотел пойти в армию с самого начала, когда в ту зиму сорок пятого уже без страха чистил автоматы солдат, которые пришли в Тлубице. Несколько дней спустя он прибрел по занесенным снегом дорогам на прифронтовой советский аэродром. — Хочу в армию, — упрямился он и добился того, чтобы ему разрешили несколько дней побыть в советской части. Вместе с банкой тушенки получил хороший совет летчиков: — Ты должен сперва учиться. Умел он, действительно, немного. Когда должен был идти в школу, началась война. Оккупация многому его научила, однако он умел держать в руках винтовку лучше, чем ручку: знал, как обезвредить гранату, но спотыкался на таблице умножения. Совета советских летчиков Тадек не забыл, хотя их фамилии вылетели из памяти. В 1947 году он окончил четыре класса — большего деревенская школа не могла дать. Потом сговорился с друзьями, Казиком и Сташеком Фютовскими, и они бежали из дома. Где-то в Силезии потеряли друг друга, но, когда в 1955 году подпоручник Тыбурский приехал в деревню, оказалось, что и те пареньки также получили офицерские звездочки. Казимеж теперь командор-подпоручник (капитан 3 ранга), а Станислав — капитан. Помнится тот день, когда я встретил их вместе. Это было в конце 1968 года, во время слета «сыновей полков». Тогда сухощавый капитан в летной форме сказал: — Мы, сыновья полков, бывшие партизаны 1-го батальона Армии Людовой имени Сыновей Плоцкой земли, продолжаем верно служить родине… Визитную карточку Тадеуша Тыбурского я нашел недавно, приводя в порядок свои записи. Позвонил, договорились встретиться. — Вы будете в летной форме, капитан? — спросил я. — Да, в летной, только… — на мгновение он замолчал. — Теперь я уже майор. — Тыбурский? — вспомнил кто-то из коллег по редакции. — Это, наверное, тот лауреат премии министра национальной обороны. Я проверил. Нашел заметку: вторая премия в области изобретения вооружения. Когда во время нашей встречи тридцатипятилетний майор Тыбурский прикуривал от спички сигарету, я заметил на пальцах, около ногтей, следы шрамов. — Только на левой руке, — сказал офицер, перехватив мой взгляд. …Шел пятый по счету военный ноябрь. Однажды Тадека разбудил знакомый стук. Не зажигая света, он подошел к двери: это был Бронек с Кубой. Паренек уже знал, что Краевский является командиром действующего в окрестностях партизанского отряда Армии Крайовой, который позже вошел в состав бригады Армии Людовой имени Сыновей Мазовецкой земли. Куба придержал дверь: — Иду к моим, — обратился он к Бронеку. — Позже зайду к тебе… В кухне, заслонив плотно окно, уже возилась тетка. С тех пор как в июле сорок пятого забрали старшего Тыбурского с женой, только она с десятилетним Тадеком осталась в доме. Бронек и Эдек были в лесу, в отряде Кубы; Казик скрывался в лесу после того, как сбежал от немецкого хозяина; сестра Валентина была угнана на работы, вторая, Сабина, находилась у соседей Фютовских, с дочерьми которых она дружила, сотрудничая с партизанами Армии Людовой. Когда в тот летний день к Тыбурским неожиданно нагрянули жандармы, в доме находился только Тадек. Мать успела его предупредить. Он выскочил через окно, прежде чем они успели окружить дом, и, прячась за сарай, убежал в лес. Но родителей Тадека забрали, несмотря на то что у отца были больные ноги. Кто-то их предал. Арестовали также и брата Тыбурского с сыном. Во время внезапного обыска в кузнице Стальчика — это был псевдоним брата — обнаружили гранаты, ключи для отвинчивания гаек на рельсах, самодельные мины. Оба Тыбурские встретились позже в концлагере Штуттгофа, никто из них уже не возвратился в деревню… После ареста родителей девятилетний Тадек остался со старой теткой. На него свалилась уборка хлеба, потом осенние работы в поле. Немного помогали соседи, а по вечерам из леса приходили братья и до рассвета, что могли, делали по хозяйству. И поэтому очень обрадовался Тадек, когда услыхал той ноябрьской ночью знакомый стук. Тетка вынула из печки еще теплый борщ. Бронек сменил белье, уселся над тарелкой. Потом взглянул на брата и сказал: — Тадек, присмотри за дорогой, а я пока немного вздремну. Он вытащил из кармана две гранаты и осторожно уложил их на кровати. Под голову положил парабеллум… Это был прекрасный пистолет. Иногда Бронек давал Тадеку подержать его, а несколько раз они даже постреляли в убежище около пруда. Казик научил его стрелять из советского автомата ППШ. Получил он его от делегата Плоцкого округа, товарища Людвиньской, отсюда пошла и кличка брата — Пепешка. Тадек вышел во двор. Уже серело, пронизывающий холод осени забирался под наброшенный полушубок. Он подложил коровам немного корма и вернулся за чем-то в сени. Вдруг он услыхал пискливый голос Ядзьки, дочки соседей, живших в одном доме с ними. Видно, девочку разбудили ночные гости. — Тихо, сии! — крикнул он на девочку. — Тадек, у тебя есть черный кролик? — спросила она. — Не болтай чепухи, — рассердился он. Но Ядзька не отступала. — Но я же вижу, что он скачет по двору, разве это не твой?.. Тадек действительно выращивал кроликов, но черного у него не было. Чтобы успокоить ребенка, он встал на пороге сеней и тогда увидел… Они выходили из-за угла сарая. В сумерках раннего утра он различал лишь их фигуры. Только потом успел сосчитать: их было девять. Заметил, что это штатские и что только один из них не имел оружия. И именно этот один кого-то ему напоминал… Он вскочил в комнату с криком: — Бронек, беги! Тадек споткнулся обо что-то на пороге и уже не успел подняться. Один из фашистов вскочил в сени и навалился на дверь, где жила Ядзя. Девочка вскрикнула, и в какой-то момент Тадек подумал, что она, наверное, увидела их через окно, — отсюда и появился этот «черный кролик». Гестаповец свернул вправо, в комнату Тыбурских — видимо, заметил выпрыгивавшего в этот момент через окно Бронека. Последовала длинная очередь из автомата, в ответ раздался выстрел из парабеллума. Бронек на секунду исчез, бросился сразу же за сарай: оттуда было ближе к лесу. Но там дорога была уже отрезана. Поэтому он круто свернул и побежал прямо через поле к отдаленным кустам. Тадек видел его теперь отчетливо. Земля была сырая, тяжелые комья мешали бежать брату. Автоматные очереди разносились по деревне. Одна из них достигла Бронека. Тадек заметил, как брат споткнулся, уже на поле соседей. Но через несколько шагов остановился, как бы набирая воздух. Обернулся — к нему бежали с нескольких сторон. Тогда он сделал несколько шагов назад, собрав последние силы, перебрался через глубокую межу, разделяющую соседские поля, и упал уже на свою землю. Одиноко прозвучал выстрел из парабеллума, уже в последний раз. Тадек стоял не шелохнувшись в дверях избы и смотрел, хотя тот, кто его держал, тоже побежал к лежащему. Смотрел, прищурив глаза. Уже светало. Восход солнца был изумительно красивым в это ноябрьское утро. Тадек запомнил его на всю жизнь. А потом его охватил страх, но тотчас же его успокоил ровный голос тетки: — Не надо прятаться, Тадек, нас и так найдут. Его притащили к брату. Бронек еще жил. Глаза его были открыты. Казалось, что он хотел что-то сказать. Агент из гестапо с пистолетом в руке смотрел на Тадека. — Кто это? Тадек молчал. Тишина стояла такая, какая бывает только в деревне на рассвете, — глубокая и чистая. — Ну? — Голос агента звучал пока спокойно. Тадек поднял голову. Небольшой, щуплый, он казался еще меньше среди этих откормленных верзил, ожидающих ответа. Теперь он уже не боялся. Толстяк сунул левую руку в карман и потом протянул ладонь Тадеку. Тадек смотрел на конфету и подумал, что Бронек был прав, когда говорил: — Помни, не верь им, Тадек. Никогда. Будут соблазнять тебя конфетами, будут вежливые, а если скажешь им одно, то скажешь и другое, и все им расскажешь… У них такие методы. Так что никогда ничего не бери. Помни, никогда ничего… Толстяку, видно, все уже надоело. Он засунул пистолет за пояс — ведь перед ними остался только этот умирающий да мальчишка с серым лицом. Тадек взглянул на руку гестаповца — на пальце был прекрасный перстень с печатью. Уже после первого удара в лицо вылетел зуб. Тадек чувствовал, как распухают губы. Очередной удар — и второй зуб. «Это перстнем», — подумал он. — Подойди к этому бандиту! — услышал он. Но только по жесту понял, что говорят о Бронеке. Ноги были ватными. — Расстегни его! — последовал опять крик. Тадек наклонился. Вблизи увидел глаза Бронека. Осторожно расстегнул пуговицы и только тогда понял, что Бронек был одет в мундир. Настоящий военный мундир — это мечта каждого партизана. Орел на пуговицах. Орел был также на фуражке, засунутой в карман. В узелке из носового платка были патроны. Белый пуловер все более пропитывался кровью. — Скажи, кто это? — раздался крик. Бронек шевельнул губами. Тадек хотел его успокоить: не бойся, ничего не скажу. Теперь он уже знал твердо, что ничего не скажет. — Тадек, неужели не знаешь? — услышал он как будто знакомый голос. Он выпрямился: это спрашивал тот невооруженный штатский, стоявший до тех пор в стороне. — Это ведь твой брат — Бронек, — говорил тот. Ему было около семнадцати лет. Появился он в деревне год назад, приютили его одни хозяева. Никто не спрашивал, откуда он пришел. Немного помогал, возился с деревенскими ребятишками. В деревне называли его Сеек. Когда-то обнаружили его в укрытии у Бурачиньских. Забрали тогда не только Сеека, но и хозяев, их обеих дочерей, сына Сташека, а также и партизана из отряда Кубы… Как известно, за укрывание евреев грозила смерть. «Значит, Сеек вернулся», — подумал Тадек и сказал: — Тебя, Сеек, я знаю, а его… — Он взглянул на лежащего брата. Бронек уже не шевелил губами, глаза были чужие, лишенные света. Глядя на мертвого брата, Тадек, не мог уже больше ничего сказать. Он только отрицательно вертел головой, настойчиво, долго, чтобы те поняли, что не узнают ничего, ничего… — Ты, Тадек, меня знаешь год, но его, пожалуй, лучше, и так хорошо, как свои собственные пальцы… Это Сеек. Потом он сказал еще что-то, но Тадек этого уже не слышал — кто-то из гитлеровцев толкнул его на другого, тот как мяч отпасовал его следующему, круг сомкнулся, стал теснее, и началась страшная мельница: кулак — приклад — сапог — приклад — сапог — кулак — приклад — кулак… Когда он пришел в себя, гестаповцы курили. Подняли его за воротник. У него хватило еще сил, чтобы не упасть. О чем-то они между собой разговаривали. Резкий, влажный воздух подействовал на него, как ковш холодной воды. Фашисты докуривали сигареты, а потом подходили к окровавленному парнишке и гасили их о его щеки, губы, нос. — Больше всего было больно, когда прижигали ногти, — говорит майор Тыбурский. Спокойно, деловито, так, как говорил обо всем до сих пор. И так же спокойно говорил потом. О вырванных ногтях, о напильнике… Даже не дрожит его рука, когда он прикуривает очередную сигарету… Тадеку приказали лечь рядом с братом. Потом всадили несколько очередей из автомата в землю рядом с ним. Мокрые комки земли брызгали в лицо, впивались в волосы. Земля действовала успокаивающе. Он обнимал ее вытянутыми руками, словно кого-то близкого. Затем раздался скрип удаляющейся повозки с брошенным в нее телом Бронека. Тадек остался один… Думаю о первой фамилии в списках слушателей офицерского училища, о премии министра инженеру-конструктору, о Вальдеке, которому сегодня столько лет, сколько его отцу было тогда, когда он смотрел на умирающего в лучах восходящего солнца брата. Со времени, когда я беседовал с майором Тыбурским — а это ведь было не так давно, — он пополнил список своих достижений: еще одна премия за изобретения в области вооружения.Войцех Козлович В ПОХОДЕ ЗА РОДИНУ
— Возвращайся к матери! — услышал он в один из дней оккупации, когда, вместо того чтобы пасти коров на лугу, оказался в лесном лагере партизанского отряда Пшенюрки. Командир был неумолим, точно так же, как некоторое время тому назад Цень. Лёнек угадал, что в этой твердой неумолимости повинна его заботливая мать, которая уже дважды предупреждала командиров местных партизанских отрядов — через соседей или ближайших знакомых — о намерениях сына непременно уйти к «ребятам из леса». «Как можно возвратиться!» — думал он, со злостью ломая верхушки кустов «стволом» выструганной из дерева винтовки. В его глазах стояли слезы, он мог позволить себе эту немужскую слабость: вокруг никого не было. Что скажут ребята! Лёнека не столько беспокоила ожидавшая его дома выволочка, сколько насмешки ровесников, которых он предупредил, что на этот раз он действительно идет к «лесным». В чистом весеннем воздухе мальчик услышал нарастающий гул. Он на мгновение приостановился, а затем побежал напрямик по размякшей от весенних вод земле к шоссе, скрытому за молодым леском. Он осторожно пробирался между деревьями, затем пополз среди редких кустов. Наконец, добравшись до пригорка, увидел чуть ниже четкую ленту дороги. Из-за поворота выскочили быстрые, подвижные мотоциклы. Длинные стволы ручных пулеметов были готовы в любую минуту выпустить смертоносную очередь. За мотоциклами медленно и неуверенно тащились грузовики немецкой военной автоколонны. Фашисты опасливо проезжали мимо молчаливого пригорка, за которым скрытый в зарослях тринадцатилетний мальчик в бессильной злобе целился во врага из деревяшки и мечтал о настоящей винтовке. Позже, уже будучи взрослым человеком, он будет вспоминать эти годы просто и откровенно: — Мне было тогда всего тринадцать лет. Никакая идея в то время еще мной не руководила. Мне не приходилось слышать ни о Ленине, ни о коммунизме, ни о демократической Польше. Мечтал иметь винтовку и бороться… Хотя Лёнек не понимал многих вещей, но, как всякий ребенок, был особенно впечатлителен к неправде, несправедливости, фальши, насилию. На каждом шагу он видел на лицах людей страх перед приездом жандармов в деревню, слышал плач по последней забранной корове, отчаяние по близким, силой угнанным «на работы», трагедию осиротевших детей, у которых на глазах застрелили их отца… Мальчик знал, что с этой неправдой и насилием борются партизаны. Он хотел быть с ними. Была в этом стремлении мечта о великих приключениях, ассоциирующаяся с «ребятами из леса», чью жизнь и борьбу окружал ореол таинственности и необычности. Правда, его уже несколько раз не приняли в отряд. Понимал он это по-своему: не было у него настоящего оружия. Он даже и в мыслях не допускал, что его считают еще ребенком, что тяжесть трудной партизанской жизни непосильна тринадцатилетнему пареньку. Это произошло сразу же после пасхи, когда он украл у немцев винтовку. У него не было времени для прощания с родными. Он даже не оглянулся, когда оставил дом. Не думал о просьбах и возможных подзатыльниках матери. Он крепко держал в руках настоящую винтовку — пропуск в лес. Паренек знал, что на «знакомых» партизан он рассчитывать не может: отправят домой. Но он слышал, что недалеко, в районе Вислы, в Свенцеховском лесу, находились советские партизаны. Что знал он о них? Только то, чем пугал немецкий плакат, вывешенный на избе старосты, пока его не сорвала чья-то рука: угрюмый, заросший щетиной здоровенный мужик с ножом в руке и подпись — «большевик». Этот образ стоял у него перед глазами, когда он отправился на поиски своей мечты. Неуверенность, однако, не замедлила его шагов. — Мальчик, ты куда? — неожиданный, приглушенный шепот приковал его к месту. Те, кто его задержали, были действительно заросшими, с впалыми усталыми лицами, в поношенной одежде, некоторые были босыми. В руках вместо ножей держали автоматы. Мальчик вскинул свою винтовку: — Хочу воевать! Голос и выражение лица паренька были гораздо убедительнее, нежели оружие в его детской руке. Высокий, черноглазый, с густой бородой командир строго притянул его к себе, как бы желая проверить, насколько силен этот кандидат в бойцы, ростом едва достающий до груди взрослого мужчины. В сильном пожатии его руки Лёнек почувствовал сердечность. Командир советского отряда № 14, капитан Николай Тихонов, уступил мольбам мальчика. Леонард стал двадцать седьмым партизаном его отряда, единственным поляком. Только теперь, во время длительного партизанского похода, мальчик услышал о коммунизме и Ленине. Он осваивал эти знания не на школьной скамье, не по учебнику, а из партизанских будничных фактов, которые значили больше, чем любые слова. Капитан Тихонов командовал разведотрядом. Радиотелеграфист Володя по рации получал все время новые задания, которые определяли их дальнейший боевой путь. Однажды ночью, во время переправы через Вислу, их осветили гитлеровские ракеты. Вслед партизанам понеслись очереди из автоматов. Следы трассирующих пуль разрывали покров ночной темноты, которая их укрывала от преследователей. Реку форсировали без потерь. Лёнек никогда не забывал этой переправы, хотя позднее были более грозные минуты, более опасные моменты. Не забывал потому, что командир группы, охранявшей переправу, докладывая о благополучном завершении операции, сказал капитану Тихонову: — Люди все налицо… — и добавил подчеркнуто: — Лёнька тоже. Тогда же ему вручили шапку-кубанку со звездой и красной нашивкой, которую носили и другие партизаны. Продвигаясь в соответствии с приказом в направлении гор, на юг, во время одного из привалов на территории Келецкого воеводства они встретились с отрядом Батальонов Хлопских, которым командовал легендарный Маслянка. Встреча их была короткой, всего два часа. Спустя четверть века я спросил у Леонарда Дурды, почему он вспоминает этот эпизод. Теперь уже сорокалетний мужчина говорит улыбаясь: — Именно тогда, видимо, первый раз за время оккупации, я ел куриный бульон с макаронами. Мы сидели под деревьями в саду и ели тот прекрасный бульон. Я даже сегодня чувствую его вкус: он был из настоящей курицы… Во время расставания под Неполомнице Маслянка хотел оставить Лёнека у себя, однако капитан Тихонов запротестовал: — Он наш… Советские партизаны заботились о мальчике. Оберегали от опасности, на привалах предоставляли ему лучшие места для сна, отдавали ему самую вкусную пищу. Однако часто случалось так, что нечего было уступать: нередко партизаны спали под открытым небом. Здесь же, неподалеку от Неполомнице, они наткнулись на гитлеровскую колонну. Тихонов из ручного пулемета поджег головную машину. Отряду пришлось отступить, но дорогу преградила река, Лёнека перенесли на руках, так как было очень глубоко. В лесу, однако, они снова были окружены. Разрывы мин вспарывали землю. Только бы продержаться до ночи! Наконец наступили сумерки. Тихонов принял решение выйти из леса той же самой дорогой, которой отряд пришел сюда. Это было очень рискованное решение: весь расчет был основан на том, что немцы будут застигнуты врасплох. Необходимо было разведать дорогу. — На меня никто не обратит внимания, — выступив вперед, сказал Лёнек. Это было действительно так: у него были наибольшие шансы на успех. Вероятно, впервые в жизни он убедился, что значит быть одному. Парнишка очень боялся, но тем не менее пошел. Впоследствии это случалось не раз. Мальчик выполнял обязанности связного и разведчика. Он ходил в занятые фашистами села, внимательно высматривал и запоминал, сколько в них было немцев, какое они имели вооружение. Наилучшим пропуском были несколько яиц либо курица, которую он якобы хотел продать. Лёнек отдавал это оккупантам почти задаром, так как никакая цена не могла идти в сравнение с потерями, нанесенными гитлеровцам в результате нападений на транспорт, патруль, штабного курьера или взрыва моста. После выхода из окружения отряд Тихонова направился в горы в направлении Рабки, Лимановой, Турбача. Здесь они встретили партизан отряда Алеши. Оба командира знали друг друга еще по операции в Люблинском воеводстве. Алеша был родом из Сталинграда. Тихонов — из Москвы. Он был морским офицером. Во время боев на Черном море попал в плен. Несмотря на то что был тяжело ранен, он вместе с шестнадцатью товарищами совершил побег из концентрационного лагеря на территории Польши. Они возобновили прерванную борьбу с врагом — теперь уже в партизанах. В горах стояла осень. Фронт еще был далеко — остановился на Висле. «Мама уже теперь, наверное, освобождена», — думал Лёнек. Он тосковал по дому. Временами вспоминал его ночью, когда никто не видел его покрасневших глаз. Длилось это недолго, так как усталость и сон, времени на который всегда не хватало, перебарывали мысли о доме. Отряд, разделенный на небольшие группы, проводил диверсионные операции. Обеспокоенные этой активностью, немцы все более тесно сжимали кольцо облав. Все выше в горы уходили партизаны от преследований. Не много было таких случаев, какой произошел однажды на горном лугу. Тишина, пылающий костер, сыр из овечьего молока, подогретый в пламени костра. Люди даже забыли, что идет война. За это минутное расслабление заплатил жизнью Яша. Другие едва успели укрыться от огня гитлеровского патруля… Для них не существовало границы, они ходили по горам далеко в глубь Чехословакии, даже до Микуляша и Баньской Быстрицы. Они сотрудничали там с чешским движением Сопротивления. Выполняли задания, получаемые с Большой земли, следили за приближающимся фронтом. Во время одной из перестрелок с противником Лёнек потерял свой отряд. Его взяли под свою опеку чешские партизаны. Они хотели оставить его в небольшом городке и уговаривали пойти в школу, но мальчик взбунтовался: — Я тоже хочу выиграть войну! Партизаны забрали его с собой в горы, но оставили в лагере, расположенном в Киселисской долине. Лёнек протестовал: — До сих пор воевал, а теперь должен ждать, когда придет победа? Однажды он вышел за пределы лагеря, в котором размещался чешский отряд. Вдалеке он заметил каких-то приближающихся людей и не поверил своим глазам: это были партизаны из отряда Тихонова. Мальчишка не задумываясь оставил теплые квартиры и присоединился к советскому отряду. В лицо дул пронзительный ветер. На вершинах гор уже лежал первый снег. Они шли именно туда — к вершинам. Встреча с остальными партизанами отряда — радость и печаль: нет в живых самого близкого друга, семнадцатилетнего Сережи. Погибли также многие другие товарищи. Наступали тяжелые дни. Партизаны расположились в Хохоловской долине. Однако немцы были бдительны: их патрули выслеживали каждый след партизан. Снег предательски оставлял отпечатки ног. Необходимо было уйти выше в горы, пробираться через завалы под острым, пронизывающим ветром. Той ночи на вершинах гор Лёнек никогда не забудет… Уже ни у кого не оставалось сил идти дальше. Люди падали от усталости. Кто-то копал ямы в снегу, чтобы сделать укрытие от ветра. Стояла ясная морозная ночь, какие бывают только в Татрах. Партизаны уложили Лёнека между собой, чтобы согреть его теплом своих тел, и произнесли эти полные заботы слова, которые до сего дня запомнились ему: — Мы — сибиряки, выдержим, но ты, Лёнька?.. Выдержал и он. Выдержал благодаря их сердечной заботе и опеке. — Скоро поедешь с нами в Москву, отдохнешь. Лёнек поддакивал. Однако, когда пришло освобождение, тоска по дому вновь охватила мальчика. Он сразу сел за свое первое письмо домой. Выводил большие, корявые буквы: «Мамочка, я обошел все горы, чего и тебе желаю. Прошу тебя, приезжай в Закопане…» Капитан Тихонов прочитал его письмо, а затем вычеркнул слова: «чего и тебе желаю…» Только тогда, именно в тот момент, Леонард Дурда полностью понял всю тяжесть пути, который они прошли… Он стоял у окна поезда в подаренной шапке-кубанке и казался взрослым, но глаза его были заплаканны. Впервые он не скрывал слез. Смотрел на удаляющийся перрон, на пар от паровоза, закрывавший собой фигуры советских друзей. И когда наконец опустил руку, обратил внимание, что из-за волнения не заметил, что все время держал в ней подаренный на дорогу кусок сухой колбасы… И этого он тоже не забыл. Но и они помнили его в далекой Москве, о которой он много раз слышал в морозные ночи на Турбаче или Хохоловской долине. Прислали ему, «сыну партизанского отряда капитана Тихонова», советский орден Красной Звезды. Он носит его на лацкане гражданского костюма в дни торжества, рядом со знаком «Сын полка». Сегодня, когда во время урока в школе учитель Леонард Дурда рассказывает именно таким детям, каким был в годы войны сам, о военных годинах тяжелых испытаний, он может не обращаться к учебникам: ему достаточно рассказать эпизод из своей фронтовой биографии.Войцех Козлович «РАССКАЖИ МНЕ ЕЩЕ…»
В то время ему было двенадцать лет, и он не понимал еще, что у него отняли невозвратимое: право на детство. Он принимал без протеста наступающие события, как что-то неизбежное. Не умел еще правильно оценить события, втягивавшие и его, двенадцатилетнего паренька, в жестокий мир взрослых. Но он уже знал, что он один. Что некому сказать: «Папа!» — потому что отец умер очень рано и он почти не помнил его. Что нет у него уже и матери, любящей и понимающей, — ее отняли у него в одну из первых облав, которые должны были навести страх на жителей Белостокщины. Тогда ему было двенадцать лет, но он уже безошибочно и без раздумий ставил знак равенства между словом «война» и словом «фашисты». Так начиналась жизнь Эдека Скродзкого в годы оккупации. В действительности мальчик был не один. У него был друг — большой дворовый пес хозяев, у которых он работал. Между мальчиком и животным завязалась дружба. Хозяева же как о ребенке, так и о собаке не очень заботились. Трудные годыоккупации не приносили радостей и не сулили никаких надежд. Время считалось «только до завтра»: пережить послезавтра — это уже был успех. И так со дня на день проходило то время, о котором потом взрослый уже мужчина лаконично скажет: «Пережил, ибо думал, что погибну…» Однажды шел он, кажется, с полевых работ, точно сейчас не помнит. Возвращался с собакой, которая бежала рядом, внимательно наблюдая за хозяином. Казалось, что они одни на свете, и именно эти моменты мальчуган любил больше всего — без постоянного ворчания хозяев, без неустанной беготни в сарай, коровник, конюшню, хлев… Вдруг на дороге показалась машина. Немцы! Эдек уже издалека распознал подъезжавших. Жандармы приближались, не обращая ни малейшего внимания на мальчишку, около которого подпрыгивала собака. «Смеются», — вздохнул он с облегчением, увидев их веселые лица. Они обогнали его, жестикулируя и громко хохоча. В тот момент, когда у него прошел страх, внезапно раздалась автоматная очередь. Он сжался от ужаса, уверенный, что через мгновение почувствует боль. И тогда услышал короткое, жалобное скуление собаки. Она лежала на дороге, беспомощно загребая лапами сыпучий песок. Эдек припал к ней, как бы заслоняя ее от новой очереди. Скорчился в ожидании выстрела, но услышал опять только этот пронзительный грубый хохот, пробудивший в детском сердце сильную ненависть. Он не мог справиться с раненой собакой. Она была слишком тяжелой для изголодавшегося ребенка. Эдек возвратился домой, боясь рассказать о случившемся. Ему досталось бы за то, что он взял собаку с собой. Все думал, как бы помочь четвероногому другу. — Давайте я съезжу за торфом, — предложил он хозяину. Эта поездка была небезопасной. Немцы, только по им известным причинам, никому не позволяли появляться в этих местах. А с топливом было нелегко, зато торфа хватало, только подходи и бери. Эдек, впрочем, уже не раз сюда ездил. Мальчишке всегда это сделать легче, считал хозяин, и, хотя жандармы стреляли, не спрашивая метрики, тем не менее эти поездки всегда Эдеку удавались. Обычно он вначале накапывал бурого топлива и только потом быстро подъезжал на лошади, бросал торф на повозку — и пошел, сивка!.. Он сразу же решил, что, возвращаясь, подъедет к раненой собаке и привезет ее домой, а хозяевам скажет, что нашел ее на дороге. Он думал об этом, проезжая торфяник. Беспокойное фырканье лошади заставило его внимательно оглядеться по сторонам. «Немцы! — у него мороз пробежал по коже. — Могут забрать лошадь!» — забеспокоился он не за себя, а за хозяйскую лошаденку, которая в тот трудный, военный период ценилась действительно на вес золота. Дула автоматов держали его в безлюдной трясине болота. Но это были не немцы. Он пригляделся к двум штатским с оружием. «Партизаны!» — подумал с облегчением. Эдек давно уже слышал, что они действуют на этой территории: уничтожили молочный заводик, сожгли документацию на обязательные поставки, где-то в другом месте расстреляли особенно ненавистного жандарма… Настоящие партизаны! Он шагнул к ним, но его остановил решительный жест. Эдек мечтал о подобной встрече, но не полагал, что ему не поверят сразу. Партизаны расспрашивали его о жандармах, о передвижении гитлеровских отрядов и их размещении. Эдек знал много, у него была хорошая память и зоркие глаза. Домой он возвратился с торфом и раненой собакой. Его возбуждение, которое трудно было скрыть, хозяева приписали истории с ранением собаки. На следующую встречу с партизанской разведкой он принес не только новые сведения, но и кусок свиного сала из хозяйской кладовой. Так движение Сопротивления пополнилось новым партизаном. Двадцать пять лет спустя бывший двенадцатилетний партизан в автобиографии написал: «…с партизанским отрядом я сотрудничал с 1943 года до начала 1945 года». Когда фронт приблизился, Эдек Скродзкий вместе с партизанским отрядом пошел — в соответствии с приказом — в глубь еще занятых немцами районов, на северо-запад к Восточной Пруссии. Он получил задание собрать данные о гитлеровских частях и о власовцах. Важна была каждая информация: численность солдат, вооружение. Ввиду того что батальон власовцев стоял в довольно безлюдном месте, задача Эдека была нелегкой. Из-за близости фронта немцы повысили бдительность, на дорогах было полно патрулей военной жандармерии и полиции, которые проверяли каждого штатского. С партизанским отрядом сотрудничал командир роты власовцев, но поддерживать с ним связь было очень сложно ввиду опасности его разоблачения. Командование партизанского отряда решило забросить одного из партизан в лагерь противника. Выбор пал на Эдека. Пятнадцатилетний парнишка меньше всего вызывал подозрения. Так он стал ординарцем командира роты власовцев. Одели его в форму, даже положили ему жалованье из кассы гитлеровского рейха. Теперь он мог свободно передвигаться по всему району, а его умение слушать и смотреть позволяло передавать партизанам много интересных сведений. Со временем с согласия командования и по рекомендации своего прежнего командира Эдек стал возницей командира батальона власовцев. Это был немецкий офицер в звании капитана. Заботясь о лошадях герра Гауптмана, Эдек ездил с ним по всему району, отмечая в памяти каждую вражескую часть ее, вооружение, расположение боевых позиций, количество и пути следования гитлеровских транспортов. Молодой паренек не привлекал внимания власовцев, однако в части был офицер немецкой разведки, который очень его не любил. — Будь внимателен! — предостерегли его однажды. — Немец грозился тебя пристрелить. Это было вполне правдоподобно, тем более что за убийство поляка или русского не наказывали, достаточно было письменно доложить об этом командованию. Никто не расследовал истинных причин убийства, не интересовался полом или возрастом застреленного. Эдек остерегался этого офицера, как мог. Вскоре он убедился, что предостережение было не без оснований. Однажды он вез немца на бричке. Когда мимо них проехал танк, лошади испугались, метнулись в сторону и перевернули повозку. Эдек с немцем очутились в кювете. Гитлеровец, разъяренный, схватился за кобуру. Пистолет был уже у него в руке, но неожиданно на защиту парнишки встал экипаж танка. На этот раз офицеру не удалось исполнить задуманное, но Эдек чувствовал, что тот ждет удобного предлога… Именно тогда он получил через связного срочное задание. Местом связи была… уборная, расположенная в стороне, у леса. Партизаны узнали, что немцы сбили неподалеку советский самолет; необходимо было любой ценой достать карты и документы летчика. Эдек знал уже об этом самолете, упавшем в лесу, в труднодоступном месте. На следующий день утром туда должны были выехать жандармы. Спустились сумерки, и ни один немец не вышел бы за территорию гарнизона, освещаемую прожекторами, охраняемую пулеметами, подвижными постами. Впрочем, существовал специальный запрет передвижения ночью — стреляли в каждого без предупреждения. Ранним утром Эдек выехал из лагеря на велосипеде. Он знал, что у него мало времени, что он должен успеть, пока самолет не нашли немцы. Ехал, внимательно осматриваясь, опасаясь встретить патруль. Он искал место катастрофы, которое знал только приблизительно. Недалеко, в кустах, как будто стелился дым. Или, может, это туман? Но тут же Эдек почувствовал запах гари: это действительно был дым. Обгоревшие обломки разбившегося самолета лежали, глубоко врезавшись в землю. Взрывом обоих летчиков выбросило из кабины: их полусожженные тела лежали на траве. Эдек искал документы и карты; он уже видел много убитых, однако не мог привыкнуть к смерти. Под обуглившимся телом одного из летчиков он заметил кожаный планшет. Вытащил его, тот был почти не тронут огнем. Нашел в нем карты, военные документы. Продолжал искать, но уцелел от огня только планшет: убитый словно прикрыл собственным телом его от пламени в последний момент. Эдек двинулся в обратный путь. Вечером того же дня найденные документы попали к партизанам. Это было последнее задание, выполненное Эдеком в лагере власовцев. Вскоре он получил приказ возвратиться в партизанский отряд. Парнишка с облегчением вздохнул, когда оказался среди своих, где ему уже не надо было взвешивать каждое свое движение, жест, взгляд. Здесь не раздавались немецкие команды и окрики… Вскоре разведывательная группа перебазировалась в Восточную Пруссию в район Кенигсберга. Эдек получил задание установить связь в ближайшем городке с одним сотрудником госпиталя. Здесь внезапно его загнала в подвал воздушная тревога. Взрывы бомб обвалили перекрытия здания. Страшные крики раненых приглушались очередными взрывами. Ползком, пробираясь через развалины и тела убитых, он дотащился до выхода. Здесь было окошко, и Эдек наконец выбрался из горящего здания. Он дотащился до небольшого сквера. Дышал тяжело и жадно, словно боясь, что через мгновение ему уже не хватит воздуха. Но здесь со скамейки его опять согнали пулеметные очереди пикирующих самолетов. Он побежал вдоль стен домов, дрожавших от взрывов, его обдавало жаром пылающего города. У железнодорожной насыпи он напал на колодец сточной канализации. Заполз туда, едва замечая, что там уже спрятались люди. Он выбился из сил и находился в полусознательном состоянии. Из этого состояния его вывел только настойчивый веселый звук. Это была гармонь. Он выбрался наверх. Жмуря глаза от внезапного резкого света, он смотрел на длинную колонну солдат. Русские… После многих перипетий Эдек Скродзкий надел форму польского солдата. Он стал «сыном» судетского легкого артиллерийского полка и был послан в автомобильное училище в Элк. В 1940 году полк выехал в близлежащие районы для участия в избирательной кампании. Шла борьба не только политическая, но и вооруженная: избирательную кампанию реакционные банды пытались сорвать угрозами и страхом, часто кровью партийных активистов и солдат. Скродзкий был переведен в штаб полка связным. Он ездил с секретной корреспонденцией, возил деньги для подразделений. Однажды он вез почту. Путь в один конец прошел удачно. Приняв пакет, дежурный офицер направил парнишку в караульный взвод, который охранял склады с оружием, расположенные за несколько километров от штаба дивизии. Эдек устал и сильно замерз — зима в тот год была суровой. Когда он ложился на нары, офицер его предостерег: — Если хочешь, то спи, только нельзя раздеваться! Эдек снял только сапоги и укрылся шинелью… Разбудили его внезапные пулеметные очереди. В помещении было темно, через небольшие оконные проемы он увидел короткие вспышки выстрелов. Потом вдруг взрывы, совсем рядом! «Гранаты», — подумал Эдек. Едва утихла одна волна взрывов, как последовала вторая. Что-то отскочило от сетки на окне, и только мгновение спустя Скродзкий понял, что спасла его именно эта сетка, задержавшая брошенные в окно гранаты. Банда пыталась проникнуть на территорию склада, но дорога вела только через их блиндаж. Пулеметы держали на расстоянии атакующих. Очереди били по стенам, поднимая тучи пыли. Гарнизон отстреливался экономно, боеприпасов было не слишком много. В один из моментов Эдек заметил, что пулеметчик вдруг присел, словно решил отдохнуть. Но в разгоревшейся снова перестрелке почему-то молчал. Тогда Эдек быстро подбежал к пулеметчику, тронул его за плечо. Солдат вяло повалился на бок: он был мертв. Эдек лег за пулемет и стал искать в темноте цель. Через минуту пулемет резкими, короткими очередями опять заговорил, поддерживая обороняющихся… Каждый из них получил за этот бой Крест Храбрых. — А вы? — спрашиваю собеседника. Он пожимает плечами. — Я не входил в состав караульного взвода и оказался там случайно. На мою долю остались воспоминания. Действительно, бывший партизан и «сын полка», несмотря на годы, хорошо помнит те события. Эдвард Скродзкий произнес: — Не дают мне забыть те дни мои дети. У меня двое сыновей. Хотя они уже знают о военных приключениях отца, тем не менее им все мало. Все время — расскажи да расскажи… Когда я был ребенком, о такой трате времени на сказки говорили всегда в доме: «Лыко да мочало, не начнем ли сначала?» — Он улыбнулся: — Дело только в том, что тогда действительно были сказки… — Нынче эти действительные истории тоже иногда слушают как сказки, — вставил я. Он внимательно посмотрел на меня. Два сына Эдварда Скродзкого посещают прекрасную варшавскую школу «Тысячелетия»[10]. Семилетний Яцек учится в первом классе, старший, Юрек, в седьмом. Они уже не заботятся о завтраке, который мама всовывает в ранец, есть у них необходимые учебники и тетради, катаются на любимом велосипеде и гоняют мяч по садику перед домом. Отец в их возрасте вынужден был работать в поте лица, пережил смерть самых близких ему людей, принимал участие в жестокой борьбе взрослых… Только в армии Эдварду удалось попасть на десятимесячные курсы автомобилистов. Но в офицерское училище его не приняли — был слишком молод. Из-за этого же вскоре после войны демобилизовался. Вместо того чтобы идти учиться, он должен был работать. Получил профессию вулканизатора — нелегкую, но редкую специальность. В этом деле его ценят как хорошего мастера. Он участвует в многочисленных встречах с молодежью, рассказывает ей о временах, которые являются для нее иногда только уроком из учебника истории.Теофил Урняж ЯНЕК ИЗ СОЖЖЕННОЙ ДЕРЕВНИ
От тех лет у него в памяти остались только туманные картины: дом, рядом огород, большой сад, кони, ржущие во дворе, коровы, идущие каждое утро на пастбище. Отец ежедневно готовил телегу для поездки в близлежащий город с товаром: он отвозил туда молоко, капусту, морковь, картофель. Мать суетилась с утра до ночи по хозяйству. Дом был всегда шумный и веселый, полон людей. Был он самым младшим, шестым сыном в семье. Назвали его, как и отца, Ян. Когда он начал ходить в школу, трое старших братьев — Юзеф, Марцин и Михал — уже обзаводились собственными семьями. Они первыми узнали горечь войны: в августе 1939 года им пришли мобилизационные повестки. Юлека и Бронека забрали несколько лет спустя немецкие жандармы. До сих пор Ян помнит громкий стук прикладами в дверь. Первое письмо от Юлека пришло из Дахау, а от Бронека — из Гросс-Розена. Это было в 1942 году. Яну исполнилось тогда тринадцать лет. В том же году зарево пожарищ стало все ближе подходить и к Пяскам-Броздким. Фашистские каратели и банды местных националистов все сжигали на своем пути, врывались ночью в деревни и зверски мучили женщин и детей. С этого времени и началась самостоятельная жизнь Янека Пинкевича. Вначале он попал в советский партизанский отряд имени Кирова. Ночевали в лесу, у костра, на морозе, а когда мороз слишком досаждал, размещались в близлежащих деревнях. Партизанские рейды проводились вплоть до Львова. На четырнадцатилетнего партизана чаще всего выпадала роль разведчика. Он кроме польского прекрасно знал украинский и, переодевшись сельским пареньком, ходил от деревни к деревне, собирал для партизан сведения о передвижении гитлеровцев и бандеровских банд. Отряд имени Кирова с одинаковым упорством атаковал как немецкие посты и подразделения, так и распоясавшиеся банды националистов. Летом в район Хуциск-Броздких и Пеняцкой Гуты прибыли регулярные немецкие подразделения. Это были отборные части 44-й дивизии СС «Галиция». Действия партизан были на какое-то время парализованы. Для Янека это означало новые скитания, ночевки в лесных землянках, постоянное недоедание. Так он продержался до момента, когда на эти земли вступили советские войска. Приютил его советский штурмовой батальон, действовавший в этом районе. И снова бои, бои… Все это продолжалось до ноября. В тот день стоял он на железнодорожной станции в Бродах и наблюдал за проезжающими на запад военными эшелонами. — Ну, чего так уставился, парень? Янек оглянулся. Перед ним стоял солдат, но не в той форме, что носи ли советские бойцы. На фуражке кокарда с изображением польского орла. — Вы поляк? Куда едете? — А куда должны мы ехать? В Польшу!.. Янек тотчас же принял решение и сел в отъезжающий поезд. Перемышль. 5-й запасной полк. Годы скитаний не приучили Янека к военной дисциплине. Через пять дней он пришел к выводу, что ему в этом полку не нравится и что нужно искать что-то другое. Может, податься в Хелм? На вокзал он уже не пошел. Решил пойти пешком и останавливать попутные военные машины. Но ни одна не останавливалась. Наконец он заметил стоящий невдалеке серый грузовик. Шофер копался в моторе. В кабине сидел какой-то подпоручник. — Подвезите меня в Хелм, — попросил Янек. — Никого не берем, — проворчал в ответ подпоручник. — Иди, малый. Янек хотел было отойти, как вдруг кто-то из кузова машины окликнул его по имени. Голос показался знакомым. Янек оглянулся. — Янек? Какой-то солдат подбежал к нему, схватил за плечи, потряс. Это был его брат Михал. Тот самый, который ушел на войну в 1939 году. В этот день пятнадцатилетний Янек Пинкевич перестал быть сиротой. Грузовик принадлежал офицерскому артиллерийскому училищу в Хелме и вез медикаменты. Так Янек доехал до Хелма. В училище о мальчике позаботились, одели его, накормили. Но он считал, что здесь все бездельничают. Стремился в настоящую армию, на фронт. И опять привычка к скитаниям взяла верх. Когда в январе 1945 года была освобождена Варшава, Янек сидел уже в поезде и ехал в столицу. Там он «присоединился» к 4-й пехотной дивизии и поехал на фронт. Очередное служебное распределение — и он посыльный в штабе батальона. Было это под Ястрове. Над головой со свистом пролетали снаряды. Строчили пулеметы и автоматы. Земля дрожала и стонала от взрывов. Янек лежал, укрывшись за толстым деревом, и дрожал от страха. Именно так выглядела война. В тот вечер долго и сердечно разговаривал с ним заместитель командира 3-го батальона. — Сколько тебе лет, паренек? — Родился я в марте 1929 года. — Стало быть, тебе нет еще и шестнадцати. Скажу тебе откровенно: фронт не для детей. Возвращайся домой! — Куда мне возвращаться? — Возвращайся. Учись! Нам нужны офицеры. — Куда возвращаться? У меня нет дома. — Знаю. Но если ты выбрал армию, останься в ней. Только не здесь, на фронте, а там, где обучают военным наукам. Поезжай в Люблин или Варшаву, иди в офицерское училище. Янек послушался совета. В Варшаве, в райвоенкомате во Влохах, подал заявление, сообщил анкетные данные своего старшего брата. Янека направили в училище. Итак, сначала тринадцатилетний солдат-доброволец, четырнадцатилетний партизан, пятнадцатилетний солдат советского штурмового батальона, а потом солдат 4-й пехотной дивизии имени Яна Килиньского и, наконец, шестнадцатилетний курсант офицерского училища — вот этапы биографии Янека Пинкевича, одного из тех, кого воспитала армия, заменив родной дом. Ныне он командор (капитан 1 ранга) военно-морского флота.Михал Воевудзкий ПАРЕНЕК ИЗ ОТРЯДА «КРОВАВОЕ ЗАРЕВО»
Магистр Збигнев Янчевский решительно утверждал, что его биография началась в тот момент, когда разразилась вторая мировая война. Было ему тогда одиннадцать лет, а значит, самое интересное заключалось в том, что теперь-то можно забыть об уроках. Он вскочил с кровати, когда услыхал взрывы бомб. — Вставай, Збышек, война, — позвала его мать. В голосе ее звучала глубокая тревога. Войну он представлял себе иначе, чем взрослые. Ему казалось, что это должно быть большое приключение, в котором он примет участие. Такое представление о войне родилось, пожалуй, еще во время чтения запоем книг, особенно о путешествиях и приключениях. Когда ему было шесть лет, в городской библиотеке в Луцке с ним много возились, так как все предназначенное для его возраста он прочитал. Отсюда его представления о войне носили характер прежде всего приключенческо-сказочный. В тот памятный день, 1 сентября 1939 года, Збышека Янчевского волновало только одно: самому пережить бомбежку и чтобы война не кончилась слишком быстро. В последующие дни он вел себя так, как многие другие мальчишки в его возрасте. Война его страшно привлекала, но он все еще не понимал всей опасности случившегося. Мальчик собирал осколки в воронках от бомб, играл с друзьями и младшим братом в войну. С интересом осматривал противотанковое орудие, установленное у моста через реку Стыр. Крутился около солдат в надежде, что будет свидетелем ожесточенной битвы. Через город проходили толпы беженцев и войска. Хаос, паника… Неожиданная перемена произошла ночью, когда в город вступили немецкие части. Когда мальчик впервые увидел гитлеровских солдат, ему было одиннадцать лет. Обучение в школе закончилось на седьмом классе. Не было никаких возможностей продолжать учиться. Тогда отец решил, что Збышек должен получить какую-нибудь специальность. Конечно, интерес его к музыке в счет не принимался, поскольку в Луцке не было ни одной музыкальной школы, а главное, это были времена, когда нельзя было думать о такой роскоши, как музыка. Збышек уже тогда имел некоторое музыкальное образование — отец прежде нанимал частного преподавателя игры на скрипке. Посоветовавшись, решили, что мальчик будет обучаться, пока это возможно, сапожному ремеслу у мастера Лукомского — друга отца, который шил ботинки как для штатских, так и для немецких солдат. Мальчик начал учиться с большим нежеланием, но понимал, что все равно чем-то заниматься надо. Збышек относился к своему пребыванию в мастерской как к неизбежному злу, как к чему-то такому, что не могло долго продолжаться. Однако он не отказался от общества друзей. Каждую свободную минуту дети проводили вместе. Это была довольно многочисленная компания мальчиков и девочек, которые когда-то учились в одной школе. В это время уже пылали близлежащие деревни. Массы беженцев прибывали в город, рассказывая о зверствах, убийствах, насилиях фашистских карателей и националистических банд. Учеба у мастера Лукомского давала результаты. Вскоре мальчик умел уже самостоятельно делать заготовки для сапог. Отец, видя, что мальчик делает большие успехи, начал требовать у мастера платы за работу сына, на что мастер Лукомский не соглашался. Возник спор, в результате которого Збышек ушел из мастерской. Было лето. Збышек вместе с друзьями весь день проводил на реке. Каждый вечер они видели зарево пожарищ вокруг города. Спустя несколько дней между отцом и Збышеком состоялся серьезный разговор. Отец спросил, хочет ли он вступить в ряды военной организации, которая ставит перед собой задачу бороться за освобождение родины от немецкой оккупации, а также защищать население от националистических банд. Объясняя сыну цели организации, не скрывал трудностей, с какими мальчик должен будет столкнуться, говорил о необходимости сохранять тайну и о беспрекословном подчинении. Дал прочитать несколько газет подпольной печати. Збышек сразу же согласился. Он был горд, что перед ним открываются возможности борьбы с врагом, и полагал, что сможет немедленно приступить к выполнению опасных заданий и при этом отличиться… Труднее всего для него было сохранить в тайне факт вступления в организацию. Очень хотелось ему поделиться своим счастьем с друзьями. Но он дал слово все сохранять в полной тайне. Значит, надо было молчать… Однажды вечером отец взял мальчика на конспиративное собрание. Збышек несколько иначе все это себе представлял. Все происходило обыденно. Маленькая комнатка в небольшом домике с садиком в предместье Луцка — Красном. Несколько мужчин. Военная дисциплина, военная форма обращения. Какой-то гражданин в очках спросил мальчика, хочет ли он вступить в организацию, не объясняя, в какую, что, впрочем, для парнишки было совершенно неважно. Збышек ответил утвердительно. Потом повторял слова клятвы, первой в своей жизни клятвы. Был очень взволнован, даже не запомнил ее текста. Это были слова о любви к родине, о самоотверженности и, прежде всего, о борьбе с врагом. Спустя несколько недель отец Збышека решил уйти в лес. Перед этим он очень долго и основательно говорил с матерью, проинструктировал ее, как себя вести, и сказал, что скоро должен будет вместе со Збышеком явиться на партизанский сборный пункт в лесу. Разговор продолжался всю ночь. Пани Янчевская пыталась убедить мужа, что Збышек еще мал, что она не может остаться дома одна с четырьмя своими детьми и двумя ребятишками убитого дяди Казика. Долго плакала, но в конце концов согласилась. Таков был страшный закон войны. После этого разговора начались приготовления. Отец Збышека достал два советских пистолета ТТ с патронами. На это были израсходованы все сбережения. Мать сама сшила Збышеку шерстяной френч по образцу мундира, снабдила его теплым бельем, носками и, прежде всего — хорошими сапогами. Перед тем как уйти, среди знакомых распространили слух, что Янчевские, отец и сын, собираются ходить по деревням, чтобы подработать немного во время жатвы. Конечно, все их от этого отговаривали, потому что как раз было самое опасное время. Стоял конец июля. Вся Волынь пылала в огне. Отъезд наступил неожиданно для всех. Збышек быстро погрузил на телегу свои вещи, попрощался с младшими сестрами и братьями. Мать проводила сына за город. Потом попрощалась, и стояла, бледная, долго на краю дороги, и все махала на прощание рукой. В деревне Осиче Збышека ждал отец. Здесь как раз организовывался новый партизанский отряд. Сюда все время прибывало новое пополнение. Оружие выдавалось только на ночь, а утром его прятали в деревенском колодце. На первом сборе командир отряда спросил у Збышека его имя. Он ответил: «Збых». В приказе записали эту его подпольную кличку. Так и остался он Збыхом, даже когда придумал себе другой псевдоним — Бялый. В конце лета 1943 года отряд начал готовить место зимовки. В лесу, в труднодоступной местности, саперное и другие отделения строили шалаши. В ноябре партизанский отряд сменил стоянку. Збышек и его друг Броней в это время два раза в день привозили воду из лесной сторожки, примерно в трех — пяти километрах от лагеря. Вскоре бойцы отряда приняли присягу. Партизаны построились на поляне. Торжественная обстановка произвела на Збышека большое впечатление в этот прекрасный солнечный день. Стоя со взрослыми в одной шеренге, он почувствовал себя солдатом. Вскоре после принятия присяги Збышек впервые участвовал в бою. Партизаны ликвидировали банду, действовавшую в районе размещения отряда. Однажды утром Збышек и Броней, как обычно, поехали за водой в лесную сторожку. Наливая воду, они заметили в отдалении телегу. Впереди сидел рядовой Слонь, а сзади командир Джазга и врач Пенты. Джазга в этот день отправился в советский партизанский отряд, чтобы получить там повое оружие. На обратном пути Джазга должен был заехать в Пшебраж. Однако в этот день он не возвратился. Вечером его стали искать. На другой день утром Збышек и Бронек поехали за водой. Они издалека заметили знакомую телегу, застрявшую в кустах около колодца, и привезли ее в лагерь. Весь отряд пошел на розыски. После долгих поисков на просеке в лесу нашли всех троих. Командир был буквально изрешечен. Только Слонь был еще жив, но вскоре умер, так и не придя в сознание. Погибших похоронили. Это событие тяжело подействовало на партизан. Все предполагали, что командир попал в засаду. Он был мужественным человеком. После гибели Джазги отряд чуть не распался. Начались споры между его заместителями из-за поста командира. Часть партизан разошлась по домам, в основном местные крестьяне. Большинство, однако, осталось. В конце ноября прибыл новый командир. Збышеку он почему-то не очень понравился. Довоенный офицер в звании поручника, среднего роста, в очках. Организовали смотр отряда. На этот раз Збышек попал в стрелковое отделение. Он был очень счастлив. Весь отряд готовился к выступлению. Настал момент, когда Збышеку нужно было проститься с отцом, оставшимся в Пшебраже. Отец получил задание организовать пополнение для отряда. Прощаясь с отцом, Збышек не предполагал, что их следующая встреча произойдет только через десять месяцев. Отряд выступил 4 декабря 1943 года. Ему предстояло пройти примерно 70–80 километров. Этот первый форсированный бросок Збышек хорошо запомнил. Пункт назначения был Паньска Долина. На место партизаны попали в полдень следующего дня вконец изнуренные, голодные, замерзшие. К счастью, отец достал для Збышека перед уходом хороший полушубок. Некоторое время отряд находился недалеко от Паньской Долины. Партизаны расположились в небольшой покинутой деревушке. Большинство деревень в то время было полностью безлюдными. Збышеку выдали винтовку голландского производства. Правда, она была малого калибра. К ней не подходили никакие патроны — ни советские, ни немецкие. Ко всему еще Збышек получил только пять штук этих нестандартных патронов. Еж — командир отделения — просил парнишку экономить патроны и пообещал, что при первом же случае постарается заменить винтовку. Гитлеровцы узнали о присутствии и действиях польских партизан в районе Паньской Долины и однажды неожиданно нанесли по ним удар. В лагере была объявлена тревога. Партизаны начали отходить к ближайшему лесу. Гитлеровцы стали бить из орудий. Снаряды разрывались все ближе, отрезая партизанам путь к спасительному лесу. Все же им удалось отойти и занять оборону. Ночь они провели на снегу, а на второй день форсировали реку. Пересекая шоссе Луцк — Владимир-Волынский, партизаны наткнулись в лесу на немецкий отряд, охранявший заключенных на вырубке леса. Они уничтожили всех охранников, а пленных освободили. После боя партизанам пришлось быстро уйти от этого места. С этого времени деятельность польских партизан приобрела наступательный характер. Все чаще они вели бои с регулярными немецкими частями. Збышек участвовал в нескольких боях, каждый из которых надолго запомнился ему. Несомненно, самой важной, хотя и неудачной, была операция по очистке шоссе, соединяющего Луцк с Владимиром-Волынским. Бой начался 29 февраля на рассвете. Однако не были соблюдены необходимые меры предосторожности, в результате чего противник, находившийся в полутора километрах от городка, был кем-то предупрежден. Бой продолжался до полудня. Отряд Збышека был уже в двухстах метрах от деревни. Партизаны залегли. И именно в тот момент, когда достаточно было одного броска, чтобы занять окраину деревни, пришел приказ отступать. Збышек был очень подавлен и утомлен: во время атаки он совсем не чувствовал усталости, зато теперь едва шел. Он отстал от своих товарищей, успевших отойти раньше. Отряд понес чувствительные потери. Погибло двадцать семь партизан, многие были ранены. После этого боя отряду Збышека присвоили наименование «Кровавое зарево». Партизаны отряда носили на воротничках синие полоски. За проявленный героизм им добавили еще красную полоску. Назвали отряд так потому, что он вел бои в районе, где каждую ночь в деревнях пылали зарева пожарищ. Присвоение отряду этого наименования было исключением, поскольку все другие отряды носили названия от подпольных кличек своих командиров. В начале марта или в конце февраля произошла перегруппировка польских отрядов. Они приблизились к Владимиру-Волынскому. Их разместили в Белине, рота же Збышека расположилась в нескольких километрах от Владимира-Волынского. С базы в Белине совершались налеты на ближайшие немецкие объекты, главным образом на железнодорожной линии Ковель — Владимир-Волынский. Бои, которые вели в этот период польские отряды, становились все более ожесточенными. Оружия теперь хватало. Его добывали у врага. Удачно была проведена операция в Засмыках. Отряд остановился на привал после какого-то большого перехода, когда к командиру взвода, подпоручнику Габриэлю, прибежал крестьянин с известием о том, что в Засмыках, в школе, расположилась на отдых немецкая рота. Ночью школа была окружена. Подпоручник Габриэль решил провести операцию без кровопролития. На рассвете он приблизился к часовому и потребовал вызвать к нему командира (Габриэль хорошо знал немецкий язык). Партизаны наблюдали за всем этим с расстояния нескольких десятков метров. Габриэль, одетый в мундир польского офицера, в очках, подошел к немцу с овчаркой. С этой собакой он никогда не расставался. Часовой вызвал командира, с которым Габриэль долго разговаривал. Он предложил ему сдаться, сказав, что школа окружена и нет другого выхода, если они не хотят напрасно погибнуть. Спустя некоторое время из школы стали по одному выходить немцы и складывать оружие. Партизаны захватили тогда особенно много автоматов, которых им очень не хватало, и патронов. Плененных гитлеровцев передали советским передовым дозорам. В этот период Збышек принимал также участие в нескольких операциях против укрепленных железнодорожных постов. Полным успехом закончилась атака на станцию и мост через реку Турью в Турийске. При захвате Турийска польские партизаны взаимодействовали с советской частью, которая поддержала их артиллерийским огнем. Збышек получил задание продвигаться к станции вдоль железнодорожного полотна. Паренек первым достиг станции. Гитлеровцев там уже не было — все убежали. Збышек захватил французский ручной пулемет. Он был горд и счастлив: ведь отряд очень нуждался в автоматическом оружии. До конца марта 1944 года постоянной базой отряда был Белин. В начале апреля отряд вместе с кавалерийским советским полком принимал участие в штурме Владимира-Волынского. Бой был очень ожесточенным. Партизаны восхищались отличным оружием советских бойцов, а также их отвагой и самоотверженностью. Но наступление тогда успехом не увенчалось. С этого времени, то есть с 11 апреля, партизаны, входившие в состав 27-й Волынской пехотной дивизии, постоянно находились в боях. Гитлеровцы стремились окружить дивизию и разбить ее. Для осуществления этого плана были привлечены три немецкие дивизии: танковая СС «Викинг» и две пехотные. Польская дивизия насчитывала в то время шесть тысяч человек. После неудачного наступления на Владимир-Волынский партизаны отступили. 18 апреля 1944 года был убит командир 27-й Волынской дивизии капитан Олива. Весть о его гибели моментально облетела все отряды. В это время гитлеровцы замкнули кольцо окружения. В отряды поступали противоречивые приказы. Возникла паника. Збышек понимал всю сложность положения и задавал себе вопрос: что же будет дальше? Но за все время своего пребывания в отряде он никогда не беспокоился о будущем и полностью полагался на своих командиров. Он боялся только остаться один. Все отдавали себе отчет в том, что выход из окружения является вопросом жизни или смерти. Командование дивизией после гибели капитана Оливы принял на себя майор Жегота. После похорон Оливы в тот же самый вечер отряды 27-й Волынской пехотной дивизии, а среди них я солдаты «Кровавого зарева», двинулись в направлении Ягодина, чтобы прорваться. Самой важной частью задачи был переход через железнодорожное полотно под Любомлем, которое очень тщательно охранялось немцами. Переход было намечено осуществить ночью, однако осуществить полностью эту операцию не удалось. Некоторые отряды потерялись и на свой страх и риск пробирались в северном направлении. Во время одной из ночных перестрелок Збышек отстал от отряда. К счастью, вскоре он встретил поручника Цвика и одного капрала. Все трое решили вместо пробиваться к своим. Неожиданно их остановил окрик: «Хальт!» Оказалось, что они наткнулись на немецкий блиндаж. Посыпались выстрелы. Партизаны поспешно отступили. Збышек упал в воронку от бомбы. Переждав, они вновь попытались перебраться через железную дорогу. На рассвете это им удалось, и они присоединились к своему отряду. В нескольких километрах от Ягодина партизаны подверглись атаке немецких танков. И опять — не имея противотанкового оружия — оказались бессильны и были вынуждены отступить в лес. Совершая беспрерывный марш на север, 27-я дивизия, преследуемая противником, оказалась на болотистой территории, труднодоступной для танков. С продовольствием становилось все хуже. Дивизии не удалось выйти из окружения в полном составе. На этой болотистой местности партизаны вынуждены были бросить свои обозы. Но марш на север продолжался. Для солдат 27-й дивизии начался необыкновенно трудный период. Дивизия оказалась в Полесье, на территории совершенно незнакомой. Однажды, после одной из перестрелок с немцами, партизаны вынуждены были оставить раненых в поле. Что с ними стало — не известно. Было начало мая 1944 года. Отряд «Кровавое зарево» продвигался через болотистый лес. Вдруг колонна остановилась. Оказалось, что совершенно неожиданно они встретились с отрядом неизвестных им польских партизан. На них были польские мундиры, польские знаки различия, конфедератки с польскими орлами. Это вызвало удивление. Откуда в полесских лесах польский отряд? Встреча продолжалась весьма недолго, очевидно, столько времени, сколько было необходимо командирам отрядов, чтобы выяснить, кто кем является. Партизаны обоих отрядов успели обменяться между собой лишь несколькими фразами. Через несколько минут отряды разошлись в противоположные стороны. Только после войны Збышек узнал, что в том районе действовали многочисленные польские отряды. Однако тогда ему не хотели этого объяснить. Давали краткие и нелюбезные ответы: мол, это коммунисты, переодетые в польские мундиры. Паренек ничего не понял и был уверен, что встретил на своем пути таких же поляков, как он сам. Поэтому никак не мог понять, почему пути обоих отрядов разошлись, притом в такое время, когда и тех и других преследовали гитлеровцы. Разошлись в такое время, когда только единство в борьбе с более сильным врагом могло принести партизанам спасение. В шацких лесах отряды 27-й дивизии вынуждены были принять несколько боев. Партизаны беспрерывно подвергались атакам и на земле и с воздуха. Немецкие разведывательные самолеты непрерывно кружили над ними. В этой обстановке со Збышеком случилось самое худшее — он заболел тифом. Вши, грязь, голод, сырость сделали свое дело. У мальчика начался сильный жар, и с каждым часом силы оставляли его. Сначала он пытался побороть болезнь и все чаще жадно пил болотную воду… Однако в отряде быстро заметили, что с ним происходит что-то неладное. Боясь заразиться, все отшатнулись от несчастного паренька. Ему приказали идти одному, в конце отряда. На привалах мальчик также не мог приблизиться к старшим товарищам, в помощи которых все больше нуждался. Единственным человеком, который заботился о мальчике, была ротная санитарка. Но чем она могла помочь больному, если у нее не было необходимых лекарств? Она пичкала его только аспирином и отваром из черных сушеных ягод, найденных где-то в крестьянской хате. Голод еще больше ухудшал состояние здоровья Збышека. Единственное, что еще оставалось у партизан, — это лепешки из гречневой муки и небольшое количество говядины. Однако тяжелее всего паренек переживал утрату трофейного пулемета. Его забрали у Збышека: он не в силах был нести столь ценное для отряда оружие. Паренек по-прежнему шел в конце отряда, усиливающийся жар окончательно подрывал его силы. То и дело он падал, вставал, делал несколько шагов вперед и снова падал. Стало ясно, что он сам уже не может идти дальше. И в этот момент случайно нашли какую-то заблудшую тощую лошадь, на которую и посадили больного мальчика. Однако из боязни, что Збышек может упасть с клячи, его поручили опекать такому же молоденькому, как и он сам, партизану Айсику. К сожалению, это продолжалось недолго. Лошадь утонула в трясине, а Збышек, обессиленный болезнью, рухнул в болотную трясину. После потери лошади товарищи по очереди вели мальчика, а когда силы окончательно оставили его, понесли на носилках. Часто он терял сознание, бредил. Когда приходил в себя, слышал, как обсуждали вопрос, нести ли его дальше или оставить в лесу. — Он уже не выкарабкается из этого, — говорили одни, — а заразит весь отряд. В такие минуты Збышека охватывала полная апатия, он просил, чтобы его оставили в лесу, так как не хочет быть обузой для отряда, за которым по-прежнему по пятам шли немцы. В конце концов его решили оставить. Когда он очнулся, увидел, что лежит под деревом, на куче мха. Была ночь. Стояла угнетающая тишина. Мальчику было очень страшно. Но его охватил еще больший страх, когда до него начали доноситься стоны тяжело раненных партизан из другой роты, оставленных так же, как и он, в лесу. Збышек горько плакал и в отчаянии звал мать. Не хотел он так умирать. Не мог примириться с мыслью о неминуемой смерти, которая, по его мнению, была такой бесславной. Немногим лучше была бы его судьба, если бы его нашли преследовавшие партизан немцы. Он нисколько не сомневался, что они добили бы его. Но и такой смерти он не хотел. Через несколько часов до него донесся чей-то голос, он услышал свое имя. Збышек подумал, не в горячке ли это ему почудилось, однако отозвался. Ему казалось, что он кричит очень громко, но на самом деле он сумел едва прошептать: «Спасите. Я здесь». Это был его друг Айсик. Найдя Збышека, он положил его на носилки и поволок через болота, проваливаясь по пояс в воду. Временами Збышек буквально плыл между деревьями. Трудно сказать, как долго это продолжалось, но в конце концов оба паренька догнали отряд. Позднее Збышек узнал, что своим спасением он был обязан командиру роты, поручнику Самсону, который знал его отца еще в Луцке. У него был сын такого же возраста. Перед расставанием в Пшебраже отец Збышека просил Самсона позаботиться о мальчике. И именно Самсон на ближайшем привале заметил отсутствие молодого Янчевского. Партизанам, которые оставили мальчика в лесу, он пригрозил расстрелом, если они не найдут больного! Без него велел не возвращаться. Добровольцем на розыск отправился Айсик. Ему и удалось найти друга. Вскоре после этого было принято решение, чтобы весь отряд попытался перейти линию фронта через реку Припять. Все желали, чтобы это наступило как можно быстрее. В том состоянии, в каком они находились, бойцы практически не могли вести никаких боевых действий. Последнюю ночь перед форсированием Припяти лил дождь. На рассвете партизаны начали пробираться через немецкие укрепления. Збышек с трудом шел в конце отряда. Никто из товарищей уже не мог теперь помогать ему. Мальчик понимал это и собрал остатки своих сил. Приближался решающий момент. Партизаны подошли к краю леса. Збышек увидел пустые блиндажи, покинутые немцами. Выйдя излеса, он заметил впереди проволочные заграждения, а еще дальше широкий луг, полого спускавшийся к реке. Припять в этом месте широко разлилась. Противоположный берег слегка поднимался вплоть до небольшого откоса, поросшего старым еловым лесом. Здесь находились советские окопы. Следовательно, оставалось преодолеть все эти преграды, чтобы перейти через линию фронта. Передовая группа отряда находилась уже у реки, когда Збышек стал пробираться через проволочные заграждения. Он запутался в колючей проволоке и вынужден был оставить на ней свой маскировочный халат. Не успел он дойти до реки, как немцы открыли огонь. Одновременно огонь открыли и советские войска, которые решили, что это началось немецкое наступление. Партизаны оказались под обстрелом с двух сторон и залегли на лугу. К счастью, трава была высокой и в какой-то степени укрывала партизан. Но это мало помогало. Збышек впервые в жизни видел, как автоматные очереди буквально косили траву. Несмотря на это, партизаны предприняли попытку форсировать Припять. Группа наиболее нетерпеливых партизан начала входить в воду. Но все они попали под пулеметные очереди. Збышек лежал на берегу, совершенно обессиленный. Находившиеся вокруг него партизаны бросали ненужное уже оружие, раздевались и пытались вплавь перебраться на другой берег. Однако одни гибли от пуль, другие просто тонули. Вода была холодной, а река глубокой и широкой. Некоторым все же удалось добраться до другого берега, но и они погибли на минном поле. Казалось, что положение стало совсем безвыходным. Збышек решил ждать ночи. Под вечер он услышал, как кто-то сказал, что вниз по реке есть место, где можно переправиться. То ли мост, то ли брод. Партизаны по одному стали продвигаться в указанном направлении. Збышек едва тащился за остальными. Огонь с обеих сторон не прекращался. На глазах Збышека погиб от взрыва снаряда поручник Самсон. Збышек продолжал идти дальше. Вдруг он потерял почву под ногами, упал в мелиорационный ров и чуть не утонул. Выбрался и пошел вслед за остальными. Наконец добрался до переправы. Здесь он перебрался на другую сторону реки. Еще минута, и его ожидал спасительный лес. Внезапно Збышек заметил окровавленную фуражку и сразу же узнал ее: он сам когда-то подарил ее Айсику. Он решил, что друг его погиб. Однако позднее оказалось, что Айсик остался жив и был только ранен. Спасительный лес был уже близко… На его опушке виднелись глубокие окопы. Они были пусты. Збышек спрыгнул вниз и пошел по траншее, надеясь встретить русских солдат. Внезапно он услыхал окрик: — Стой! Руки вверх! Ты кто? Советский боец отвел паренька к группе перебравшихся через реку партизан. Раненых тотчас же отправили в полевой госпиталь, а остальных в советскую часть, где впервые за много дней они смогли как следует выспаться и, что самое главное, получили сытный солдатский обед. Несколько дней польские партизаны отдыхали. Здесь Збышек узнал более или менее точные сведения о существовании народного Войска Польского, сражавшегося в рядах Советской Армии. Но окончательно он поверил в его существование только тогда, когда к ним в лагерь приехала делегация из 1-й дивизии имени Тадеуша Костюшко. Прибывшие офицеры слушали рассказы партизан, делились новостями о Войске Польском и положении на фронте. Они заверили, что партизаны вскоре будут перевезены в Киверцы, где стояла 1-я пехотная дивизия имени Костюшко, и там смогут принять решение, касающееся их дальнейшей судьбы. Некоторые партизаны, однако, настраивали своих товарищей, чтобы они подчеркивали свою обособленность и рассматривали пребывание в тылу фронта как нечто временное. Однако большинство не соглашалось с такой политикой. Збышек все еще не очень хорошо ориентировался в этой политической игре, но твердо знал одно: война еще не окончилась, и, следовательно, его место там, где есть возможность продолжать борьбу с врагом. Поэтому с большим удовлетворением он воспринял полные сердечности слова в адрес партизан, которые были помещены в газете 1-й польской армии в СССР «Мы победим». Газета писала: «В эти дни мы имели возможность встретиться с бойцами одного из отрядов Армии Крайовой, которые пробились через линию фронта на нашу сторону. Бойцы — золото. В их груди непоколебимо бьется польское сердце, их руки крепко держат винтовки. Они полны любви к советским солдатам, с радостным удивлением приветствуют они нашу армию, о которой не имели представления. …Бойцы 27-й дивизии Армии Крайовой почти полгода сражались вместе с советскими партизанами, вместе с частями Красной Армии. Они поступали так, не обращая внимания на пропаганду реакции, провозглашавшую враждебность по отношению к восточному соседу. Они делали это, не оглядываясь на известные инструкции о лишь временном взаимодействии с Красной Армией, ибо понимали, что этого требуют глубоко понятые польские интересы… Поэтому мы не говорим о солдатах Армии Крайовой: это солдаты, сражающиеся под чужими знаменами, а мы говорим: это наши солдаты. Каждый борющийся поляк является нашим братом, так как в огне совместной борьбы куется то, что является самым важным для Польши сегодня и навсегда — национальное единство…» После прибытия в лагерь под Киверцами, несмотря на предложение демобилизоваться (ему было тогда только 16 лет), Збышек добровольно остался служить в 1-й пехотной дивизии имени Костюшко. И вот Збигнев Янчевский, которого называли в партизанском отряде Збыхом или Бялым, принял солдатскую присягу уже в звании капрала, начав тем самым новый этап в своей жизни. Этот раздел его биографии мы изложим кратко. Непродолжительная военная подготовка. Збышек выбирает профессию связиста. Три месяца в дивизионной школе связи. Занятия, служба, занятия… Волнующая встреча с матерью и родными, которые приехали в Киверцы. Его назначают на должность старшего радиотелеграфиста. Июль 1944 года — наступление. По воле судьбы еще раз переход через те же самые места, где он шел с партизанским отрядом. Да, опять переход, но уже совсем другого характера. Паренек уже многие вещи понимал значительно лучше, чем прежде. Быстро взрослеет. И снова бои. Форсирование западного Буга. Освобождение Хелма, а затем Люблина. Энтузиазм и обоюдная радость освобожденного от гитлеровского кошмара населения и героических солдат, освободивших наконец большой, важный город Польши. Марш в направлении Вислы. Демблин. Тяжелая переправа через реку. Затем — Веши. Бои у Вислы. Марш на север. Взятие предместья Варшавы — Праги. Радостная встреча с отцом, который служил в звании старшего сержанта в 4-й пехотной дивизии. Рождественские праздники, проведенные вместе с отцом в армии. Много волнений, воспоминаний, рассказов, размышлений. А позже большой путь, по которому прошли многие тысячи поляков, героический победоносный марш 1-й армии Войска Польского. Январь 1945 года — освобождение Варшавы. Ужас вымершего города. Марш на Быдгощ. Тяжелые бои и прорыв Померанского вала. Много опасностей и приключений. Марш к щецинскому побережью. Короткая передышка, и снова марш на юг, в направлении Одера, где стоят пограничные столбы новой Польской Народной Республики. Секерки. Великая эпопея форсирования Одера. Много жертв, потрясающие переживания. И вот конец эпопеи. Збых, паренек из отряда «Кровавое зарево»… Хотя нет. Это капрал, старший радиотелеграфист Збигнев Янчевский с 1-й армией Войска Польского марширует на Берлин, столицу гитлеровского рейха. Последние бои на улицах Берлина. Капитуляция Берлина. Война окончена. Какова дальнейшая судьба Збигнева Янчевского? Он возвращается на родину. Находит свою семью в Грубешуве. Хочет учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы наверстать упущенное. Семья Янчевских переезжает на побережье Балтики и поселяется в Сопоте. Збигнев может наконец осуществить свои мечты. Восполняя пробелы в образовании, учится также музыке. Интенсивная учеба приносит результаты. Збигнев Янчевский сдает экзамены на аттестат зрелости, заканчивает высшее музыкальное учебное заведение, а затем получает и педагогическое образование. Получает степень магистра. Уже в 1950 году, то есть до получения среднего образования, он ведет педагогическую и общественную работу в молодежных и партийных организациях… Уже десять лет он является директором Государственной музыкальной школы в Гданьске, в которой его жена преподает по классу фортепиано, а дочь учится в пятом классе. Зато сын, Александр, не собирается идти по стопам родителей и сестры. Мечтает стать врачом. Педагогическая работа. Постоянная борьба, как и раньше, но борьба за обучение, за воспитание молодого поколения. Маленькие и большие успехи, как он говорит. Бывают и неудачи. Постоянное совершенствование ремесла, строгая оценка собственной деятельности, выводы на будущее. И постоянная память о тех, кто не дождался свободы и кому мы обязаны многим из того, чего достигли вместе с родиной.Войцех Козлович ПОДСТРИЖЕННЫЙ ПОД «НУЛЕВКУ»
…Фронт был близко. Гудело так, что и ухом к земле прикладываться не надо. Хозяин спрашивал меня, что я буду делать, когда придут русские. Ой, только бы поскорее пришли! Конечно, пойду в армию. Но этого я моему «американцу» не сказал. Он не был очень уж плохим. Картошки не жалел, но и в работе тоже не щадил. Богач, отсюда и такое прозвище. Боялся красных, но не только потому, что был кулаком. Якшался с бандеровцами. Совсем недавно те напали на польскую деревню. Жители убежали в фольварк, в котором были немцы. Собственно, не известно, кто был хуже. Но на этот раз у немцев были свои заботы, и наши уцелели. Только хозяйство их бандеровцы спалили. Наконец пришли русские! Танки проехали быстро, едва кто-то из танкистов успел напиться молока. Но я все же прочел надпись на броне: «Вперед, на Берлин!» Я тоже пойду с ними. Утром я выгнал стадо в поле. Было тихо и пусто. Пустил коров пастись, а сам полями помчался в Большие Мосты, где как будто бы разместилась комендатура. Может, уже завтра надену форму. Пусть увидит меня тогда «американец». Коменданта я застал, но он только рассмеялся, когда я сказал, что хочу идти на Берлин. — Винтовка ведь больше тебя. — Так дайте автомат, — не уступал я. Он дал мне хлеба и банку тушенки. Сказал, что у него дома остался сын, такой же, как я. — Когда я уходил на фронт, ему было одиннадцать лет. Теперь ему, как и тебе, четырнадцать. — Он не узнает вас, когда вернетесь, товарищ командир, — сказал я, полагая, что должен его как-то утешить. — Твой отец тоже тебя не узнает… Я промолчал, а потом, хотя капитан и не расспрашивал меня, рассказал ему о себе. О том, что не помню родителей, что воспитывался в детском доме, пока война не разбросала нас по свету. О том, как месяцами скитался от села к селу. О голоде, днях без хлеба и улыбки близких, а также о немцах, угонявших людей на работу в Германию. Они обещали хорошее питание, школу, обувь. Дали на дорогу паек, но, вместо того чтобы идти на вокзал, я пошел во Львов. Там было много немцев, и я боялся, что встречу тех, которые хотели выслать меня в Германию. Теперь же я сам хотел туда попасть, но русский офицер был неумолим. Он упорно полагал, что я слишком молод. — Впрочем, — сказал он обрадованно, — за нами идет ваша армия. — Наша? — оживился я. — Польская? — Я был уже готов отправиться в путь. — Где она? Офицер пожал плечами. — Может, во Львове. Ищи… Он высунулся из окна. Во дворе урчал грузовик. — Петя! — крикнул командир. — Возьми с собой этого бойца… Вновь знакомые места. Улицы, забитые войсками. Меня подмывало посмотреть, как теперь выглядит наш бывший приют, но я не пошел к тому месту. Однако именно туда я и попал. Нашел здание комендатуры, говорю часовому, что у меня есть дело к коменданту. Когда он привел меня к нему, у меня язык отнялся. Комендант спрашивает, что я хочу, а я смотрю на его мундир, такой, какой носили до войны солдаты, которые размещались в казармах рядом с нашим детским домом. Нет, я не плакал, честное слово. Даже тогда, когда, лежа за печкой у «американца», слышал, как бандеровцы говорили, что лучше и меня пришибить… Заплакал я только один раз, но это было уже после войны. Наконец я с трудом выдавил из себя: — Возьмите меня в армию! В этот момент открылась дверь, ведущая в другую комнату, и в ней появился… заведующий детским домом, в котором я воспитывался до войны. — Геня! — сказал он с упреком. — Я вас всех ищу! Ведь через несколько дней начинается учебный год. Нужно наверстать пропущенное… В приюте я встретил своих старых приятелей — Альку Терешковского и Стасика Зелиньского. Спали мы в одной комнате. Ночи были длинные, но и у нас было о чем поговорить. 1 сентября нам выдали по тетрадке и карандашу. Мы должны были идти в 5-й класс. Как-то мы пошли на вокзал. Там на путях под парами стоял эшелон. — Куда едете? — спросил я солдата, который приседал у вагона, чтобы размять ноги. Солдат рассмеялся, но ответил: — На запад… А вам куда надо, молодцы? Мы переглянулись. Стась буркнул: — Может, на запад… Нас взяли в вагон, так как мы сказали, что возвращаемся в Польшу искать свои семьи. Но когда нас хорошо накормили, нам стало неловко, что мм обманываем. Мы признались, что хотим в армию. Солдаты рассмеялись, а кто-то пошутил: — Хороша бы была армия с такими солдатами… — Посмотрим! — ответили мы с обидой. Вскоре, однако, нам пришлось расстаться. — До встречи на фронте! — кричали мы. — Не дай бог! — промолвил серьезно какой-то старшина.Эту дату я помню хорошо. Холод осеннего утра привел нас в чувство быстрее, чем ведро холодной воды. Впрочем, хорошее купание нам бы было очень кстати. Находим воинскую часть. Удивление, вопросы, как и раньше. Лаконичные ответы: — У нас нет набора в армию. Вы должны идти за реку Вислоку… К счастью, река была недалеко. Уже издали мы увидели солдат, делавших утреннюю гимнастику. Завтраком нас, как всегда, охотно угостили. Однако, когда услышали, что мы хотим воевать, начали отговаривать: — Подождите немного, война скоро кончится. — Вот именно! Мы хотим успеть… — сказал я. — Как винтовка тебя пнет при отдаче, то заплачешь и пойдешь к маме… — У меня нет матери, — ответил я угрюмо. — И отца. Я хочу в армию, я должен идти в армию… — настаивал я. — Что тут происходит? Мы не заметили, как к нам подошел офицер. Он взглянул на нас: — В чем дело? Мы смущенно молчали. И тут кто-то произнес: — Солдаты… Это, должно быть, была шутка, но вышло как-то душевно. Поручник спросил: — Сколько вам лет? — и, не дожидаясь ответа, махнул только рукой и забрал нас в казармы. Возле одного из строений играл мальчик, не старше десяти лет. Стасик дернул меня за рукав. — Посмотри! Боже мой, как мы ему завидовали! На нем был элегантный офицерский мундир, такой, о котором мы только мечтали. — Это сынишка полковника Андреева, — сказал поручник. — Нашего командира полка… Полка, собственно, еще не было, он только формировался. Волна мобилизованных еще не нахлынула, пока прибывали только добровольцы. Начали мы с бани. Она, действительно, была нам нужна после почти шести недель, проведенных на перронах, в стогах сена, в кузовах грузовиков, в вагонах воинских эшелонов. Военная комиссия не поверила на слово, что нам по семнадцати лет. Нас выдавал рост и общее физическое развитие. Заключение комиссии звучало: «Годны к нестроевой службе». Мы подозрительно смотрели на эту бумажку, не понимая, что это означает. Кто-то равнодушно объяснил нам: — Ведь кто-то должен чистить картошку. Ну, может, вам дадут погонять лошадок. — А винтовки мы получим? — спросил я, хватаясь за последнюю надежду. — Получите. Получили мы их даже быстрее, чем форму, которую для нас было труднее подобрать, чем сапоги. Сапоги обули, обмотав ноги толстым слоем портянок. Шинели нам подобрали тоже удачно. Мы были на седьмом небе! В казармах становилось тесно. Однажды прямо из леса с оружием в руках явилась рота Армии Крайовой, одетая в сброшенные на парашютах английские мундиры. Районные военкоматы присылали мобилизованных. Началось формирование части. Мы были добровольцами, поэтому нам было дано право выбора рода войск. — Хотим противотанковые ружья, — дружно заявили мы. Это было, действительно, замечательное оружие. Однако нас разлучили. Мы попали в разные подразделения. Я слышал, как командиры протестовали: — Нет, трое пацанов — это слишком большая роскошь. Одного можем взять… Я попал в 1-ю роту, которой командовал поручник Ян Борек. Он пользовался уважением среди бойцов. Служить начал еще до войны, потом был в партизанах. Поручник стал заботливо опекать меня. Внешне я делал то, что и другие. Но когда мы выходили в поле, на учения, делали дальние форсированные переходы, он приказывал мне оставлять противотанковое ружье в казарме. И был прав — оно было бы мне не под силу… Это со всей очевидностью обнаружилось на больших дивизионных учениях. Рота должна была выступить в полной боевой готовности. После двадцатикилометрового марша я едва держался на ногах. Должно быть, я «хорошо» выглядел, когда полковник Андреев остановился передо мной, осматривая меня. — Рядовой Генрик Штейнер… — еле прохрипел я. Полковник взглянул на противотанковое ружье. — Что, сынок, тяжело? У меня даже не было сил возразить. Полковник посмотрел по сторонам. — Командир роты! — обратился он к поручнику Бореку и задумался на минуту. Наступила тишина. Сердце у меня замерло. Я вытянулся, как мог, чтобы выглядеть более высоким, солидным, сильным. Однако почувствовал, что у меня все сильнее «потеют глаза», как говорил Стась о Нель, когда она плакала в пути через пустыню[11]. Наверное, командир 25-го полка заметил мои мокрые глаза и, отходя, бросил коротко: — К автоматчикам! В этот же день я представился своему новому командиру роты. До этого я произвел «разведку», чтобы установить, каков этот новый командир. Выразительный жест солдат дополнил короткую, но выразительную характеристику: — Мировой!.. Поручник Антоний Кубисяк был действительно старым солдатом, офицером соединения генерала Клеберга, которое дольше других сражалось во время сентябрьской кампании 1939 года и капитулировало лишь после боя под Коцком 5 октября 1939 года, когда уже кончились боеприпасы, продовольствие и медикаменты. Кубисяк не раз вспоминал тот сентябрь, но чаще всего последний бой. — Никто не стыдился слез, — говорил поручник, а я подозрительно всматривался в его лицо, так как командир роты как-то удивительно часто отводил в сторону свои глаза. Может, их разъедал дым из печки, стоявшей посреди гаража, в котором мы жили. На полутора десятках квадратных метров размещалась вся рота. Нужно было каждую минуту проветривать помещение, так как мы почти совсем прокоптились, а январский мороз тогда забирался под шинели. Но когда поручник рассказывал о том сражении, о том последнем приказе своего генерала, голос дежурного, оповещавшего, что время ужинать, не мог оторвать роту от этой своеобразной политинформации. — Тогда перед капитуляцией, — говорил Кубисяк, — генерал Клеберг обратился к солдатам с приказом, в котором поблагодарил их за мужество и стойкость и заявил о том, что он принял решение о капитуляции и освобождает их от дальнейшей безнадежной борьбы. Однако этот приказ заканчивался словами: «Я знаю, что вы станете в строй, когда будете нужны. Еще Польша не погибла. И не погибнет». Я не смотрел уже в глаза поручника. У меня самого они слезились, и я знал, что это не от того, что их разъедал дым. Кубисяк смотрел на нас: — Мы нужны, хлопцы! Все мы сидели сжавшись в комок, а ветер задувал через дверь белую полоску снега, таявшую только у самой печурки. И почти всегда кто-нибудь нарушал наступившую тишину вопросом, которым мы все жили: — Когда мы отправимся?!
Я хорошо помню эту дату, 13 января, а также тему учений «Пехотная дивизия в наступлении на заранее подготовленную оборону противника». На инспекцию приехал генерал Сверчевский. На следующий день мы принимали присягу. Прибыли к нам в часть также генералы Роля-Жимерский и Завадский. «…Клянусь польской земле…» Крепко сжимал я руками свой автомат и чувствовал себя солдатом. Фронт проходил недалеко под Дембицей, всего в сорока километрах. Утром мы двинулись в путь. Итак, думал я, самое позднее — завтра… Наш марш начался одновременно с январским наступлением. Мы шагали по дорогам, по которым прошли танки, транспорт, через поля, на которых стояли покрытые большими шапками снега снопы неубранного хлеба. Проходили через деревни, где у первых же хат жители встречали нас хлебом-солью. Я шагал рядом с командиром в голове ротной колонны. Это была для меня, конечно, честь, но у Кубисяка был длинный, солдатский шаг. Я старался не отставать. Женщины целовали меня со слезами на глазах, совали мне в руки папиросы. Я не курил и поэтому отдавал их своим товарищам. Какой-то ксендз стоял возле сожженного маленького костела и благословлял нас. У нас не было ни календаря, ни часов — компасом был приказ. Вокруг нас расстилался однообразный пейзаж, засыпанные снегом пепелища. Как в калейдоскопе, проплывали местечки, села, города. Из всего этого в памяти сохранялось немного: караульная служба возле освобожденной шахты, бой в Сосковцах. Потом была какая-то местность — я не помню ее названия. Но поручник Кубисяк говорил, что здесь проходила старая польско-германская граница. — Значит, еще шаг — и Германия, — сказал кто-то из солдат. — Нет! — возразил командир. — Следующий шаг — это также Польша. Древняя пястовская земля по Одре и Нисе вновь возвратится к родине. Это всегда была Польша. Достаточно спросить родившихся здесь людей, посмотреть кладбища с польскими именами на надгробьях, послушать старые народные песни… Именно в тот момент к нам подбежали несколько бойцов: — Гражданин поручник! Идемте с нами! Мы пошли за ними к небольшому домику у реки. Когда-то тут был пограничный пост. Кто-то из солдат повел нас крутыми лестницами в подвал. — Всегда вас черти несут куда-то, — ворчал поручник. Но внезапно он умолк. Луч фонаря остановился на чем-то, при виде чего у нас вырвались возгласы изумления. Это были новенькие польские довоенные конфедератки! Откуда они здесь взялись, как уцелели в течение этих лет гитлеровского кошмара, когда оккупанты яростно уничтожали каждый след всего польского?.. — Гражданин поручник правильно говорил, — сказал я. Кубисяк вертел в руках зеленую пересыпанную нафталином конфедератку. — Здесь всегда была Польша… Мы не могли надеть тогда фуражки — было слишком холодно. Но каждый взял с собой по одной. Нельзя было их там оставлять. Они дождались нас. — Будут в самый раз, — сказал кто-то из солдат, — на параде в Берлине… Каждый километр, каждый день сокращали путь на запад. Передовые части прокладывали нам дорогу. Мы шли во втором эшелоне, несли караульную службу у захваченных объектов. Потом нас перебросили под Вроцлав. Мы двигались ночами ускоренным маршем сквозь метель, мороз и темноту. Чтобы не потеряться, держали друг друга под руки. До сих пор мы находились в резерве Главного командования. Теперь же наша 10-я дивизия вошла в состав 2-й польской армии. Мы уже знали — еще и нам хватит этой войны.
Казалось, что это уже близко. Как-то после полудня я сидел в газике, и водитель объяснял мне: — Час езды, и я у имперской канцелярии. Даже не буду спешить… Разведчики ушли вперед, а мы сидели в кустах у реки и наблюдали за другим берегом. Время тянулось медленно, курить было нельзя. Полк четырежды форсировал Ни-су, прежде чем зацепился за немецкий берег. Мы не получили лодок. Не хватило. Я напихал соломы в мешок, но не очень надеялся на такой «плот». Мне завидовали: — Тебе хорошо, ты же легкий. Вода сама тебя понесет. Гитлеровцы упорно сопротивлялись. Мы попали прямо под их огонь. Наши солдаты вылезали на заминированный берег навстречу смерти, которая миновала их в реке. Ведь мы форсировали реку, держась за протянутые от берега к берегу веревки. Нас сносило течением, плотный огонь пулеметов бил по этому живому мосту. Я не чувствовал холода реки. Рука, поднятая высоко над водой, немела от тяжести автомата. Кто-то подхватил меня за воротник шинели и толкнул в одну из лодок. Вокруг нас осколки снарядов рассекали волны. Казалось, что вода кипит под пулеметным огнем, словно идет сильный, теплый дождь. …Я любил такой дождь. Часто в деревне я бежал тогда к реке и плыл под колющими кожу струями дождя…
Наш батальон попал в окружение. Впрочем, не только он оказался на пути гитлеровской танковой группы, которая пыталась от Згожелеца пробиться на север, к Берлину. Мы знали, что это уже последние дни сражений. Каждый хотел выжить, дождаться конца войны, но эти последние дни требовали больших усилий. Солдаты в мыслях уже представляли свое возвращение в родные села, считали почти шаги, отделявшие их от калиток своих домов, мечтали о том, что снимут солдатские сапоги и засунут их за печь. Но сейчас мы занимали позиции на окраине Мужаковских лесов. Связи с дивизией не было. Радиостанция полка молчала. Мы были отрезаны. Издалека временами доносился гул фронта, словно эхо грозы. Но вокруг нас царила тишина. Это вызывало беспокойство. Лес дышал весной. Высоко под облаками пели первые жаворонки. Время от времени через зелень внезапно пробивала дробь автоматных очередей. Было ясно, что где-то там, в нескольких шагах, смерть играет с чьей-то жизнью в прятки. Я сидел под кустом можжевельника и дремал, чувствуя тепло солнечных лучей на зажмуренных веках, когда внезапно услышал: — Геня!.. Геня! Мне не хотелось отзываться, но я узнал голос старшины роты. — Тебя ищет офицер из батальона. Я удивился, быстро вскочил и, отряхнув шинель, пошел представиться. Это был не столько приказ, сколько вопрос. В душе я был горд, что поручник обратился именно ко мне. Я знал его в лицо, но не помнил даже фамилии. — Сразу же? — лишь уточнил я. Он кивнул головой, и я пошел за своим котелком, который лежал под кустом. «Конец лежанию», — подумал я без сожаления, опуская в карман несколько гранат. Мы двинулись лесом, от дерева к дереву, укрываясь за массивным щитом многолетних стволов. Автомат я держал наготове, прикрывая идущего впереди поручника. Через кроны деревьев пробивалось все больше света. Лес кончился. Мы остановились, отойдя от своих уже метров на четыреста. Подул ветер, теплый и пахнущий весной. Я вспомнил, как год назад пас коров хозяина. Ветер был такой же, как тогда возле речки на зеленевшем весной лугу. «Вот бы увидел меня сейчас „американец“!» — с гордостью подумал я… — Внимание! Голос поручника возвратил меня к действительности. Пригнувшись, мы шли через открытое пространство, на котором только кое-где росли кусты. — Перебежками! — услышал я громкий шепот. — От куста к кусту. Только бы скорей к тому молодому леску. Еще сто метров… Восемьдесят… Шинель сковывала движения, я чувствовал, как у меня взмокла спина. Каска надвинулась на глаза, но не было даже времени ее поправить. Еще пятьдесят!.. Автоматная очередь настигла нас на ходу. Мы сразу прижались к земле. Ее уже прогрело солнце. У меня перед глазами на стеблях травы блестели последние капли росы. Молчавший до сих пор лес поливал теперь нас огнем. Я видел, как пулеметные очереди косили свежую зелень. Передо мной чуть слева лежал поручник. В первый момент я не заметил его. Лишь немного спустя увидел, как его поднятая рука резким движением рассекла воздух. «Гранаты!» — вспомнил я. В стену леса ударил внезапно взрыв и, отразившись от нее, прокатился дальше умолкающим эхом. Осторожно приподнявшись, я вытащил гранаты из кармана и положил перед собой. Когда заговорил автомат поручника, я бросил гранату. Подумал еще о том, как чертовски неудобно бросать гранаты лежа, когда тебя может внезапно скосить очередь гитлеровского автомата. Я прополз немного вперед. После каждой очереди я старался сменить место, чтобы гитлеровцы не нащупали меня. Еще гранаты! Я отвечал короткими очередями. Мало оставалось патронов… Об этом же, очевидно, подумал и поручник, так как я услышал его голос: — Геня, назад! Быстро, я буду тебя прикрывать!.. Я вскочил и, согнувшись, прыжками устремился к лесу. Добежав до какого-то пня, я упал за ним и стал ждать. Теперь была очередь поручника. Увидев, как он побежал, я выпустил в сторону леса, где засели гитлеровцы, длинную очередь из автомата. Внезапно поручник упал. Я ждал, когда он откроет огонь, чтобы отступить дальше, к своим, но его автомат молчал. «Кончились патроны?» — промелькнуло у меня в голове и по спине пробежал холодок. — Гражданин поручник! — произнес я шепотом. Молчание. Я повторил громче. Снова молчание. Я продолжал ждать. Гитлеровцы тоже перестали стрелять. Я по-настоящему забеспокоился. Крик мог привлечь внимание немцев. Я бросил одну гранату и подполз к месту, где должен был лежать командир. Прислушался. Полная тишина. Осторожно разгреб рукой траву и тогда увидел командира. Автоматная очередь угодила поручнику в бедро. Я подполз поближе. Он еще был жив. Из левого кармана я вытащил у него санитарный пакет и перевязал ему раненую ногу. Со стороны леса снова раздалась автоматная очередь. Немцы как бы прощупывали местность. Раненый истекал кровью. Я достал свой пакет и еще сильнее стянул ему ногу. Потом обхватил поручника руками и попробовал потащить его. Но у меня ничего не получилось. Раненый только застонал. Я знал, что причинил ему боль. У меня не хватало сил, и мне захотелось заплакать. Пожалуй, впервые почувствовал, что я, в сущности, еще ребенок. Я все время старался не отставать от взрослых. До сих пор это мне удавалось. Теперь, когда от меня зависела жизнь человека, я был бессилен. Поручник что-то шептал. Я наклонился к нему. — Не уходи! — произнес он, судорожно схватив меня рукой. — Не оставляй меня! Но я уже знал, что должен его оставить. Только тогда будет шанс спасти его. — Я вернусь, поручник. Позову кого-нибудь… Вы останетесь живы! Я видел его глаза. Они кричали, хотя я слышал только шепот: — Не оставляй меня… Я повернул его лицом в сторону немецких позиций. Рядом положил гранаты. Проверил диск в автомате. Патроны еще были. Я направил автомат в сторону немцев. — Честное слово, я вернусь. Где-то рядом резанула автоматная очередь. Я метнул еще одну гранату и пополз по-пластунски через луг. Пули, преследовавшие меня, ложились все ближе. Внезапно я понял: «Каска!» Отражавшая солнечные лучи каска была хорошей мишенью для немцев. Я сорвал ее с головы и отбросил в сторону. Пули последовали за ней, но я был уже возле деревьев. Вскочив на ноги, я побежал. Времени не было! Шинель цеплялась за кусты, я чувствовал, что теряю силы. Внезапно мелькнула мысль: «Свои могут подстрелить меня!» Ведь я бежал прямо на наши окопы. Страх охватил меня, и я начал кричать: — Это я! Не стреляйте! Это я, Генек!.. Вдруг совсем рядом я услышал: — Чего испугался? Примчался я вовремя. Отряд отходил на новые позиции. Еще несколько минут — и я застал бы лишь пустые окопы. Поручник Кубисяк дал мне трех солдат, в том числе одного автоматчика. Мы все называли его «партизаном», так как в армию он пришел прямо из леса. Он тут же придумал свой план спасения раненого. — Я отойду от вас в сторону и огнем отвлеку внимание немцев. Тогда вы ползите к поручнику… Мы так и сделали. «Партизан» короткими очередями из автомата стал прощупывать лес. Мы быстро поползли по траве. «Жив?» — крикнул я с нетерпением ползущим впереди меня бойцам. Командир был жив! Два солдата обхватили его с двух сторон и поволокли в сторону леса. Я на всякий случай прикрывал их отход. Потом отыскал «партизана», который продолжал отвлекать на себя гитлеровцев. Он взглянул на меня вопросительно, но у меня не было сил ответить. Я только улыбался. — Ну, тогда дуем отсюда, — сказал он весело. — На сегодня рабочий день окончен… Утром 9 мая меня разбудили товарищи. Война кончилась! Уже с первых дней мая несколько раз она должна была кончиться, но каждый день солдаты гибли. Два дня тому назад из разведки к реке Шпрее мы возвратились только вдвоем, а пошло нас девять. Радио сообщило, что пал Берлин. Мы уже считали дни, когда возвратимся домой. Сержант Тлухож даже подсчитал, что может успеть на именины жены. Но этот солдат народного войска остался навсегда на берегу немецкой реки. Остались и другие. Те, на другом берегу, продолжали упорно сопротивляться.
К кухне нужно было пройти через молодой лес. Внезапно я споткнулся. Сапог мягко вошел в рыхлую землю. Я хотел идти дальше, но вдруг заметил в песке зеленый кусок сукна. Я разгреб землю. Это была польская военная шинель. Я повернулся и побежал к командиру. Возвратились мы с лопатами. Копать глубоко не было необходимости. Изуродованные трупы лежали тут же, под тонким слоем земли. — Это раненые из госпиталя, захваченного немцами, — сказал кто-то из офицеров. Я не мог смотреть. Через ветви деревьев видно было небо. Чистая лазурь, без облаков. Даже издалека не доносились звуки каких-либо выстрелов. Трудно было поверить, что наступил конец войны. Это было в тот день, когда я плакал. Впервые после того, как надел солдатскую форму. Плакал, нужно признаться, со злости. Даже потом сам удивлялся. Ведь я видел столько боли, отчаяния, самопожертвования, а глаза были сухими. А тут заплакал из-за старшины роты сержанта Томчака. — Рядовой Штейнер явился по вашему приказанию! — доложил я. Томчак даже не поднял головы от миски. Как раз в этот момент он завтракал. — Пойдешь, Геня, — сказал он, — к парикмахеру. Сказал он это неразборчиво, и мне показалось, что я ослышался. — Я слушаю вас, гражданин сержант, — сказал я, все еще не веря услышанному. — К парикмахеру! — Голос старшины оглушил меня. Он не любил повторять команду два раза. Впервые в армии я сделал попытку вступить в спор: — А зачем, гражданин сержант? Тот посмотрел на меня долгим взглядом и произнес подозрительно спокойно: — Подстрижешься. — И добавил твердо: — Под «нулевку». — Я не хочу! Не пойду! — Голос у меня дрогнул. — Даже когда я пришел в армию, меня не стригли, — упрямился я. — Тогда умели уважать добровольцев. А теперь? Я уже ветеран, фронтовик, — пустил я в ход последний аргумент, истолковав этот неожиданный приказ как незаслуженное наказание. — Поедешь получать орден, — объяснил ротный писарь. — Орден? — не понял я. — За героизм в боях… — Не дури! — вырвалось у меня уже совсем не по уставу. У старшины роты лопнуло терпение. — Постричься! — крикнул он. — И доложить о выполнении приказа! Потом мы поехали на бричке к ратуше. Только трое из одиннадцати, представленных тогда к Кресту Виртути Милитари, явились за наградой. Остальные не дожили до этого момента… Когда мне вручали орден, на глазах у меня навернулись слезы. — Что это ты? — удивился командир дивизии. — От радости, — быстро ответил за меня сержант Томчак. И даже потом, когда мне дали памятную фотографию, я думал не столько об ордене, сколько о том, как хорошо, что фуражка прикрывает мою остриженную голову.
С капитаном Генриком Штейнером мы лично не были знакомы. Я думал, что узнаю его по милицейской форме — он был офицером варшавского управления гражданской милиции. Но он пришел в штатском. — Такая служба, — объяснил он коротко. Только на лацкане пиджака у него был прикреплен знак «Сын полка».
Михал Воевудзкий «ВНИМАНИЕ! ВАШ ТАНК ГОРИТ!»
Сюрприз был просто неправдоподобным. Отец и сын собирались сесть к столу обедать, когда внезапно раздался резкий стук в дверь. — Войдите! Дверь открылась, и в комнату вошел высокий, крепко сложенный военный. Он был в сапогах, шинели, на голове конфедератка с польским пястовским орлом. На ремне висела кобура с пистолетом. Сотрудник гражданской милиции Францишек Божек с удивлением рассматривал вошедшего и внезапно спросил: — Виктор?! — Ну, конечно, я! Что, не узнаешь? — воскликнул военный, и оба мужчины, к удивлению мальчика, который внимательно наблюдал всю сцену, бросились в объятия, начали обниматься, тискать и похлопывать по плечу друг друга… — А это сын? — спросил через некоторое время гость. — Сын, Богуслав… Мальчик все еще не понимал, кто этот военный, но с большим интересом разглядывал его мундир, конфедератку, кобуру с пистолетом. Ну, а еще — знаки различия, говорившие о высоком звании: две поперечные полоски на погонах и звезда. Значит, майор. Оказывается, это родной брат отца. Братья, Францишек и Виктор, до войны были членами нелегальной Коммунистической партии Польши. Оба активно занимались подпольной партийной работой, оба подвергались за это преследованиям со стороны тогдашних властей. Отец Богуслава, Францишек, до начала второй мировой войны именно из-за своей нелегальной политической деятельности не мог найти постоянной работы, и ему приходилось наниматься сезонным рабочим в городском хозяйстве канализации и водопровода. Во время сентябрьской кампании 1939 года он принимал участие в обороне Варшавы, а в период оккупации был членом Армии Людовой. К подпольной деятельности он привлек также сына Богуся, которому поручал, в частности, распространение нелегальной печати Польской рабочей партии. Во время Варшавского восстания в 1944 году Францишек Божек вместе с сыном Богуславом пробился через сражающийся город к реке, перебрался на другую сторону Вислы и оказался в Праге, в районе Грохува. Когда Прага была освобождена советскими и польскими войсками, Францишек Божек вступил в ряды гражданской милиции. Судьба второго брата, Виктора, была более трудной. До войны он очень активно занимался нелегальной работой. Это было связано всегда с большим риском. Постоянные обыски в доме, аресты, тюрьмы. В 1928 году его положение стало настолько серьезным, что партийные товарищи посоветовали ему выехать за границу. В этом же году под чужим именем он покинул Польшу, и с этого момента следы его пропали. Брату он не писал, так как боялся навлечь на семью своими письмами новые беды. После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Виктор Божек сразу же пошел в Красную Армию. А потом уже в рядах 1-й армии Войска Польского прошел боевой путь от Ленино до плацдарма в районе Варки и Магнушева. Как оказалось, в Варшаву он приехал по делам службы, связанным с набором добровольцев в формировавшуюся в районе Люблина 2-ю армию Войска Польского. Воспользовавшись этой счастливой возможностью, майор Виктор Божек разыскал брата, которого он не видел шестнадцать лет. Богуславу было в это время четырнадцать лет. В период оккупации мальчик окончил семилетнюю школу, при этом некоторые предметы, запрещенные оккупантами, он изучал на нелегальных дополнительных уроках, организованных учителями. Сначала он ходил в школу на улице Сенницкой. Когда же немцы заняли здание школы под госпиталь, учеба продолжалась на частных квартирах. Рассказы дяди о яростных боях с немцами беспредельно увлекали мальчика. А поскольку четырнадцатилетний Богусь имел довольно солидный опыт конспиративной борьбы (смелости ему тоже было не занимать!), паренек решил любой ценой попасть в армию и стать солдатом. Он не стал выдавать своих планов отцу и дяде, а лишь хитро выудил у дяди подробную информацию о том, как формируются новые польские воинские части в районе Хелма. Своими планами Богуслав поделился с товарищем, который жил с ним в одном доме и был старше его на два года. Оба паренька решили поехать из Варшавы в Хелм и вступить во 2-ю армию Войска Польского. Несомненно, это решение подкреплялось и тем фактом, о котором проговорился дядя Виктор, что в частях, куда набирают добровольцев, порой закрывают глаза на возраст, который, впрочем, из-за отсутствия иногда документов, точно установить трудно. Выехать в Хелм! Тогда это не было таким простым делом. За Вислой горела восставшая Варшава. На чернякувском плацдарме прекратилось героическое сражение десантов 1-й армии Войска Польского и отрядов повстанцев с гитлеровцами. Район Праги находился под огнем немецкой артиллерии. Железная дорога подвергалась постоянной бомбежке. Транспорт, разумеется, работал исключительно для нужд армии. Но Богуслав Божек и его друг прошли суровую школу оккупации. Они знали, как уговорить солдат, сопровождавших воинские эшелоны, и водителей грузовиков. В Хелм, после многих приключений, они приехали целыми и невредимыми, хотя и ужасно грязными и оборванными. Поистине, как дети фронтовых дорог! В конце концов после дальнейших приключений им удалось найти воинскую часть, где их приняли в ряды бойцов. Друг Богуся, впрочем, не имел больших хлопот, так как ему тогда уже было 16 лет. Зато самому Богуславу пришлось преодолеть кучу препятствий. Его приняли только потому, что кто-то из офицеров не мог выдержать потока слез, лившихся из глаз расстроенного, но упорного мальчишки. Оба беглеца были направлены в разные подразделения и с тех пор больше уже никогда не встречались. Казалось, что мечты Богуслава сбылись и ничто не помешает осуществлению его солдатских планов. Но ничего подобного! Можно себе представить отчаяние мальчика, когда через некоторое время в его часть явился… дядя Виктор! Майор Божек устроил хороший нагоняй командованию части за то, что оно незаконно приняло «щенка», как он выразился, на военную службу. Он потребовал, чтобы Богусь снял форму, а затем отвез мальчика в Варшаву, к отцу. Однако «щенок», который под влиянием шума и крика, возникших во время разговора дяди с офицерами части, а также под давлением авторитета дяди безропотно возвратился в Прагу, в отцовском доме показал, на что он способен. — Хотите вы или не хотите, — заявил он отцу и дяде, — все равно убегу в армию! Забрали меня из Войска Польского — хорошо, так я убегу к русским! Там меня уже не найдете! Скажу, что я сирота, и меня наверняка примут. Этот аргумент убедил даже дядю. Он прав, щенок, — сказал тихонько Виктор брату. — Как начнет плакать, хлюпать носом, моргать глазами и скулить, что родители у него погибли и ему некуда идти, примут в армию, как пить дать! Я их хорошо знаю! У них добрые и отзывчивые сердца. Каши с тушенкой еще для одного бойца на кухне всегда найдется, а хитрый малый в армии пригодится. Давай-ка, Франек, отошлем его обратно в нашу армию. Я там поговорю,чтобы о нем позаботились. — Ну что же, будь что будет, пусть идет, — решил в конце концов отец. — Погибнуть можно и здесь. Нет дня, чтобы люди не погибали на улицах Праги… Таким образом Богуслав Божек вновь оказался в армии. Его родной частью стал 24-й самоходно-артиллерийский полк, входивший в состав 2-й польской армии, которой командовал генерал дивизии Кароль Сверчевский, или генерал Вальтер, как его называли, когда он сражался в республиканской Испании. 24-й самоходно-артиллерийский полк формировался в деревне Новины, возле города Хелма. Богуслав Божек первые три недели выполнял различные поручения. Помогал на кухне, носил офицерам на подпись книгу приказов (поскольку тогда в 24-м полку было много советских офицеров-инструкторов, книга приказов велась на двух языках: польском и русском), доставлял в канцелярию полка полевую почту. Паренек он был добросовестный, аккуратный, толковый, всегда вежливый и веселый, поэтому вскоре завоевал всеобщую симпатию офицеров и младших командиров. В начале октября 1944 года Богуслав узнал, что будет официально зачислен в часть. Ему по мерке сшили форму и сапоги, выдали винтовку. 7 октября вместе со всем полком Божек принял присягу, он получил солдатскую книжку, которую до сегодняшнего дня бережно хранит как дорогую реликвию. С этого дня о получал полное довольствие, включая табак. Табак можно было закручивать только в газетную бумагу, поскольку в пачке находились, собственно, только корни табачных листьев. С этого же дня — а как же иначе! — Богуслав начал курить. Молодого солдата направили обслуживать телефонный коммутатор, который насчитывал, впрочем, всего десять номеров. Коммутатор размещался в землянке, построенной во дворе одного из домов деревни Новины. Землянка была разделена на две части. В одной из них, названной служебной, находились стол, скамейка, печурка и телефонный коммутатор. В другой, для личного состава, были сооружены нары, сколоченные из досок и устланные сеном. Сверху сено было покрыто плащ-палатками. Укрывались одеялами и шинелями. «Приватная» часть землянки отделялась от «служебной» свисавшим от потолка к земле брезентом. В служебной части над столом находилось маленькое окошечко, через которое наружу выходили телефонные провода. Постоянными жителями землянки, которые также по очереди обслуживали телефонный коммутатор, кроме Богуслава Божека были Казя и Юзеф Охруский (после войны они поженились), а также Александр Колтуник. Вскоре после присяги Богуслав Божек был командирован по делам службы в Варшаву. В родном доме его с радостью встретили, а его ровесники онемели от изумления при виде молоденького солдата. Своим приездом Богуслав «спровоцировал» бегство из дома одного из друзей, который также вступил в армию добровольцем. Незадолго перед отправкой на фронт Богуслав еще раз навестил родительский дом. Он уже тогда носил звание ефрейтора, такое же, как и отец, служивший в милиции. Правда, со временем отец дослужился до звания поручника. Богуслав старательно занимался военной подготовкой. В это время он встретился с четырнадцатилетним русским мальчиком Колей Колтыгиным, с которым у него завязалась сердечная дружба. У Коли не было родителей — они погибли от рук гитлеровских палачей. После смерти родителей Коля скитался по территории Советского Союза, охваченной пожаром войны. Несчастного мальчика-сироту встретил офицер-политработник, который взял его под свою опеку. Вскоре Коля окончил курсы разведчиков и стал солдатом Красной Армии. В период когда в Советском Союзе началось формирование польской армии, Колин опекун был направлен в Войско Польское в качестве специалиста-инструктора. Он забрал с собой и Колю Колтыгина. Таким образом оба мальчика в 1944 году оказались в Хелме, в составе формировавшейся 2-й армии Войска Польского. Богусь и Коля ежедневно встречались в штабе 1-го танкового корпуса, куда они приносили донесения из своих полков или получали там приказы. Встречались они также и на военных учениях, во время установки телефонных линий и т. п. Их знакомство вскоре переросло в сердечную братскую дружбу. Вначале им много хлопот доставляли языковые трудности. Однако Богуслав очень быстро начал усваивать русские слова, а затем и целые предложения. Особенно легко он запоминал советские песни. У Коли же дела с польским языком шли значительно хуже. Поэтому, в конце концов, получилось так, что они стали разговаривать между собой по-русски. В первый период подготовки к отправке на фронт у мальчиков было мало свободного времени. Однако им всегда удавалось выкроить час-другой после полудня. Тогда они убегали в соседние деревни, где самым их любимым развлечением была стрельба. Стреляли беспрерывно — пока не надоест. А условия благоприятствовали этому занятию: у них в распоряжении были спортивная и боевая винтовки, а также наган, который выдали Коле. Эта страсть к стрельбе, впрочем, доставляла им немало неприятностей. Например, однажды в их полк пришли солдаты из соседней части с жалобой, что кто-то из района размещения 24-го полка стреляет в их направлении. Это могло привести к трагическим последствиям. В полку легко установили, что этим занимаются Богусь и Коля, которые действительно стреляли в том направлении по бутылкам. У ребят отобрали оружие. Как-то ребята снова «погорели» из-за патронов к нагану. Они начали потихоньку уносить их со склада. Небольшие кражи сходили им безнаказанно. Но однажды, воспользовавшись тем, что начальник склада чем-то отвлекся, они утащили много патронов. Начальник склада быстро установил, кто это сделал. С ребятами серьезно поговорили и внушили, что так поступать нельзя, а потом дали дополнительную нагрузку по службе и заставили мыть котлы на полевой кухне. Второе, впрочем, было значительно приятней, так как после работы повар всегда им подкидывал что-нибудь из своих запасов. Коля ежедневно навещал Богуслава на его телефонном коммутаторе. После полудня, когда телефон был мало загружен, мальчики вели долгие беседы на самые различные темы. Разумеется, чаще всего говорили о войне. Ребята знали, что скоро 1-й танковый корпус будет отправлен на фронт. Их воображение рисовало картины сражений, в которых они будут участвовать. Им грезились необычайные приключения, яростные перестрелки, героические подвиги… Коля был большим фантазером. Он рассказывал Богуславу, как он пойдет в разведку, проникнет к врагу в тыл, как во время ночных вылазок станет крупнейшим специалистом по захвату «языков». Число немецких пленных, которых он должен был привести после очередных вылазок, беспрерывно росло. Но самой большой мечтой Коли было поймать какого-нибудь очень важного немецкого генерала! Может, даже генерала СС! Разумеется, каждый подвиг Коли будет отмечен наградой. Вся грудь его будет увешана медалями! Мечты Богуслава были более прозаическими. Он знал, что ему придется делать на фронте. Он уже хорошо умел протягивать телефонную линию, знал, как чувствительно бьет по спине катушка с проводом, мог представить себе, как сидят в засаде враги, которые перед этим перерезали телефонную линию. В этот период Богуслав настойчиво учился работать с радиостанцией. Меньше думая о героических подвигах, он мечтал скорее о том, чтобы во время сражений попасть в экипаж танка. Он, конечно, понимал, что служба танкиста нелегкая, но считал, что сражаться в танке — это нечто значительно большее, чем беготня по кустам с телефонной катушкой. Таковы были ребячьи беседы и мечты в период ожидания отправки на фронт. А этот момент приближался со дня на день. В январе 1945 года Красная Армия, а вместе с ней 1-я армия Войска Польского начали от Вислы большое наступление. В течение января, февраля и марта Восточный фронт продвинулся далеко на запад, до Одера. 2-я армия Войска Польского 28 января двинулась с Люблинщины в направлении фронта. Так как она должна была действовать в составе 1-го Белорусского фронта, ей было приказано сосредоточиться в районе Хощно, Гожува-Велькопольского и Кшижа. Марш совершался в очень трудных условиях — морозы и снежные метели сменялись оттепелями и гололедью. Зато польской армии не угрожали в такую погоду атаки врага с воздуха. 1-й танковый корпус и входивший в него 24-й самоходно-артиллерийский полк, в котором служил Богуслав Божек, был переброшен в район Мыслибожа, к северу от Гожува-Велькопольского. Вскоре 2-я армия Войска Польского вошла в состав 1-го Украинского фронта, чтобы принять участие в ликвидации немецких войск, окруженных во Вроцлаве. Это решение, однако, не было осуществлено, так как в это время (конец марта и начало апреля 1945 года) Советская Армия закончила подготовку к крупной операции, которая должна была закончиться окружением и взятием Берлина. В связи с этим было решено, что кроме 1-й армии Войска Польского, которая входила в состав 1-го Белорусского фронта, в Берлинской операции примет также участие 2-я армия Войска Польского. Она должна была наступать на Нисе Лужицкой. Поэтому 4 апреля 1945 года соединения 2-й армии начали марш к Нисе Лужицкой, где они должны были сменить соединения 13-й советской армии и подготовиться к участию в исторической Берлинской операции. В составе 2-й армии оказался и 1-й танковый корпус. И вот польские солдаты оказались на границе новой Польской Народной Республики. Длительный переход к берегам Нисы, протяженностью в тысячу километров, проходил для Богуслава Божека и Коли Колтыгина в атмосфере радостного подъема. В одну из ночей полк проезжал через Варшаву, и Богуслав видел с платформы свой родной дом в районе Праги. Оба мальчика, когда это только было возможно, находились вместе. Коля рассказывал о своих братьях, Богуслав же о своем младшем брате Метеке. В части подшучивали над ними, называли неразлучными попугайчиками или сиамскими близнецами. 2-я армия Войска Польского, входившая в состав 1-го Украинского фронта, в Берлинской операции должна были нанести удар по врагу в направлении Будишина и Дрездена. Почти накануне боевого крещения весь полк пережил тяжелый удар. Совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба, на них свалилось известие о гибели командира их полка, советского офицера. Погиб он совершенно случайно, от шального снаряда. Командир полка, которого все очень любили и уважали за трудолюбие, справедливость и сердечное отношение к подчиненным, был первым павшим солдатом 24-го полка. К Коле и Богусю он относился, как к своим сыновьям, не раз их даже отчитывал, но чаще объяснял им что-нибудь, поощрял их стремление совершенствовать военные знания, приглашал к себе на обед, рассказывал о тяжелых боях с немцами, показывал им полученные ордена и медали. Неудивительно поэтому, что оба паренька очень переживали его смерть. Похороны командира полка были для них тяжелым переживанием. Оба они получили разрешение стоять в почетном карауле у гроба командира. События последующих дней отодвинули на второй план этот трагический случай. Генеральное наступление было назначено на 16 апреля 1945 года. Но уже раньше на отдельных участках начались бои с целью уточнения расположения группировок противника и захвата плацдармов. В ходе этих боев были взяты пленные, а в трех местах была форсирована Ниса и захвачены плацдармы, что позволило навести переправы и мосты. Наступление на участке 2-й армии Войска Польского началось мощным залпом, который обрушили на немецкие оборонительные позиции гвардейские минометы — «катюши». С этого момента польская и советская артиллерия вела непрерывный огонь, поддерживая наступление. Одновременно саперы приступили к наведению мостов и понтонов. Около семи часов на двадцатидвухкилометровом участке фронта была поставлена дымовая завеса, и под ее прикрытием пехота начала форсирование Нисы. Реку переплывали на лодках, сбитых плотах и вплавь. Час спустя советские самолеты нанесли удар по позициям противника, что, конечно, очень подбодрило польских солдат, перешедших в атаку. 24-й полк был придан 4-й танковой бригаде. По плану предусматривалось, что эта бригада, как и весь 1-й танковый корпус, переправится через Нису и вступит в бой около двенадцати часов. Однако наведение мостов у Ротенбурга и Нидер-Нойндорфа задержалось. Только в половине четвертого Богуслав Божек вместе со своей самоходной установкой оказался на мосту. Вскоре после переправы на западный берег Нисы 4-я танковая бригада и части 24-го полка подверглись усиленной бомбардировке противника. Эта бомбежка и упорное сопротивление противника в районе Усмансдорфа не дали возможности 4-й бригаде выполнить в первый день наступления поставленную перед ней задачу — переправиться через реку Вайсер-Шёпс. Вечером полк Богуслава вместе с 4-й танковой бригадой вышел в леса, где расположился также командующий 2-й польской армией генерал Сверчевский вместе с оперативной группой штаба. В первый день наступления были взяты Ротенбург и Нидер-Нойндорф. Это давало возможность на следующий день начать успешную атаку на третью оборонительную позицию гитлеровцев вдоль реки Вайсер-Шёпс. 17 апреля Богуслав Божек вновь оказался в вихре ожесточенных боев. А на рассвете 22 апреля 1-й танковый корпус начал преследование противника в направлении Дрездена. Богуслав вместе с Казей и Юзефом Охруским отправились восстановить телефонную связь с другими подразделениями. Перейдя через шоссе, они неожиданно заметили, примерно в двух километрах, большую колонну танков. Однако никому из них не пришло в голову, что это могут быть танки противника. Они продолжали идти, отыскивая повреждение в телефонном проводе. Внезапно раздался залп. Танки неслись к расположению польских и советских частей, непрерывно ведя огонь. Экипажи польских танков и самоходок бросились к своим машинам. Уже через минуту они открыли ответный огонь. И все же некоторые части под напором гитлеровцев стали отступать. Когда немецкие танки открыли огонь, Божек и его товарищи оказались в гуще сражения. Часа два они не могли выйти из укрытия. Но потом им удалось перескочить через шоссе. Однако своей части они не нашли. Их охватило отчаяние. Только под утро Богуслав и его товарищи нашли какую-то польскую часть, но никто не мог им сказать, где находится 24-й самоходно-артиллерийский полк. Они разыскали его лишь через несколько часов. Постепенно положение стало более благоприятным для польских частей. Богуслав Божек отлично проявил себя в боях с атаковавшими их фашистскими танками. Подразделения 24-го полка не имели телефонной связи, поскольку установить ее при постоянно изменявшейся обстановке и маневрах самоходных установок было невозможно. Экипажи польских танков поддерживали связь между собой с помощью бортовых радиостанций. В этих условиях особенно важно было не дать захватить себя врасплох неожиданно атаковавшим «тиграм» и «пантерам». Поэтому Богуслав Божек и Коля Колтыгин с чувством большой ответственности наблюдали за предпольем. Один раз Божек внезапно заметил, что на машине командира полка загорелся левый наружный бензобак. Он тотчас же сообщил об этом по радио командиру. Один из членов экипажа моментально через люк вылез наружу и сумел погасить огонь. После сражения экипаж танка сердечно поблагодарил Богуслава за спасение жизни, а командир 24-го полка заявил, что он представит Богуслава к боевой награде. И действительно, за участие в боях под Будишином Богуслав получил бронзовую медаль «Отличившимся на поле боя». Под Будишином исполнилась мечта Богуслава. Когда тяжело заболел радист одного из танковых экипажей, Богуслав был назначен на его место и стал обслуживать бортовую радиостанцию. В дальнейшем Богуславу пришлось еще пережить немало драматических моментов. Особенно тяжело ему было, когда после яростного сражения с немецкими танками они должны были броситься на помощь экипажу танка, который стоял, охваченный пламенем. К сожалению, помочь ему было уже нельзя. Много пришлось пережить и во время налетов вражеских бомбардировщиков. Атаки они совершали внезапно, и негде было укрыться. Четвертого мая 2-я армия Войска Польского получила новое боевое задание — наступать в направлении Праги. Преследование противника продолжалось до 11 мая. В этот день польские танки, с энтузиазмом приветствуемые населением Чехословакии, достигли северных предместий Праги. Военная одиссея Богуслава Божека подошла к концу. Опыт, полученный в годы войны, пригодился «сыну полка», когда он, как солдат Корпуса внутренней безопасности, принимал участие в борьбе за упрочение народной власти. А теперь, вот уже более пятнадцати лет, он работает в аппарате надзора за польским национальным достоянием.Примечания
1
Район Варшавы. — Прим. ред. (обратно)2
Район Варшавы на правом берегу Вислы. — Прим. ред. (обратно)3
Санационный — распространенное наименование фашистского режима, существовавшего в Польше в 1926–1936 гг. Стремясь предотвратить назревавший в стране революционный взрыв, сохранить буржуазно-помещичий строй и господство иностранного капитала, польские фашисты во главе с Пилсудским выдвинули демагогическое требование «санации» (от лат. — оздоровление) политической жизни страны, отстранили скомпрометировавшую себя правящую клику национал-демократов (эндеков) и кулацкой партии «Пяст» и в результате государственного переворота 12–13 мая 1926 года захватили власть. Антинародная, антисоветская санационная клика, вставшая на путь сговора с гитлеровскими агрессорами, привела к захвату Польши в 1939 году гитлеровской Германией. Остатки обанкротившейся санационной клики пошли в услужение к захватчикам и стали злейшими врагами польского народа. — Прим. ред. (обратно)4
Дефа (разг. от дефензива) — политическая полиция в буржуазной Польше. — Прим. ред. (обратно)5
Килиньский Ян (1760–1819) — один из видных участников польского освободительного движения 1794 года под руководством Тадеуша Костюшко. Мастер сапожного дела. Играл видную роль в подготовке и проведении восстания в Варшаве 17 апреля 1794 года, приведшего к изгнанию из Варшавы царских войск и реакционных польских властей. Был назначен Тадеушем Костюшко командиром полка варшавян-добровольцев. После подавления восстания находился в заключении в Петропавловской крепости, был освобожден в 1796 году вместе с Костюшко. — Прим. ред. (обратно)6
Захватив Польшу, гитлеровцы объявили часть польских территории (Познаньщина, Поморье, Верхняя Силеазя, Лодзь и др.) включенными в состав Германии. Большинство польского населения было изгнано на остальные земли Польши, превращенные в генерал-губернаторство, центр которого находился в Кракове. — Прим. ред. (обратно)7
Польская уголовная полиция, в период оккупации состоявшая на службе у гитлеровцев. Называлась так по цвету формы. — Прим. ред. (обратно)8
Этот батальон Гвардии Людовой был назван так в честь 4-го полка, принимавшего активное участие в польском освободительном восстании 1830–1831 годов. — Прим. ред. (обратно)9
Пясты — первая династия польских князей и королей, происходившая якобы от легендарного вождя племени полян Пяста. Первый исторически достоверный князь Польши Мешко I известен около 960–992 гг. К этому времени относят образование единого польского государства. Новая демократическая польская армия вместо прежней кокарды панской Польши с изображением орла династии Ягеллонов стала носить на четырехугольном головном уборе — конфедератке — орлицу Пястов без короны. — Прим. ред. (обратно)10
В ознаменование тысячелетия польского государства, основание которого относится к периоду правления князя Мешко I (960–992 гг.), принявшего христианство в 966 г., в Польше на средства, добровольно внесенные населением, было построено более 1000 школ. — Прим. ред. (обратно)11
Стась и Нель — герои повести Г. Сенкевича «В пустыне и пуще». — Прим. ред. (обратно)
(обратно)

Последние комментарии
6 минут 35 секунд назад
8 минут 35 секунд назад
17 минут 41 секунд назад
36 минут 35 секунд назад
1 час 17 минут назад
9 часов 46 минут назад