Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Михаил Иванович Давидов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Михаил Иванович Давидов ТАЙНЫ ГИБЕЛИ РОССИЙСКИХ ПОЭТОВ Пушкин, Лермонтов, Маяковский (документальные повести, статьи, исследования)
Серия «Антология пермской литературы» — лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства (номинация «Литература») за 2013 год



 Галина ЧУДИНОВА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТРАГИЧЕСКИХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ
Галина ЧУДИНОВА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТРАГИЧЕСКИХ ПРОТИВОСТОЯНИЙ
Недавно в пермском Союзе писателей довелось мне познакомиться с интереснейшим человеком — Михаилом Ивановичем Давидовым. Личному знакомству предшествовало чтение отрывков из его документальной повести «Лермонтов и Мартынов: трагическое противостояние», опубликованных в 12-м и 13-м выпусках альманаха «Литературная Пермь». При чтении меня поразила глубина подачи материала, найденные автором интереснейшие факты, увлекательность изложения, психологически достоверно воспроизведенные характеры Лермонтова и Мартынова. Под пером автора до мельчайших подробностей были воссозданы события трагического дня 15/27 июля 1841 года у подножья горы Машук. Гениальный русский поэт, проявив подлинно православное благородство, отказался от выстрела и, по существу, был хладнокровно убит Николаем Мартыновым, ощутившим в тот момент свою полную безопасность и безнаказанность. Но время расставило все по своим местам: память потомков навсегда осудила убийцу. Полный текст повести вошел в восьмой том «Антологии пермской литературы», посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.
Михаил Иванович Давидов родился 14 января 1954 года в селе Орда Пермского края в многодетной семье сельского учителя, где, кроме него, росло еще шестеро детей. Отец — Давидов Иван Игнатьевич — тридцать лет проработал завучем и учителем литературы Ординской средней школы, писал статьи и печатал свои стихи в местных газетах. Он сумел привить сыну прочную любовь к литературе, и Михаил с шестнадцати лет тоже стал писать стихи, а позже, в зрелом возрасте, увлекся изучением жизни и деятельности великих русских писателей и поэтов.
Окончив в 1971 году Ординскую среднюю школу, Михаил свою трудовую жизнь начал трактористом в колхозе «Правда», но в том же году трудолюбивый и талантливый юноша поступил в Пермский медицинский институт. Профессиональная его деятельность сложилась более чем успешно: закончив с отличием институт, он в 1977–1979 годах работал врачом-хирургом и урологом в ГКБ № 2 города Перми. Позже был начальником медицинской службы расширенного военно-строительного отряда на космодроме Байконур, где за успехи по службе был награжден почетным знаком «Строитель Байконура», благодарностями от командования космодрома, а в 2011-м — юбилейной золотой медалью им. Ю. А. Гагарина. Проработав несколько лет врачом урологом в Перми, Михаил Иванович защитил кандидатскую диссертацию и с 1984 года по настоящее время работает в Пермском государственном медицинском университете. Кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории, он является автором более 600 научно-медицинских работ по урологии и хирургии, пяти медицинских книг, имеет шесть патентов на изобретения.
М. И. Давидов — председатель Пермского краевого общества урологов, член Правления Российского общества урологов, член Европейской Ассоциации урологов, участник четырнадцати Международных конгрессов в Париже, Милане, Гаване, Стокгольме и других городах. В 2010 году он был включен в Энциклопедию известных людей России («Who is who в России»), а позже — в Энциклопедию «Отечественная медико-техническая наука».
Литература стала вторым его мощным увлечением после медицины. Ей в течение 40 лет Михаил Иванович отдавал все свое свободное время. Его интересовали трагические обстоятельства смерти Пушкина, Лермонтова, Маяковского, последние дни жизни Гоголя, Достоевского, Льва Толстого. Увлеченно работал он в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Ясной Поляны, собирая по крупицам уникальные факты, доселе не известные многим читателям. Захватывающе интересны сами названия многих работ М. И. Давидова: «Тайна смерти Гоголя», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина глазами современного хирурга», «Убийство или самоубийство?» (статья о гибели Маяковского), «Бунт души» (документальная повесть о Льве Толстом). Более 20 литературных его трудов были опубликованы в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Москва», «Наука и жизнь», в альманахе «Литературная Пермь» и в других изданиях.
Литературные исследования Михаила Ивановича привлекают своей достоверностью и фактографией, присущей подлинному ученому, и в то же время глубиной, занимательностью изложения, свойственной писателю. Его любознательности и работоспособности можно по-хорошему позавидовать. Летом 2014 года он вместе с друзьями совершил небезопасное путешествие в далекий таежный край к месту приземления космонавтов Беляева и Леонова. Вездеход путешественников завис на полуразрушенном мосту над ущельем, и им чудом удалось избежать гибели, зато читателей ожидает новая интереснейшая статья.
В последние годы литературная деятельность занимает все больше места в жизни и судьбе Михаила Ивановича Давидова, и этому нельзя не радоваться: правдивый и талантливый исследователь трагических противостояний актуален и востребован драматическим нашим временем.
СЕРДЕЧНАЯ И ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ РАНЫ ПУШКИНА Документальная повесть
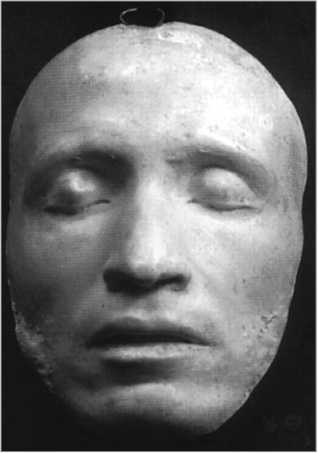 Посмертная маска А. С. Пушкина. Гипсовый слепок с лица поэта был сделан формовщиком П. Балиным под руководством лучшего мастера скульптурного портрета того времени С. И. Гальберга.
Посмертная маска А. С. Пушкина. Гипсовый слепок с лица поэта был сделан формовщиком П. Балиным под руководством лучшего мастера скульптурного портрета того времени С. И. Гальберга.
В 1999 году, когда отмечался 200-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина, все мы увидели, что вопросы жизни и творчества поэта вновь стали предметом обсуждения на страницах научно-популярных изданий, на собраниях, вечерах и других юбилейных мероприятиях в честь поэта, с размахом проводимых по всей стране. Мы ясно осознали, что гений Пушкина — классика нашей литературы — не угас в сердце русского народа. История его болезни и последних дней жизни — предмет оживленных споров литераторов, ученых, медиков, которые не умолкают до сих пор. К сожалению, ряд произведений последних лет искажают и очерняют облик великого русского народного поэта. В этом ряду «достойное» место занимает телефильм «Последняя дуэль». Он изобилует множеством исторических ошибок и хронологических искажений, а актер Сергей Безруков изобразил Пушкина в духе подлинной американской негритянской культуры.
 Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Худ. Н. П. Ульянов. 1937.
Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Худ. Н. П. Ульянов. 1937.
Вспомним, что незадолго до этого Безруков снялся в главной роли в многосерийном фильме «Есенин». Как известно, между А. С. Пушкиным и С. А. Есениным не было абсолютно никакого внешнего сходства. Но это не смутило режиссеров и актера. В этих двух фильмах о русских национальных поэтах мы видим не Пушкина и Есенина, а жалкую грустно-юмористическую пародию на них в облике талантливого и понимающего социальный заказ актера Безрукова, слегка загримированного под этих не похожих друг на друга литераторов, но играющего одного и того же современного праздношатающегося выпивоху и бездельника, в жизни не державшего писчего пера. С неослабевающим интересом ждем от Сергея новой подобной роли — скажем, 82-летнего старца Льва Толстого, гуляющего среди яблонь Ясной Поляны, в простой фланелевой рубахе, подпоясанной ремешком, с длинной приклеенной бородой, радостно подхватившего под ручку юную сочную грудастую артистку, загримированную под Софью Андреевну, родившую от него 16 детей. Более 30 лет изучая обстоятельства ранения А. С. Пушкина, побывав на месте дуэли поэта у Черной речки, ознакомившись с экспонатами и материалами музея-квартиры на набережной Мойки и Государственного музея А. С. Пушкина, изучив все публикации на эту тему и архивные материалы, проверив на трупах и компьютерных томограммах возможный ход раневого канала, мы уже выносили свои соображения на строгий суд читателя[1], и они были одобрены подавляющим большинством литературоведов-пушкинистов и ученых-медиков. Однако ряд хирургов и историков медицины, возмущенных грубым искажением облика Пушкина и исторической правды в некоторых современных произведениях, убедили меня вновь взяться за перо, чтобы восстановить истину и хронологически точно и правдиво изложить обстоятельства ранения Пушкина и историю его болезни.
* * *
Воскресим в памяти то, что предшествовало роковому поединку. Дуэль А. С. Пушкина с поручиком Дантесом произошла в результате коллективной травли поэта голландским посланником Геккерном и его окружением («золотой» молодежью Петербурга) с сочинением грязного пасквиля Пушкину — «диплома ордена рогоносцев». Косвенное значение в возникновении дуэли имели взаимное влечение жены поэта Натальи Николаевны и приемного сына Геккерна — красавца Жоржа Дантеса, а также невиданная, неземная красота Натальи Николаевны Пушкиной, которая ласкала «высочайший взор» и будила «высочайшие вожделения» императора Николая Павловича Романова. «Все зло в женщинах!» — упорно твердят некоторые мужчины. Действительно, мог ли предполагать А. С. Пушкин в феврале 1831 года, когда связывал себя узами брака с божественной юной Натальей Гончаровой, что этот союз уже через 6 лет полностью разорит его и приведет на смертное одро? Царь был наслышан о легендарной красоте Натальи Николаевны Гончаровой еще до ее замужества, когда той было всего 17 лет. Лето 1831 года молодожены Пушкины проводили в Царском Селе, и очаровательная русская красавица была представлена императрице, которая пришла в восхищение, увидев ее. Всерьез заинтересовался Натальей Николаевной и Николай I. Именно последнее обстоятельство послужило причиной того, что Пушкин вскоре был принят на государственную службу в министерство иностранных дел, а в декабре 1833 года ему было пожаловано обидное для него звание камер-юнкера («что довольно неприлично моим летам», — писал поэт). С этого момента Александр Сергеевич в сопровождении жены принужден был участвовать во всех балах, маскарадах и других увеселительных мероприятиях, проводимых при дворе. Никакой «дружбы» и особых доверительных отношений между А. С. Пушкиным и Николаем I, о чем утверждают авторы фильма «Последняя дуэль», не существовало и не могло существовать. Николай Романов стал чуть «мягче» по отношению к неугомонному «писаке-поэту», человеку «низкого происхождения», лишь потому, что имел определенные виды на его красавицу-жену. Он намеревался физически завладеть ею, превратив в одну из своих любовниц, а «рогатого» мужа обласкать чинами, званиями, деньгами. Николай Павлович слыл чрезвычайно любвеобильным мужчиной. Кроме жены, у него была постоянная фаворитка фрейлина В. А. Нелидова, которая открыто жила с монархом. Но ему этого было мало. Н. А. Добролюбов писал: «… не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушений на ее любовь со стороны или самого государя, или кого-нибудь из его августейшего семейства»[2]. Почти каждую неделю проходили балы в Аничковом дворце, где «государь… кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми». Для придворных красавиц было счастьем понравиться монарху и ответить ему взаимностью. По словам П. Е. Щеголева, «при дворе было много прелестных и красивых женщин, но и среди них жена поэта с ее блистательной красотой занимала одно из первых, если не первое место»[3]. Тонкий ценитель женской красоты А. И. Тургенев после приема в Зимнем дворце по случаю именин Николая Павловича отметил, что Н. Н. Пушкина была там, несомненно, первая по красоте и туалету. С 1834 года Николай Павлович начинает играть роль поклонника, кавалера и «рыцаря» Натальи Николаевны. «Двору хотелось, чтобы Н. Н. танцевала в Аничкове, и поэтому я пожалован в камер-юнкеры», — записал Пушкин в своем дневнике. Под словом «двор» он подразумевает Николая I. Современник Пушкина П. И. Бартенев пишет: «Сам Пушкин говорил Нащокину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою: нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены» [4]. Ухаживания монарха вызывали ревность у такой чрезвычайно чувствительной натуры, как А. С. Пушкин. «Не кокетничай с царем», «твои кокетственные отношения с соседом», — и другие подобные замечания в его письмах жене дошли до нашего времени. Пушкина тревожили и отношения его жены с приемным сыном голландского посланника бароном Жоржем Дантесом-Геккерном. Француз Жорж Дантес родился в Кольмаре 5 февраля 1812 года третьим ребенком в семье барона Жозефа-Конрада Дантеса, владельца крупного имения, депутата французского парламента. Жорж получил первоначальное образование в колледже, а затем окончил Бурбонский лицей в Париже. В 1829 году он принят в военную школу Сен-Сир, однако был вынужден вскоре покинуть ее, так как во время Июльской революции 1830 года находился в составе войск, защищавших Карла X. После изгнания короля и прихода новой власти Жорж решил уехать из Франции и искать счастья в другой стране. Его выбор пал на Россию, где Дантес имел родственников из знатного рода Мусиных-Пушкиных. Последние отнеслись к нему довольно холодно, как к бедному родственнику. Однако фортуна улыбнулась ему. В мастерской художника Брюллова Жоржа заметил сам император Николай Павлович, которому вначале понравилась красивая фигура молодого француза, а затем и его убеждения (Дантес оставался преданным сторонником Бурбонов). На военную службу Дантес попал по личному распоряжению монарха. Князь А. В. Трубецкой вспоминал, что «в 1834 году император Николай собрал однажды офицеров Кавалергардского полка и, подведя к ним за руку юношу, сказал: „Вот вам товарищ. Примите его в свою семью… Этот юноша считает за большую честь для себя служить в Кавалергардском полку; он постарается заслужить вашу любовь и, я уверен, оправдает вашу дружбу“. Это и был Дантес»[5]. Рекомендация императора обеспечила безвестному и небогатому французу весьма выгодное положение в придворном Петербурге. Его охотно принимали в своих домах влиятельные вельможи, он пользовался успехом в высшем свете. На службе поручик Дантес не проявлял большого усердия. По данным полкового архива, Дантес «оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером». Из полкового приказа от 19 ноября 1836 года явствует, что он «неоднократно подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе»[6]. За три года службы в полку поручик Дантес получил 44 взыскания! Тем не менее, его очень любили некоторые сослуживцы, ибо он имел беззаботный нрав и с радостью предавался различным весельям и кутежам. С 1834 года Дантес стал появляться в обществе с голландским посланником бароном Луи Геккерном, хитрым и искусным дипломатом, мастером всевозможных интриг, которого не очень любили в Петербурге. Геккерн не имел жены, у него никогда не было романов с женщинами, что казалось странным. Разница в возрасте между Дантесом и Геккерном была сравнительно небольшой (Луи Геккерн был 1792 года рождения). Поэтому многие были удивлены, когда в мае 1836 года Геккерн усыновил Дантеса. Последний отнюдь не был сиротой, а имел живого отца во Франции! Жорж Дантес принял имя, титул и герб барона Геккерна и стал наследником всего его имущества. Секрет этого усыновления объясняется гомосексуальной связью «отца» и «сына». Однополчанин и друг Дантеса князь А. В. Трубецкой впоследствии вспоминал о сослуживце: «За ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи, кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать: он ли жил с Геккерном или Геккерн жил с ним… В то время в высшем обществе было развито бугрство. Судя по тому, что Дантес постоянно ухаживал за дамами, надо полагать, что в сношениях с Геккерном он играл только пассивную роль»[7]. Молодой, красивый, высокий и стройный Жорж Дантес имел огромный успех у дам высшего света. «Он был очень красив, и постоянный успех в дамском обществе избаловал его: он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, нахальнее, наглее»[8], — вспоминал А. В. Трубецкой. Такую обворожительную красавицу, как Натали Пушкина, Дантес не мог не заметить. В феврале 1836 года на балу у ди-Бутера, посланника Сицилии, все гости обратили внимание на неумеренные ухаживания «модного кавалергарда» за женой поэта. Прошло некоторое время и Наталья Николаевна всерьез увлеклась красивым французом. Обоим в 1836 году было по 24 года, они были молоды, беспечны, и пьянящая радость жизни отуманивала их мозг. «Мне с ним весело, он мне просто нравится», — сообщила Натали в разговоре с Вяземской. Дантес открыто ухаживал за ней на балах, приезжал к Пушкиным, и Александр Сергеевич, возвращаясь домой, порою заставал их вдвоем за беседой; они через горничную Лизу обменивались любовными записками. По мнению П. Е. Щеголева, «Наталья Николаевна была увлечена серьезнее, чем Дантес… доминировал в любовном поединке Дантес: его искали больше, чем искал он сам»[9]. «Он смутил ее», — говорил Пушкин своим друзьям. Жорж Шарль Дантес. Худ. Бенар. Литография с портрета неизвестного художника. 1830-е гг.
Жорж Шарль Дантес. Худ. Бенар. Литография с портрета неизвестного художника. 1830-е гг.
 Портрет Н. Н. Пушкиной. Акварель А. П. Брюллова. 1831 г.
Портрет Н. Н. Пушкиной. Акварель А. П. Брюллова. 1831 г.
Современники отмечали, что Наталья Николаевна была «непроходимо глупа», «чрезвычайно красивая, но и чрезвычайно глупая», «набитая дура» и т. п. Прекрасно зная ревнивый и горячий характер мужа, она частенько дополнительно травмировала его, когда, возвращаясь с бала, начинала перечислять своих поклонников. Можно представить душевные муки Пушкина в последний год его жизни. Наталья Николаевна, которую он страстно любил, все более отдалялась от него. Он чувствовал, что теряет ее. Отношения Натальи Николаевны и Дантеса были на виду у всех, о них сплетничали, их обсуждали, над поэтом открыто и за глаза подсмеивались. 4 ноября 1836 года А. С. Пушкин получил по городской почте циничный пасквиль — патент на звание рогоносца в виде пародии на орденскую грамоту. Вот его содержание: «Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх». В тот же день несколько знакомых Пушкина передали ему полученные ими в двойных конвертах такие же дипломы на его имя. Авторы пасквиля намекали не только на отношения жены Пушкина с Дантесом, о чем знали практически все, но и на связь Николая I с Натальей Николаевной. По содержанию пасквиля Пушкин выбирался в коадъютеры, или помощники, к Д. Л. Нарышкину. Последний считался знаменитым рогоносцем, ибо его супруга Марья Антоновна была в долголетней связи с покойным императором Александром I. Этот скрытый намек на царя Пушкин понял сразу. Но кто же автор анонимного письма? Лицейский друг Пушкина М. Л. Яковлев, возглавлявший типографию императорской канцелярии и хорошо разбиравшийся в сортах бумаги, дал заключение, что «бумага иностранной выделки» и должна принадлежать какому-нибудь посольству. Опираясь на экспертизу М. Л. Яковлева, Пушкин сделал для себя вывод: оскорбительное письмо исходило из голландского посольства, а автор его — известный интриган и недруг Александра Сергеевича барон Луи Геккерн. Поэт умер с убежденностью в этом. Но, очевидно, вывод Пушкина был не совсем верен. Кроме Геккерна, подозрения падали на министра народного просвещения графа Уварова, жену министра иностранных дел графиню Нессельроде, князей Гагарина и Долгорукова. Двое последних являлись друзьями Луи Геккерна и, предполагают, были с ним в интимных отношениях. В Санкт-Петербурге репутация голландского посланника была незавидна, многие добропорядочные граждане избегали знакомства с ним. Барон Геккерн был окружен преимущественно молодыми аристократами, с которыми находился в отношениях «неестественной интимности». Среди них ему легко было найти физических исполнителей своих замыслов. В 1863 году в брошюре А. Аммосова «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина», которую автор писал со слов секунданта Пушкина К. К. Данзаса, уверенно утверждается, что автором пасквиля был князь Долгоруков, а писал он на бумаге князя Гагарина, у которого жил на квартире, и, очевидно, с его ведома. И Гагарин, и Долгоруков в 1863 году были еще живы и публично в печати категорически отвергли свое участие в написании пасквиля. Спустя 90 лет после смерти Пушкина, в 1927 году, судебный эксперт ленинградского уголовного розыска А. А. Сальков по инициативе П. Е. Щеголева произвел графическую экспертизу почерков автора двух сохранившихся экземпляров анонимного письма и подлинных писем всех подозреваемых лиц. Приводим вывод исследования: «…я, судебный эксперт, Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 году написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым». Вывод А. А. Салькова в дальнейшем подтвердили эксперты-криминалисты В. В. Томилин и М. Г. Любарский. Однако многие пушкиноведы, и в том числе П. Е. Щеголев, допускают, что Долгоруков являлся лишь физическим автором письма, замысел же его мог принадлежать Геккерну, с которым Долгоруков и Гагарин были в очень близких и, возможно, интимных отношениях.
* * *
Получив пасквиль, Пушкин немедленно (5 ноября) направил Дантесу письменный вызов на дуэль (вызывать на поединок царя было бы нелепо, а подозрение на Геккерна как автора пасквиля у Александра Сергеевича возникло позднее, после встречи с М. Л. Яковлевым). Своему секунданту Сологубу смертельно обиженный Пушкин дал наказ об условиях дуэли: «Чем кровавее, тем лучше». Вызов на дуэль вначале попал в руки Луи Геккерна, который, не скрыв от приемного сына самого факта вызова, не сообщил, однако, ему всего содержания резкого письма, а явился к Пушкину и попросил двухнедельной отсрочки для «сына» от поединка. Жуковский, Сологуб, Загряжская и другие друзья и родственники Пушкина приложили все силы для того, чтобы расстроить дуэль. Не хотели дуэли, естественно, и Геккерн с Дантесом. Они предприняли своеобразный ход: постарались уверить Александра Сергеевича, что посещения дома Пушкиных и записки Дантеса относились не к Наталье Николаевне, а к ее старшей сестре Екатерине Гончаровой, фрейлине царского двора, жившей в одной квартире с семьей поэта и действительно без памяти влюбленной в Жоржа Дантеса. Поверил ли в это Александр Сергеевич — неизвестно, но, под давлением своих друзей, вызов он взял обратно, не изменив, однако, своего отношения к отцу и сыну Геккернам. Обстановка в квартире Пушкиных на набережной Мойки перед свадьбой Екатерины Николаевны и Жоржа Дантеса была чрезвычайно сложной и драматичной. Семья и близкие раскололись на два враждебных лагеря. Екатерина была влюблена в Жоржа и не только защищала, но и боготворила его. Часть семейства Гончаровых были на стороне Екатерины и Жоржа. Наталья Николаевна испортила отношения со старшей сестрой, всячески отговаривая ее от брака. Ведь любимый ею человек становился мужем ее родной сестры. Между ними возникали ссоры. Екатерина упрекала младшую сестру в скрытой ревности: «Вся суть не в том, что ты не хочешь, ты боишься мне его уступить!» Пушкин ненавидел будущего мужа Екатерины, приготовления к свадьбе приводили его в неистовство. Временами у него возникали сильнейшие вспышки гнева. Жившая в квартире Пушкиных другая сестра Натальи Николаевны, Александра, девушка скромная, умная и одаренная, была целиком на стороне Александра Сергеевича и всячески поддерживала его. Она нежно заботилась о своих маленьких племянниках, помогала Пушкину материально. Уже после дуэли недруги Александра Сергеевича пустили сплетню, что Пушкин был с нею близок. Якобы Александра потеряла нательный крестик, который долго искали в квартире и затем случайно обнаружили в постели Александра Сергеевича. На самом деле физической близости между Пушкиным и Александрой Гончаровой никогда не существовало. Венчание Екатерины Николаевны и Жоржа Дантеса-Геккерна состоялось в Санкт-Петербурге 10 января 1837 года, Александр Сергеевич на нем не присутствовал, Наталья Николаевна по просьбе мужа уехала домой сразу после службы. После свадьбы молодые Геккерны (Жорж и Екатерина) жили в голландском посольстве; дом Пушкиных по настоянию Александра Сергеевича был для них закрыт. Вот настоящая драма! Лютые враги, отец и сын Геккерны, с одной стороны, и А. С. Пушкин, с другой, поневоле оказались близкими родственниками. На людях они церемонно кланялись, но родственных отношений не поддерживали. Однако в свете, на балах Жорж и жена Пушкина продолжали видеться, причем Дантес демонстративно восхищался Натальей Николаевной, не сводил с нее влюбленных глаз, находился постоянно рядом, в общем, играл на людях роль страстно влюбленного в нее человека. Но их свидания продолжились не только на балах, в свете, но и наедине. 25 января 1837 года Пушкин получил новое анонимное письмо. В нем сообщалось о только что состоявшемся тайном свидании Натали с Дантесом. Александр Сергеевич тотчас же показал письмо жене и решительно потребовал объяснений. Та призналась, что свидание с Жоржем действительно состоялось на квартире их общей знакомой Идалии Полетики в кавалергардских казармах. По версии Натали, встреча оказалась хитростью Дантеса, который якобы заманил ее на квартиру и пытался овладеть ею под угрозой самоубийства, но она твердо заявила, что «останется навек глуха к его мольбам». Известно, что во время свидания Дантес поднес пистолет к виску и заявил, что «застрелится, если Натали ему сейчас же не отдастся». После такого признания жены, Александр Сергеевич в ночь с 25 на 26 января написал предельно резкое письмо Геккерну-отцу, называя его «сводником» и сравнивая с «развратной старухой». Заключенный с Екатериной Николаевной брак Пушкин назвал «делом змеиной хитрости двух негодяев, связанных пороком». Пушкин наивно верил красавице-жене. Он вновь и вновь убеждал себя, что она, несмотря на пылавшую в ней страсть к Жоржу, невиновна и не смогла переступить грань дозволенного. А может быть не успела? Александр Сергеевич очевидно считал, что Геккерн намеренно подталкивал Дантеса ухаживать за Натали Пушкиной — самой обворожительной и яркой красавицей столицы. Весь город должен был видеть их роман. Нужно было показать, что фактический бисексуал Дантес — самый обычный мужчина-гетеросексуал; нужно было отвести подозрения высшего света, что Геккерн и Дантес находятся в гомосексуальной связи. После гневного и оскорбительного письма Пушкина дуэль стала неизбежной. Утром 26 января письмо было отправлено Геккернам, а уже вечером к Пушкину явился атташе французского посольства виконт Д’Аршиак с вызовом на поединок от Жоржа Дантеса. Пушкин принял вызов. По дуэльным обычаям, ввиду тяжести оскорбления, поединок должен был состояться «в кратчайший срок», и он действительно произошел уже на следующий день.* * *
Рассуждая о причинах последней дуэли Пушкина, необходимо также отметить одно обстоятельство, которое прежде тщательно обходили почти все авторы. Благодаря своей ранимости и высокой эмоциональности, А. С. Пушкин неумолимо шел к своей преждевременной кончине в результате дуэли. Александр Сергеевич был инициатором 15 дуэлей, из которых состоялись 4, а остальные закончились примирением сторон, преимущественно под влиянием друзей Пушкина. Поэт имел репутацию опытного и чрезвычайно опасного дуэлянта. Он отлично стрелял из пистолета и в течение всей жизни регулярно тренировался в стрельбе; для укрепления мышц руки постоянно носил тяжелую трость и применял специальные упражнения. Александр Сергеевич дрался на дуэли 4 раза! Причиной первой дуэли была острая эпиграмма юного Пушкина на его лицейского товарища Вильгельма Кюхельбекера. Во время поединка первым выстрелил Кюхельбекер и промахнулся настолько, что попал в фуражку Антона Дельвига, который, стоя в стороне, исполнял роль секунданта. Александр рассмеялся, отказался от своего выстрела и больше не ссорился с «Кюхлей», более того, они стали затем друзьями на всю жизнь. Вторая дуэль, вызванная ссорой за карточным столом, состоялась в 1821 году близ Кишинева. Пушкин стрелялся с офицером Зубовым, который также стрелял первым и промахнулся. Во время этой дуэли Пушкин проявил большую храбрость. Он принес на поединок черешню и, пока в него целились, выбирал спелые ягоды и выплевывал косточки. После неудачного выстрела противника Пушкин стрелять отказался. В 1822 году он дрался на дуэли с командиром 33-го егерского полка полковником С. Н. Старовым. Поединок с Дантесом был четвертым в жизни Пушкина. Но вспомним, что в ноябре 1836 года усилиями друзей была расстроена дуэль с тем же Дантесом, а незадолго до этого Пушкин посылал вызов за неловкую реплику в разговоре с Натальей Николаевной своему царскосельскому знакомому графу Сологубу. И ту дуэль также удалось расстроить. Везение не могло продолжаться бесконечно. Пушкин неумолимо приближался к своей гибели на одной из очередных дуэлей. Символично, что еще в ранней молодости гадалка, распознав взрывной характер Александра, предсказала ему гибель от руки белокурого человека. Важен вопрос о здоровье А. С. Пушкина перед поединком. Александр Сергеевич к моменту своего ранения на дуэли был в возрасте 37 лет, имел средний рост (около 167 см), правильное телосложение без признаков полноты. В детстве он болел простудными заболеваниями и имел легкие ушибы мягких тканей. В 1818 году в течение 6 недель Александр Пушкин перенес тяжелое инфекционное заболевание с длительной лихорадкой, которое лечащими врачами было названо «гнилой горячкой». В течение последующих двух лет появлялись рецидивы лихорадки, которые полностью прекратились после лечения хиной, что дает основание предполагать, что юный Пушкин переболел малярией[10]. А. С. Пушкин с 17-летнего возраста имел незначительно выраженное варикозное расширение подкожных вен нижних конечностей, подтвержденное документально медицинским заключением. Однако оперироваться он не хотел, да и показаний к операции не было ввиду скудности анатомических и функциональных изменений в нижних конечностях; в течение всей жизни Пушкин много и неутомимо ходил без жалоб на боли в ногах. Пушкин вел здоровый образ жизни. Помимо длительных пеших прогулок, он много ездил верхом, с успехом занимался фехтованием, плавал, для закаливания применял ванны со льдом. Можно заключить, что к моменту дуэли Пушкин был физически крепок и практически здоров.* * *
И вот пришел этот трагический день — среда, 27 января 1837 года (8 февраля по новому стилю). Несмотря на предстоящий смертельный поединок, Александр Сергеевич не изменил себе и провел утро за литературной работой. В последний раз он сидел за своим письменным столом и сосредоточенно писал, опуская гусиное перо в чернильницу с бронзовой статуэткой негра. Он изучал источники о Петре I, упорно работая над задуманной «Историей Петра Великого». Писательницу А. О. Ишимову он просил перевести для своего любимого детища — журнала «Современник» — две пьесы Барри Корнуолла: «…переведите их как умеете — уверяю вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу Историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!» Это было последнее письмо А. С. Пушкина. Сохранилась хронологическая запись друга Пушкина поэта В. А. Жуковского о последнем дне Александра Сергеевича перед дуэлью: «Встал весело в 8 часов — после чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед. — Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни — потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. — Вошли в кабинет, запер дверь. — Через несколько минут послал за пистолетами. — По отъезде Данзаса начал одеваться; вымылся весь, все чистое; велел подать бекешь; вышел на лестницу, — возвратился, — велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извощика. — Это было ровно в 1 ч». Дуэль готовилась в тайне от семьи и друзей. О ней знал лишь очень узкий круг лиц. Пушкин, во-первых, опасался, что при разглашении тайны поединку могут помешать его близкие друзья, а он жаждал удовлетворения, и, во-вторых, дуэли в России были запрещены указом Петра I от 14 января 1702 года. По закону все участники поединка, включая секундантов и даже врачей, подлежали суровому наказанию. Пушкин вначале намеревался взять в секунданты иностранного подданного — служащего английского посольства Мегенса, но тот отказался, и уже в день дуэли, 27 января, Александр Сергеевич обратился к своему однокашнику по Лицею подполковнику Константину Карловичу Данзасу. Данзас был заслуженным офицером, отмеченным наградами, имевшим боевые ранения (он носил руку на перевязи после тяжелого ранения плеча в Турецкую кампанию). Пушкин справедливо полагал, что за участие в дуэли Данзас не будет наказан строго. Действительно, после дуэли по решению военно-судной комиссии Данзас после 2-месячного пребывания на гауптвахте был полностью реабилитирован. Поскольку мы затронули этот вопрос, уместно будет, забегая вперед, остановиться на наказаниях, примененных к другим участникам дуэли. Секундантом Дантеса был атташе французского посольства виконт Д’Аршиак. Сразу после дуэли он был срочно отправлен своим послом из России в Париж, якобы с депешей, и таким путем счастливо избежал ареста и суда. Поручик Дантес после дуэли был арестован, содержался в Петропавловской крепости и по решению военного суда «за вызов на дуэль и убийство на оной камер-юнкера Пушкина» был лишен чинов и разжалован в рядовые. Однако Николай I, как мог, смягчил приговор и выслал Геккерна-младшего из России, что было исполнено 19 марта 1837 года. Барон Геккерн-Дантес сделал во Франции неплохую карьеру, став в дальнейшем сенатором, мэром Сульца, кавалером ордена Почетного легиона. Он прожил очень долго, умерев в возрасте 83 лет. Однако воспоминания молодости и содеянное убийство всю жизнь не давали ему покоя. Одно лишь упоминание имени Пушкина вызывало на его лице судорогу. Старый зеленый мундир с красным воротником, правый рукав которого был изодран и хранил следы запекшейся крови, напоминал ему о трагическом происшествии молодости и невольно совершенном жутком злодеянии. «Убийца Пушкина» — так иногда называли во французской печати его, известного в стране человека, сенатора, и эти слова жгли, терзали его. Волею судьбы уже в немолодом возрасте на одной из улочек Парижа он случайно встретился с Натальей Николаевной Пушкиной-Ланской, вторично вышедшей замуж. Они сразу узнали друг друга и оба пришли в неописуемое замешательство, но быстро овладели собой и прошли мимо, не проронив ни слова. Не подлежит сомнению, что если бы Пушкин остался жив, его бы наказали суровее всех других участников поединка. Существует версия, что Александр Сергеевич втайне надеялся на то, что после дуэли, в случае благоприятного исхода, он будет вновь отправлен в ссылку в Михайловское, уедет туда вместе с женой и детьми, уединится и, избавившись от этого содома столичной жизни, полной праздной суеты, шума и ненавистных взглядов вельмож, целиком отдастся литературной работе. Дело на Александра Сергеевича Пушкина действительно завели, и в решении военно-судной комиссии сказано: «Преступный поступок камер-юнкера Пушкина, подлежащего равному с Геккерном наказанию… по случаю его смерти предать забвению»[11]. Есть еще один наказанный человек, хотя и не участвовавший в поединке, но возможно, самый главный виновник разыгравшейся драмы. Интриган Геккерн-отец после дуэли оказался в немилости у царя, узнавшего о содержании пасквиля и возмущенного тем, как может какой-то инородец бросать тень на великого монарха, имеющего право на любую женщину своей обширной империи. И вскоре голландский посланник был отозван из России. Следует заметить, что секундант Пушкина Данзас никогда не был другом Александра Сергеевича и даже внутренне был чужд ему Он не пытался ни расстроить поединок, как это сделали, к примеру, в ноябре 1836 года Жуковский и другие друзья поэта, ни смягчить его условия. Вместе с секундантом противника Д’Аршиаком он пунктуально занялся организацией дуэли a outrance, то есть до смертельного исхода. То, что Данзас не расстроил дуэль и не сохранил таким образом жизнь великому поэту России, ему не могли простить до последних своих дней товарищи по лицею. Ссыльный декабрист Иван Пущин негодовал: «Если бы я был на месте Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь…»* * *
Дуэль была намечена за чертой Санкт-Петербурга, на Черной речке, вблизи комендантской дачи. Пушкин перед дуэлью выпил лишь стакан лимонада, поджидая своего секунданта Данзаса за столиком у окна в кондитерской Вольфа и Беранже, расположенной на Невском проспекте. Данзас взял извозчика и с пистолетами заехал за Пушкиным. На санях они отправились к месту дуэли. На Дворцовой набережной им повстречался экипаж Натальи Николаевны. Данзас подумал, что дуэль может расстроиться, однако жена Пушкина была близорука, а Александр Сергеевич отвернулся и смотрел в другую сторону. Чтобы сократить расстояние, Данзас отдал распоряжение извозчику, не доезжая до Троицкого моста, свернуть на скованную льдом Неву и по зимней дороге ехать через Петропавловскую крепость. Александр Сергеевич пошутил: «Не в крепость ли ты везешь меня?» Данзас ответил, что через крепость на Черную речку самая близкая дорога. Неизвестно, каким путем ехали Дантес со своим секундантом Д’Аршиаком, но к комендантской даче все участники дуэли подъехали в одно время. Секунданты вышли из саней и отправились вперед для осмотра местности. Площадку для дуэли они выбрали в полутораста саженях от комендантской дачи, в небольшой березовой роще, которая частично сохранилась до сегодняшних дней. Погода в тот день была ясная, морозная (-15 °C), дул довольно сильный ветер. Солнце клонилось к закату, красными, кровавыми красками обагряя притихшую, нетронутую снежную целину. А снега в ту зиму выпало так много, что секунданты утопали по колено в нем, вытаптывая тропинку для дуэлянтов. Глубокий снег не позволил отмерить широкие шаги, и это усугубило условия поединка, уменьшив расстояние между противниками. Закутавшись в медвежью шубу, Александр Сергеевич сидел на снегу и отрешенно взирал на приготовления. Что было в его душе, одному богу известно. Временами он обнаруживал нетерпение, обращаясь к своему секунданту: «Все ли, наконец, кончено?» Его соперник поручик Дантес, высокий, атлетически сложенный мужчина, прекрасный стрелок, был внешне спокоен. Психологическое состояние противников было разным: Пушкин нервничал, торопился со всем скорее покончить, Дантес был собраннее, хладнокровнее. Черная речка. Место дуэли А. С. Пушкина. Современная фотография.
Черная речка. Место дуэли А. С. Пушкина. Современная фотография.
Условия поединка носили суровый, беспощадный характер: «1. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам. 2. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять. 3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того чтобы выстреливший первым, огню своего противника подвергся на том же самом расстоянии. 4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то, в случае безрезультатности, поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила…» Таким образом, исходя из условий дуэли, только смерть или тяжелое ранение одного из противников прекращали поединок. Использовались гладкоствольные, крупнокалиберные дуэльные пистолеты системы Лепажа, с круглой свинцовой пулей диаметром 1,2 см и массой 17,6 грамма. Сохранились и экспонируются в музеях[12] запасная пуля, взятая из жилетного кармана раненого Пушкина, и пистолеты, на которых стрелялись Пушкин с Дантесом. Это оружие характеризовалось кучным, точным боем, и с расстояния 10 шагов (около 6,5 м) таким отличным стрелкам, как Пушкин и Дантес, промахнуться было практически невозможно. Большое значение имел выбор тактики ведения боя, в частности, учитывая характер оружия, небольшое расстояние между дуэлянтами и превосходную стрелковую подготовку обоих, явное преимущество получал противник, выстреливший первым. Дантесу, вероятно, была известна манера ведения боя Пушкиным, который в предыдущих дуэлях никогда не стрелял первым.
…Шел 5-й час вечера. Секунданты шинелями обозначили барьеры, зарядили пистолеты и отвели противников на исходные позиции. Там им было вручено оружие. Смертельная встреча двух непримиримых противников началась. По сигналу Данзаса, который прочертил шляпой, зажатой в руке, полукруг в воздухе, соперники начали сближаться. Пушкин стремительно вышел к барьеру и, несколько повернувшись туловищем, начал целиться в сердце Дантеса. Однако попасть в движущуюся мишень сложнее, и, очевидно, Пушкин ждал окончания подхода соперника к барьеру, чтобы затем сразу сделать выстрел. Хладнокровный Дантес неожиданно выстрелил с ходу, не дойдя одного шага до барьера, то есть с расстояния 11 шагов (около 7 метров). Целиться в стоявшего на месте Пушкина ему было удобно. К тому же, Александр Сергеевич еще не закончил классический полуоборот, принятый при дуэлях с целью уменьшения площади прицела для противника, его рука с пистолетом была вытянутавперед, и поэтому правый бок и низ живота были совершенно не защищены. Подобная позиция тела Пушкина обусловила своеобразный ход раневого канала, который будет рассмотрен ниже. Яркая вспышка огня ослепила поэта. Пушкин почувствовал сильный удар в бок и ощущение чего-то горячо стрельнувшего в поясницу. Ноги у него подкосились, и он упал на левый бок лицом в снег, лишь секундально, на короткое мгновение, потеряв сознание и быстро придя в себя. Многоголосое гулкое эхо выстрела, внезапно нарушившего пронзительную тишину укутанного снегом, дремавшего зимнего леса, звучало в ушах.
 Последняя дуэль Пушкина. Худ. А. А. Наумов. 1884 г.
Последняя дуэль Пушкина. Худ. А. А. Наумов. 1884 г.
Секунданты бросились к нему, но, когда Дантес намеревался сделать то же самое, Пушкин крикнул по-французски: «Подождите, у меня еще достаточно силы, чтобы сделать свой выстрел!» Дантес остановился у барьера и принял классическую защитную позу дуэлянта: корпус вполоборота, прикрытие груди и области сердца правой рукой с зажатым в ней массивным дуэльным пистолетом. Это спасло ему жизнь. Раненый Пушкин нашел в себе силы приподняться, сесть и потребовал заменить пистолет, так как при падении дуло забилось снегом. Опершись левой рукой, он, страдая и превозмогая физическую боль, долго прицеливался, бледный, вероятно, с затуманенным взором. Ярко-красное пятно медленно расплывалось по его одежде, кровь просачивалась сквозь ткань и алой тонкой струйкой стекала на снег. Пушкин спустил курок и, увидев падающего Дантеса, воскликнул: «Браво!» — и вновь потерял сознание, сейчас уже на несколько минут, упав на шинель, обозначавшую барьер. Пуля, летевшая от сидящего Пушкина к высокорослому, стоявшему правым боком вперед, Дантесу, по траектории снизу вверх, должна была попасть французу в область левой доли печени или сердце, однако пронзила ему правую руку, которой тот прикрывал грудь, причинив сквозное пулевое ранение средней трети правого предплечья, изменила направление и, вызвав лишь контузию верхней части передней брюшной стенки, ушла в воздух. Рана Дантеса, таким образом, оказалась нетяжелой, без повреждения костей и крупных кровеносных сосудов, и в дальнейшем быстро зажила. Нельзя не упомянуть и о том, что в донесениях о дуэли ряда иностранных послов, в частности, германского посланника Либермана и саксонского — Карла Лютцероде, утверждается, что пуля, прострелив руку, попала затем в металлическую пуговицу кавалергардского мундира Дантеса[13]. Так ли это было на самом деле, нам судить трудно, но прислушаться к мнению современников поэта мы должны. В связи с вышеизложенным, зная непорядочность Геккернов, можно ли допустить, что вместо пуговицы был какой-то иной, защищающий тело, предмет? По кодексу дуэльных поединков, стреляющиеся на пистолетах не имели права надевать крахмальное белье, верхнее платье их не должно было состоять из плотных тканей, полагалось снимать с себя медали, медальоны, пояса, помочи, вынуть из карманов кошельки, ключи, бумажники и вообще все, что могло задержать пулю. Свой вопрос оставим открытым. Для нас, потомков, сохранилось официальное донесение о дуэли А. С. Пушкина: «№ 117. Полициею узнано, что вчера в 5 часу пополудни, за чертою города позади комендантской дачи, происходила дуэль между камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком Кавалергардского ее величества полка Геккерном, первый из них ранен пулею в нижнюю часть брюха, а последний в правую руку навылет и получил контузию в брюхо. Г-н Пушкин при всех пособиях, оказываемых ему его превосходительством г-м лейб-медиком Арендтом, находится в опасности жизни. О чем вашему превосходительству имею честь донесть. 28 генваря 1837-го года. Старший врач полиции Иоделич». Этот исторический документ о великом национальном поэте — гордости россиян — был случайно найден между донесениями о локусах супругов кошкой и об отравлении содержательницы публичного дома.
 Дуэль. Худ. А. А. Наумов. 1885 г.
Дуэль. Худ. А. А. Наумов. 1885 г.
* * *
А. С. Пушкин получил ранение незадолго до 17 часов 27 января, после чего он жил еще около 46 часов. Для Александра Сергеевича это были мучительные часы тяжелых физических и душевных страданий. Но он вел себя очень мужественно. Несмотря на сильные боли, он старался подавить в себе стоны, не кричать, чтобы не беспокоить супругу, родных, друзей. Сразу вспоминается Безруков-«Пушкин», от дикого крика которого при съемках фильма дрожали стены и вибрировали барабанные перепонки кинооператора. Пушкин жалел и защищал жену, беспокоился за судьбу Данзаса и просил лейб-медика Арендта заступиться за своего секунданта перед царем; благородно отнесся даже к врагу — Дантесу, убеждая друзей не мстить ему. Проследим поэтапно за клиническим течением болезни и оказываемой помощью. На месте дуэли из раны Пушкина изобильно лилась кровь, пропитавшая его одежду, шинель под ним и окрасившая снег. Секунданты пассивно наблюдали за раненым, отмечая бледность лица, кистей рук, «расширенный взгляд» (расширение зрачков). Через несколько минут раненый сам пришел в сознание. Врача на дуэль не приглашали, первая помощь поэту не была оказана, перевязка не сделана. Это серьезная ошибка секунданта. На допросе в военно-судной комиссии Данзас признался, что был приглашен в секунданты за несколько часов до дуэли и из-за недостатка времени не имел возможности подумать о первой помощи для Пушкина[14]. Сам же Александр Сергеевич, охваченный желанием отомстить обидчику, о себе не заботился. Придя в сознание, передвигаться самостоятельно он не мог (шок, массивная кровопотеря). Носилок и щита не было. Больного с поврежденным тазом вначале волоком «тащили» к саням(!), затем уложили на шинель и понесли. Однако это оказалось им не под силу. Вместе с извозчиками секунданты разобрали забор из жердей и подогнали сани. На всем пути от места дуэли до саней на снегу остался кровавый след. Раненого поэта посадили в сани и повезли по тряской, ухабистой дороге. Подобная транспортировка усугубляла проявления шока. Лишь через полверсты повстречали карету, подготовленную для Дантеса, и, не сказав Пушкину о ее предназначении, перенесли в нее раненого. Опять недопустимая небрежность Данзаса: для соперника карета была приготовлена, а о великом российском поэте не подумали. Несомненно, на дуэли и в ближайшие часы после нее у Александра Сергеевича была массивная кровопотеря (как наружная, так и внутренняя). Объем ее, по расчетам Ш. И. Удермана[15], с которым согласен Б. В. Петровский[16], составил около 2000 мл, или 40 % объема циркулирующей крови (ОЦК). Определить степень анемии, осуществить переливание крови и, даже элементарную сегодня, внутривенную инфузию растворов при тогдашнем уровне развития медицинской науки было невозможно, ибо эти методы к 1837 году еще не были разработаны. Поэтапная кровопотеря в 40 % ОЦК сегодня не считается смертельной. Но в наши дни кровопотеря восполняется, полностью или частично, гемотрансфузией. Невозможно представить степень анемии у Пушкина, которому не перелили ни грамма крови! Несомненно, кровопотеря резко снизила адаптационно-приспособительные реакции организма и значительно ускорила летальный исход от развившихся в дальнейшем септических осложнений огнестрельной раны. Истекавшего кровью, находившегося в состоянии тяжелого шока, получившего сильное охлаждение тела Александра Сергеевича Пушкина в течение часа везли в полусидячем положении 7,5 верст от места дуэли на Черной речке до его квартиры на набережной Мойки. Он сильно страдал от болей в области таза, жаловался на тошноту. Временами раненый терял сознание, и карету приходилось останавливать. Таких остановок в пути было несколько. Очевидно, в эти минуты падало артериальное давление. Врачебную помощь в пути оказать было невозможно. Уже в темноте, в 18 часов, смертельно раненного поэта привезли домой. Это была очередная ошибка Данзаса. Человека, находившегося временами в полубессознательном состоянии и, возможно, просившего доставить его домой, тем не менее нужно было госпитализировать. Камердинер Никита на руках перенес раненого в его кабинет на первом этаже. Здесь ему помогли переодеться в чистое и уложили на диван. Б. В. Петровский[17] справедливо отмечает, что кровать была бы гораздо удобнее для лечения. Данзасу, доставившему раненого не в лечебное учреждение, пришлось в поисках хирурга метаться по вечернему Санкт-Петербургу. Он посетил уже 3 квартиры, не застав хозяев дома, и случайно на улице встретил В. Б. Шольца, который был не хирургом, а акушером. Тот согласился осмотреть раненого и вскоре приехал вместе с хирургом — главным врачом придворного конюшенного госпиталя К. К. Задлером, который к тому времени уже перевязал рану Дантеса. И вновь парадокс: легко раненному сопернику Пушкина помощь была оказана значительно раньше, чем находившемуся в тяжелом состоянии поэту. Перевязку раны у Пушкина приехавшие врачи произвели около 19 часов. При этом Задлер уезжал за инструментами и, вернувшись, вероятно, зондировал рану неглубоко от кожи (документальных доказательств зондирования нет). В 19 часов состояние раненого было тяжелым. Он был возбужден, жаловался на жажду (признак продолжающегося кровотечения), тошноту. Боль в ране умеренная. Кожные покровы бледные, пульс частый, слабого наполнения, конечности холодные. Повязка быстро пропитывалась кровью. В 19 часов приехали хирург с мировым именем — лейб-медик Н. Ф. Арендт, имевший опыт лечения раненых в 30 боевых сражениях, и домашний доктор Пушкиных профессор И. Т. Спасский. В дальнейшем в лечении раненого принимали участие многие врачи (X. X. Саломон, И. В. Буяльский, Е. И. Андреевский, В. И. Даль), однако негласно руководил именно Н. Ф. Арендт как наиболее авторитетный среди них. К лечению Пушкина были привлечены лучшие специалисты Санкт-Петербурга, большинство из них были докторами медицины, профессорами с большим практическим опытом. В то же время большое число врачей и ухаживающих затрудняло лечение. Были колебания и сомнения в назначении конкретных лечебных средств. В первый вечер в действиях докторов проявлялась некоторая растерянность. Скорбный лист (история болезни) так и не был заведен, назначения врачей и дозы лекарств нигде не фиксировались. Возможно, наш суд очень строг, но ведь речь идет о гении русского народа, и его смертельная болезнь требует именно такого подхода. Н. Ф. Арендт, осмотрев рану, не стал скрывать от Пушкина, что она смертельна. Об этом чуть раньше сообщил Александру Сергеевичу и Шольц. Их действия, с точки зрения существовавших тогда порядков, вполне законные, не противоречащие и нынешнему законодательству, не были одобрены ни подавляющим большинством врачей-современников, ни всеми последующими поколениями русских врачей, ибо противоречат веками выработанному принципу гуманности: не сообщать неизлечимому больному правду. Не случайно А. С. Пушкин, очень чувствительный, ранимый человек, услышав о неминуемой смерти, в свои неполные два дня испытывал мучительную тоску и был крайне подавлен, неоднократно спрашивая у дежуривших: «Скоро ли конец?» Что касается распоряжений, которые бы радикально изменили тяжелое материальное положение его семьи (долг в 139 тыс. рублей), то Пушкин был просто не в состоянии их сделать. Император Николай Павлович, значительно помогший материально семье поэта после его смерти, сделал бы это независимо от того, знал ли бы Пушкин о своем близком конце или нет. Арендт выбрал консервативную тактику ведения больного, которая была одобрена известными хирургами X. X. Саломоном, И. В. Буяльским и всеми без исключения врачами, принимавшими участие в лечении. Для уровня развития медицины того времени это решение было вполне естественным. В 30-х годах XIX века раненных в живот не оперировали. Науке еще не были известны асептика и антисептика, наркоз, лучи Рентгена, антибиотики и многое другое. Тактика лечения А. С. Пушкина и большинство врачебных назначений были сурово осуждены В. А. Шаак[18], С. С. Юдиным[19], серьезные замечания сделаны некоторыми другими хирургами[20]. Это несправедливо, потому что такое примитивное лечение соответствовало состоянию медицины того времени. В первый вечер после ранения и в ночь на 28 января все лечение заключалось в холодном питье и в прикладывании примочек со льдом к животу. Этими простейшими средствами доктора пытались уменьшить кровотечение. Состояние больного оставалось тяжелым. Сознание было преимущественно ясное, но возникали кратковременные периоды «забытья», беспамятства. Охотно пил холодную воду. Жалобы на жажду, тошноту, постепенно усиливающуюся боль в животе. Кожные покровы оставались бледными, но пульс стал реже, чем в первые часы после ранения. Постепенно повязка перестала промокать кровью. В начале ночи утвердились во мнении, что кровотечение прекратилось. Напряжение врачей и ухаживающих несколько ослабло. Наступила глубокая ночь. Александр Сергеевич никак не мог уснуть, но лежал тихо. Уже зная свою судьбу, он решил свести счеты с жизнью, чтобы не мучиться больше самому и не беспокоить напрасно других. В 3 часа ночи Александр Сергеевич тихо подозвал находящегося в кабинете и бодрствовавшего слугу и велел подать один из ящиков письменного стола, где лежали пистолеты. Слуга не решился ослушаться, но тотчас по исполнении просьбы разбудил Данзаса, дремавшего у окна в вольтеровском кресле. Данзас подскочил к Александру Сергеевичу и решительно отобрал пистолеты, которые Пушкин уже успел спрятать под одеяло. Возникают вопросы: где в этот момент был оставшийся дежурить на ночь Спасский, почему Данзас заснул и вообще как раненый, едва не покончивший с собой, оказался без присмотра? В течение всей ночи постепенно нарастали боли в животе, началось его вздутие. Уснуть больной так и не смог, временами он стонал и тихо, стараясь сдерживать себя, вскрикивал от боли. Дежуривший у Пушкина Спасский был расстроен и угнетен до чрезвычайности. Он настолько растерялся, что не решился назначить больному опий, хотя являлся автором крупных научных работ по изучению этого препарата, хорошо знал его действие. В 5 часов утра 28 января боль в животе усилилась настолько, что терпеть ее было уже невмоготу Послали за Арендтом, который очень быстро приехал и при осмотре больного нашел явные признаки перитонита. Арендт назначил, как было принято в то время при этом заболевании[21], «промывательное», чтобы «облегчить и опростать кишки». Но врачи не предполагали, что раненый имеет огнестрельные переломы подвздошной и крестцовой костей. Поворот на бок для выполнения клизмы вызвал, вполне естественно, некоторое смещение костных отломков, а введенная через трубку жидкость наполняла и расширяла прямую кишку, увеличивая давление в малом тазе и раздражая поврежденные и воспаленные ткани. После клизмы состояние ухудшилось, интенсивность боли возросла «до высочайшей степени». Лицо изменилось, взор сделался «дик», глаза готовы были выскочить из орбит, тело покрылось холодным потом. Пушкин с трудом сдерживался, чтобы не закричать, и только испускал стоны. Он был так раздражен, что после клизмы в течение всего утра отказывался от любых предлагаемых лечебных пособий. Александр Сергеевич чувствовал себя настолько плохо, что решил попрощаться со всеми. Он попросил к себе жену, детей и свояченицу Александру Николаевну. Наталья Николаевна с воплем горести бросилась к страдающему мужу. На глазах у присутствующих появились слезы. Малышек полусонных, в одеялах, приносили к нему. Александр Сергеевич не мог говорить и прощался только взглядом и движением руки. Он молча по одному благословлял детей и движением руки отсылал от себя. Затем он также поочередно стал прощаться с друзьями — Жуковским, Тургеневым, Вяземским, Карамзиной, Виельгорским. Выглядел Александр Сергеевич очень плохо. Кожа была бледна «как полотно», руки холодные, пульс едва прощупывался. Говорил он редко, едва слышно. «Смерть идет», — тихо, с особым выражением сказал он Спасскому. Днем 28 января весть о ранении горячо любимого народом поэта быстро разнеслась по столице. С раннего утра встревоженные горестною вестью люди начали стекаться на набережную Мойки, к дому поэта. Передняя и зала в квартире в течение всей болезни Александра Сергеевича постоянно были заполнены знакомыми Пушкину и совершенно незнакомыми людьми. Они были искренне взволнованы ранением поэта и беспрестанно спрашивали у докторов и ухаживающих о ходе болезни. Несмотря на мороз и сильный пронизывающий ветер, густая масса людей загораживала на большом расстоянии все пространство на улице перед домом Пушкина, к крыльцу было невозможно протиснуться. Особенно много было молодежи и студентов. Друзья Пушкина даже были вынуждены обратиться в Преображенский полк, и у крыльца для установления порядка поставили часовых. Какой-то старичок говорил с удивлением: «Господи, боже мой! Я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!» В вестибюле стали вывешивать сочиненные Жуковским бюллетени о состоянии здоровья поэта. Пушкин беспрестанно спрашивал, кто из друзей и знакомых у него в доме. Но впустить всех знакомых в кабинет, где умирал поэт, было просто невозможно. Приглашали, конечно, самых близких, но и их было много. Днем 28 января состояние раненого оставалось тяжелым. Сохранялись брюшные боли и вздутие живота. После приема экстракта белены и каломеля (ртутного слабительного) облегчения не наступило. Наконец около 12 часов по назначению Арендта дали в качестве обезболивающего капли с опием, после чего Александру Сергеевичу сразу стало лучше. Интенсивность боли значительно уменьшилась — и это было главным в улучшении состояния безнадежного больного. Раненый стал более активным, повеселел. Согрелись руки. Пульс оставался частым, слабого наполнения. Через некоторое время отошли газы и отмечено самостоятельное свободное мочеиспускание. Около 14 часов появился в доме потрясенный случившимся В. И. Даль, который приехал в Санкт-Петербург по делам службы из Оренбурга и только что узнал о ранении Пушкина. Даль и Пушкин сблизились и подружились в 1833 году, когда Александр Сергеевич приезжал в Оренбург для сбора материалов об Емельяне Пугачеве. Даль, служивший чиновником по особым поручениям у оренбургского губернатора, помогал Пушкину в сборе материалов и сопровождал его в поездке по историческим пугачевским местам. Александр Сергеевич подал Далю руку и откровенно сказал: «Плохо, брат». Владимир Иванович — интересный, участливый собеседник, всегда готовый помочь, имевший к тому же медицинское образование и навыки ухода за больными, оказался человеком очень нужным для Пушкина в эти отмерянные судьбой оставшиеся сутки жизни. И в течение всех этих суток, до последнего вздоха поэта, Владимир Иванович, несмотря на крайнюю усталость, уже не отходил от изголовья умирающего. А. С. Пушкин очень обрадовался Далю, к тому же приход последнего и уменьшение боли от приема опия совпали по времени. Александр Сергеевич отвлекся от грустных дум, слегка повеселел, разговаривая с Владимиром Ивановичем. Правда, из-за одышки и слабости говорить ему было трудно, он произносил слова отрывисто, с расстановкой. Александр Сергеевич охотно стал выполнять назначения докторов. На живот вместо холодных компрессов стали класть «мягчительные» припарки, и Пушкин помогал ухаживающим накладывать и снимать их. Внутрь он принимал лавровишневую воду и каломель, однократно дали касторовое масло, продолжали применение опия. Больного мучила жажда, и он часто просил холодную воду, которую ему подносили чайными ложечками. Александр Сергеевич был не привередливым больным, он никого не упрекал, не жаловался, благодарил ухаживающих за каждый пустяк. «Вот и хорошо… и прекрасно…», — часто приговаривал он, когда давали воды, кусочки льда, поправляли постель, подушку. К 18 часам 28 января отмечено новое ухудшение состояния. Появилась лихорадка. Пульс достигал 120 ударов в минуту, был полным и твердым (напряженным). Боли в животе стали «ощутительнее». Живот вновь вздуло. Для борьбы с развившимся «воспалением» (перитонитом) Даль и Спасский (с согласия и одобрения Арендта) поставили на живот 25 пиявок. Пушкин помогал докторам, рукой сам ловил и припускал себе пиявки. После применения пиявок жар уменьшился. «Кожа показывала небольшую испарину». Пульс стал реже и мягче. Живот «опал». В. И. Даль позднее вспоминал: «Это была минута надежды. Я ухватился, как утопленник, за соломинку… и обманул было и себя, и других — но ненадолго»[22]. От применения пиявок больной потерял, по расчетам Ш. И. Удермана[23], еще около 0,5 л крови и, таким образом, общая кровопотеря с момента ранения достигла 2,5 л (50 % от всего объема циркулирующей в организме крови). Несомненно, что ко времени назначения пиявок уже возникла тяжелейшая анемия, действенных средств лечения которой (переливание крови, препараты железа и т. д.) в те годы еще не знали. Местное кровопускание в XIX веке допускалось для лечения воспаления брюшины (перитонита)[24]. Однако назначение пиявок Пушкину (да еще в таком количестве), без учета его кровопотери и развившегося малокровия, было шаблонным, необдуманным актом, приблизившим летальный исход. Улучшение было мимолетным, вскоре Александру Сергеевичу стало еще хуже, чем до применения пиявок. Г. И. Родзевич[25] и Ш. И. Удерман[26] уверены, что назначение пиявок — серьезная, «роковая» ошибка докторов, лечивших Пушкина. В ночь с 28 на 29 января состояние раненого крайне тяжелое. В сознании. Его беспокоят резкая слабость и жажда. Боли в животе сохраняются, но стали поменьше. Временами раненый засыпает, но ненадолго. Просыпаясь, просит пить, но пьет только по нескольку глотков. Иногда очень тихо, стараясь сдерживать себя, постанывает. Даль уговаривал его: «Не стыдись боли своей, стонай, тебе будет легче». Пушкин возражал: «Нет, не надо, жена услышит». Изменилось лицо, черты его заострились («лицо Гиппократа», типичное для больных перитонитом). Появился мучительный оскал зубов, губы судорожно подергивались даже при кратковременном забытье. Возникли признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Дыхание стало частым, отрывистым, воздуха не хватало (одышка). Пульс был едва заметен. У поэта появилось мучительное чувство тоски. «Скоро ли это кончится? Ах, какая тоска! Сердце изнывает!» — жаловался он Владимиру Ивановичу. Тактика лечения оставалась неизменной. Больному давали лавровишневую воду, каломель и опий. Утром 29 января состояние стало критическим, предагональным. «Общее изнеможение взяло верх». Пришедший рано утром на квартиру доктор Спасский поразился резкому ухудшению состояния больного и отметил, что «Пушкин истаевал». Консилиум врачей в составе Арендта, Спасского, Андреевского и Даля единогласно сошелся во мнении, что скоро начнется агония. Арендт заявил, что Пушкин проживет не больше двух часов. Александр Сергеевич большую часть времени своего последнего дня был в сознании. Он жаловался на резкую слабость, жажду, головокружение, одышку. Временами сознание «путалось», и пациент переставал узнавать неотлучно находящегося у изголовья Даля, возникали зрительные галлюцинации. Александр Сергеевич признался, что ему вдруг пригрезилось, как они вместе с Далем, взявшись за руки, лезут вверх по книгам и полкам — все выше, выше и выше! Пульс у больного падал с часу на час, стал едва заметен, а к полудню совсем исчез. Руки остыли и стали совсем холодными. Дышать было трудно. Частые, отрывистые дыхательные движения прерывались паузами (дыхание Чейн-Стокса). Передняя и зала были переполнены. Бледные и тревожные лица людей выдавали сильное волнение. «Больной находится в весьма опасном положении», — написал Жуковский для посетителей. Этот бюллетень оказался последним. Наиболее близкие друзья поэта — В. А. Жуковский, П. А. Вяземский со своей женой, А. И. Тургенев, М. Ю. Виельгорский — собрались у смертного одра. От умирающего не отходили доктора Е. И. Андреевский, В. И. Даль и И. Т. Спасский. Несколько раз Александр Сергеевич звал Наталью Николаевну, но говорить много не мог, отсылал ее от себя. Как сомнамбула, ходила божественной красоты молодая женщина, любимица высшего света, по комнатам, чувствуя свою безмерную вину перед этим необъятной души человеком, которого она по своему легкомыслию и беспечности подвергла таким жестоким физическим и духовным истязаниям, но который не только простил ее, но и свято поверил ей и сейчас умирал с этой безумной верой в женскую чистоту и невинность. «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском», — говорил Александр Сергеевич еще в первый вечер после смертельного ранения. Около 14 часов Александру Сергеевичу захотелось морошки. Он с нетерпением ждал, когда ее принесут, и попросил жену покормить его из своих рук. Он съел 2–3 ягодки и с наслаждением выпил несколько ложечек сока, подаваемых женой, говоря: «Ах, как это хорошо!» Наталья Гончарова у смертного одра поэта. Неизвестный художник.
Наталья Гончарова у смертного одра поэта. Неизвестный художник.
Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья умирающего мужа и приникла лицом к нему, а он гладил ее ласково по голове и тихо, едва слышно, шептал слова любви и утешения. Безмятежное спокойствие разлилось по его лицу. Наталья Николаевна вышла из кабинета, вся искрящаяся надеждой, и сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жив». Но через некоторое время, в отсутствие ее, началась агония. Пушкин потухающим взором обвел шкафы своей библиотеки и, имея в виду своих самых лучших и верных друзей — книги, прошептал: «Прощайте, прощайте». Спасский и Даль исполнили последнюю просьбу умирающего, чуть повернув его на бок и слегка приподняв. Александр Сергеевич вдруг широко открыл глаза, лицо его прояснилось. Последними словами поэта были: «Жизнь кончена… Тяжело дышать, давит…». Отрывистое частое дыхание сменилось на медленное, тихое, протяжное, и вот уже слабый, едва заметный, последний вздох. Дыхание остановилось. Пламенное сердце, отстучав лишь 37 лет, прекратило горячее биение в груди поэта. В 14 часов 45 минут 29 января 1837 года (10 февраля по новому стилю) зафиксирована смерть. Закрыл глаза умершему доктор Е. И. Андреевский.
* * *
Вскрытие было проведено в передней квартиры поэта, очевидно, Спасским, который один из докторов имел опыт судебно-медицинской экспертизы. Производилось оно в соответствии с Указом военной коллегии от 1779 года об обязательном вскрытии трупов умерших насильственной смертью. Спешка, плохое освещение, неполный объем вскрытия и, главное, неоформленный письменный протокол — эти вопиющие недостатки аутопсии стали затем причиной различных толкований хода раневого канала, наличия и степени поражения некоторых органов и, наконец, причины смерти. Результаты вскрытия по памяти почти через 24 года обнародовал участвовавший в нем Даль. Подчеркнем, что опубликованные Далем материалы — не есть официальный протокол вскрытия. В ту пору уже существовали строгие требования к форме протокола, который состоял из введения, описательной части и мнения[27]. Материалы В. И. Даля — это вольное изложение автором того, что он видел на аутопсии. Приводим полностью содержание его записки, опубликованной в 1860 году в № 49 «Московской медицинской газеты»: «Вскрытие тела А. С. Пушкина. По вскрытии брюшной полости все кишки оказались сильно воспаленными; в одном только месте, величиною с грош, тонкие кишки были поражены гангреной. В этой точке, по всей вероятности, кишки были ушиблены пулей. В брюшной полости нашлось не менее фунта черной, запекшейся крови, вероятно, из перебитой бедренной вены. По окружности большого таза, с правой стороны, найдено было множество небольших осколков кости, а, наконец, и нижняя часть крестцовой кости была раздроблена. По направлению пули надобно заключать, что убитый стоял боком, вполоборота и направление выстрела было несколько сверху вниз. Пуля пробила общие покровы живота в двух дюймах от верхней, передней оконечности чресельной или подвздошной кости (ossis iliaci dextri) правой стороны, потом шла, скользя по окружности большого таза, сверху вниз, и, встретив сопротивление в крестцовой кости, раздробила ее и засела где-нибудь поблизости. Время и обстоятельства не позволили продолжать подробнейших розысканий. Относительно причины смерти надобно заметить, что здесь воспаление кишок не достигло еще высшей степени: не было ни сывороточных или конечных излияний, ни прирощений, а и того менее общей гангрены. Вероятно, кроме воспаления кишок, существовало и воспалительное поражение больших вен, начиная от перебитой бедренной; а, наконец, и сильное поражение оконечностей становой жилы (caudae equinae) при раздроблении крестцовой кости»[28]. Пулю на вскрытии не нашли, что лишний раз характеризует его качество. Ничего Даль не пишет о состоянии легких, сердца, селезенки и других отдаленных от раны внутренних органов; не ясно, производился ли их осмотр. Вероятнее всего, аутопсия была поверхностной и неполной — вскрывалась только брюшная полость. К казусам следует отнести и утверждение Даля, что кровотечение наблюдалось «вероятно, из перебитой бедренной вены». Но, во-первых, бедренная вена не проходит в зоне раневого канала, и, во-вторых, почему Даль пишет «вероятно», ведь ранение такой крупной вены, как бедренная, должны были обязательно заметить на вскрытии, тем более, если рассмотрели гангрену кишки «величиной с грош». Ш. И. Удерман[29] предполагает, что вывод Даля о повреждении бедренной вены — поздний домысел его, ибо к Владимиру Ивановичу через какое-то время после смерти поэта попал «дуэльный» сюртук Пушкина, в котором была дырочка от пули напротив правого паха. Отсюда последовал вывод, что ранен крупный сосуд в паху. Однако в момент выстрела Дантеса у Пушкина была поднята правая рука с пистолетом и, естественно, поднялась и правая половина сюртука. Сама же рана была значительно выше паховой складки, и бедренная вена никак не могла быть повреждена. Изучая хирургическую литературу XIX века, мы обнаружили, что наружная подвздошная артерия и одноименная вена многими авторами назывались бедренной артерией и веной. До 1895 года, когда была принята Базельская анатомическая номенклатура (BNA), даже в некоторых руководствах по анатомии встречалась такая терминологическая путаница в названиях магистральных артерий и вен, располагающихся в этой области выше паховой складки. Так, может быть, Даль имел в виду ранение именно правой наружной подвздошной вены, называя ее бедренной? Это вполне вероятно. Однако и в этом случае убедительных доказательств, что пуля Дантеса повредила крупную магистральную вену (наружную, общую или внутреннюю подвздошную), в исторических документах нет, и допустить это невозможно, иначе наступила бы гибель Пушкина от массивной кровопотери уже на месте дуэли или во время транспортировки. Большинство авторов[30] считает, что ни бедренная, ни наружная подвздошная вена, ни другие крупные вены, а также крупные магистральные артерии не лежали на пути пули, а следовательно, не были повреждены. Источниками кровотечения следует считать более мелкие вены и артерии таза, в большом числе расположенные по ходу раневого канала. Преимущественно это ветви подвздошных вен и артерий. Прежде всего, следует указать подвздошно-поясничную артерию и одноименную вену (a. et v. iliolumbalis), глубокую артерию и вену, огибающую подвздошную кость (a. et v. circumflexa ilium profunda), переднее крестцовое венозное сплетение (plexus venosus sacralis), которое образуется из анастомозирующих между собой крестцовых вен (v. sacralis mediana et у. v. sacrales laterales). Как артерии, таки, особенно, вены, выстилающие стенки таза, имеют довольно большой диаметр и обильно анастомозируют как друг с другом, так и с висцеральными тазовыми сосудами, кровоснабжающими внутренние органы таза. Кровотечение из тазовых артерий и вен бывает довольно значительным, хотя и не приводит к смерти непосредственно на месте ранения или в первые часы после повреждения. Требует уточнения и само направление раневого канала. В блестящей работе академика Б. В. Петровского[31], одной из лучших по этой теме, на рисунках художник изобразил ход раневого канала как исключительно прямолинейный. Однако прямолинейное продвижение пули в теле Пушкина вызывает у нас большие сомнения. Прежде всего, необходимо опровергнуть одно заблуждение, которое «кочует» из одного источника в другой. Объясняют продвижение пули в теле раненого сверху вниз тем, что Дантес ростом был выше Пушкина и целил в низ живота. Поэтому пуля де шла неуклонно по нисходящей траектории и в результате достигла нижней части крестца, попутно повредив участок крыла подвздошной кости. Мы провели расчеты траектории. Оказалось, что если соединить прямой линией места повреждения крестцовой и подвздошной кости и продолжить эту прямую линию за пределы тела на расстояние 7 м (дистанцию между противниками в момент выстрела), то окажется, что Дантес должен был быть трехметровым великаном. На невостребованных трупах мужчин среднего роста, умерших от случайных причин, мы изучили[32] возможный ход раневого канала[33]. Установлено, что при прямолинейном ходе от точки, расположенной в 5 см (что соответствует 2 дюймам) кнутри от передней верхней ости правой подвздошной кости, до боковой поверхности нижней части крестцовой кости, во всех случаях повреждаются петли тонкой кишки, иногда раневой канал проходит через слепую кишку, подвздошные сосуды и правый мочеточник. Внимательно просмотрев компьютерные томограммы таза 20 мужчин, обследованных по поводу различных заболеваний органов, находящихся вне проекции предполагаемого раневого канала, мы убедились, что при прямолинейном ходе пули у Пушкина неминуемо должны были произойти сквозные ранения тонкокишечных петель. Последующее моделирование на трупах и срезах компьютерной томографии показало, что единственно возможным направлением, при котором сохраняются неповрежденными кишечные петли, является движение пули по неправильной дуге с внутренней стороны задней полуокружности костного тазового кольца. Это не противоречит и секционным данным: Даль пишет, что пуля «шла, скользя по окружности большого таза». Таким образом, ход раневого канала у А. С. Пушкина можно представить следующим образом. Ориентировочная схема раневого канала у А. С. Пушкина (по М. И. Давидову). Разрез таза в сагиттальной плоскости.
Разрез таза в сагиттальной плоскости.
 Поперечное сечение тела. На схеме: а — петли тонкой кишки; б — слепая кишка; в — прямая кишка; г — левая наружная подвздошная артерия и одноименная вена; д — левый мочеточник. Симметрично Г и Д в правой половине таза вплотную к раневому каналу прилегают правые подвздошные сосуды и правый мочеточник.
Поперечное сечение тела. На схеме: а — петли тонкой кишки; б — слепая кишка; в — прямая кишка; г — левая наружная подвздошная артерия и одноименная вена; д — левый мочеточник. Симметрично Г и Д в правой половине таза вплотную к раневому каналу прилегают правые подвздошные сосуды и правый мочеточник.
В положении корпуса Пушкина вперед правым боком, вполоборота (под углом приблизительно 45°), пуля вошла на 5 см кнутри от передней верхней ости правой подвздошной кости, прошла мягкие ткани брюшной стенки, ударилась о внутреннюю поверхность крыла подвздошной кости, раздробив этот участок с образованием множества костных осколков, рикошетировала от подвздошной кости и, изменив свое направление, прошла между задней полуокружностью тазового кольца и внутренними органами таза, косо медиально и книзу, ударилась о нижнюю часть крестцовой кости, разрушила ее с образованием множества осколков и, потеряв кинетическую энергию, застряла в раздробленной массе крестца. Выскажем некоторые соображения относительно ранения органов и тканей, окружающих раневой канал. По данным В. И. Даля[34], на аутопсии был выявлен небольшой участок («величиной с грош») гангрены (некроза) стенки тонкой кишки. Однако прободения кишечной стенки в этом и других участках кишечника и кишечного содержимого («конечных излияний» по В. И. Далю) в свободной брюшной полости на вскрытии не было обнаружено. В. И. Даль считает, что этот небольшой участок кишечной стенки был ушиблен пулей. Это мнение поддерживают А. М. Заблудовский[35], В. А. Шаак[36], А. Д. Адрианов[37], Б. В. Петровский[38] и многие другие авторы. Напротив, Ш. И. Удерман[39] предполагает, что данный участок кишечника был ушиблен не пулей, а мелким костным отломком подвздошной кости, с большой силой отлетевшим от кости в момент ее огнестрельного раздробления. Не исключает он и еще один механизм ушиба: при падении поэта во время дуэли, неудачной транспортировке или перекладывании раненого стенка кишки могла повредиться при соприкосновении с острым краем костного фрагмента. М. С. Рабинович[40] утверждает, что у Пушкина имелась небольшая огнестрельная рана тонкой кишки, которая затем самопроизвольно закрылась. Свое утверждение он ничем не доказывает. Предположить, чтобы рана на кишке от крупной свинцовой пули самопроизвольно закрылась, невозможно. Да, к тому же, на вскрытии не обнаружено кишечного содержимого в свободной брюшной полости. Итак, вероятнее всего, в результате ушиба стенки тонкой кишки пулей или фрагментом кости первоначально образовалась небольшая гематома в кишечной стенке, которая через некоторое время подверглась омертвению (гангрене). С. С. Юдин[41] и И. С. Брейдо[42] предполагали, что Пушкин имел проникающее огнестрельное ранение прямой кишки. Однако убедительных данных для подтверждения своей гипотезы они не приводят. А основания для возражения им есть. При наличии раны на прямой кишке не только кишечное содержимое, но и введенная при очистительной клизме жидкость проникли бы в малый таз и брюшную полость. Этого, как и ран на стенке прямой кишки, не было обнаружено на вскрытии. Как мы уже писали, пуля шла преимущественно ретроперитонеально[43]. О том, что она повредила, пусть и на небольшом участке, задний листок париетальной брюшины у нас, как и у большинства авторов, сомнений нет. Сошлемся лишь на весьма авторитетное мнение академика Б. В. Петровского[44]. Инфекция через дефект брюшины легко проникла в брюшную полость. Главным источником микроорганизмов следует считать инфицированный раневой канал с неудаленным инородным телом (пулей) и вторичными инородными телами (обрывками одежды, осколками костей и т. п.). Вторым источником инфекции явилась кровь, обильно поступающая из поврежденных сосудов в малый таз и оттуда проникающая через дефект брюшины в брюшную полость. Излившаяся из сосудов кровь является прекрасной питательной средой для микробов. В-третьих, через гангренозно измененный участок стенки тонкой кишки микроорганизмы, в несметном количестве находящиеся в просвете кишечника у любого человека, также могли проникать в свободную брюшную полость. Кроме того, инфекция могла распространиться в брюшную полость гематогенно[45] из двух очагов начинающегося остеомиелита тазовых костей (правой подвздошной и крестцовой) и из воспаленных вен таза. У Пушкина через 12 часов после ранения (в 5 часов утра 28 января) Арендт обнаружил явные клинические признаки перитонита. Не следует обманывать себя тем, что Даль в своей записке о результатах вскрытия сообщает о скудности патологоанатомической картины воспаления брюшины. Просто ожидания Даля не совпали с увиденным на секции. Он, как и другие доктора, исходя из клинической картины заболевания и расположения входного отверстия пули, предполагал, что должны обнаружиться множественные огнестрельные раны тонкой и толстой кишки с излиянием кишечного содержимого в брюшную полость, а на аутопсии, благодаря своеобразному ходу раневого канала, проникающих ранений кишечника не оказалось вовсе. Тем не менее Даль в своей записке отнюдь не утверждает, что перитонит у Пушкина отсутствовал. Он и начинает описание с фразы, что «…все кишки оказались сильно воспаленными». Поэтому сенсационное заявление И. С. Брейдо[46], категорически отвергающего наличие перитонита у раненого Пушкина, безосновательно. Всем сомневающимся в том, что поэт имел перитонит, убедительно ответил Б. В. Петровский в 1983 году. Приводя для примера свой опыт лечения более 500 раненых с огнестрельными ранениями костей таза, он пишет: «Часто мы видели… быстро возникавшие „сухие“ перитониты, которые можно было бы рассматривать как анаэробные типичные или как неклостридиальные анаэробные, гнилостные воспаления брюшины. Поэтому сомнения в наличии перитонита у раненого А. С. Пушкина и некоторые недоумения (у отдельных авторов) в связи с быстрым молниеносным его течением… нам представляются неосновательными»[47]. Александр Сергеевич имел также значительное повреждение костей таза. «Раздробление подвздошной и в особенности крестцовой кости — неисцелимо», — писал в заметке «Ход болезни Пушкина» В. И. Даль[48]. В свою очередь, Б. В. Петровский[49], подчеркивая тяжесть подобных ранений, опять же ссылается на опыт Великой Отечественной войны, когда наблюдалось много больных с огнестрельными инфицированными ранами раздробленных спонгиозных частей костей таза; они быстро нагнаивались и вызывали бурно развивающийся остеомиелит. В. И. Даль в записке о вскрытии тела допускает наличие у раненого «воспалительного поражения больших вен» (флебита) и повреждения нервов крестцового сплетения. Вполне вероятно, что флебит тазовых вен был. Что касается повреждения нервных стволов крестцового сплетения со значительным разрушением их, то достоверного подтверждения этого по клинической картине нет. У больного не было отмечено типичных для такого повреждения расстройств функциитазовых органов (анального недержания, острой задержки мочеиспускания или непроизвольного истечения мочи), а также парезов и параличей нижних конечностей (чувствительность и движения в ногах были сохранены, поэт при переодевании 27 января даже сам встал на ноги). Исключить же повреждение отдельных периферических элементов крестцового сплетения и каких-то нервных веточек полностью нельзя, ибо конечная часть раневого канала имела совершеннейшую анатомическую близость к крестцовому сплетению. Поэтому, при условии сохранения жизни, поэт мог в дальнейшем страдать легкими или умеренными нарушениями движений и чувствительности в ногах. И, наконец, вопрос, который вообще не освещен в литературе. При моделировании хода раневого канала, как прямолинейного, так и дугообразного, нами было обнаружено, что он проходит в непосредственной близости к правому мочеточнику или (значительно реже) пересекает последний. В норме тазовый отдел правого мочеточника, имея диаметр в среднем 4–7 мм, примыкает к заднему листку париетальной брюшины, пересекает наружную подвздошную артерию и одноименную вену, располагаясь кпереди от этих сосудов. Возникает вопрос: имелось ли у Пушкина ранение мочевых путей? Со всей категоричностью на этот вопрос можно ответить отрицательно — ни правый мочеточник, ни мочевой пузырь повреждены не были. Мочевой пузырь, даже в переполненном состоянии, находится на достаточном удалении от раневого канала. Пуля прошла, очевидно, близко к правому мочеточнику, не повредив, однако, его стенок. Целость мочевого пузыря и мочеточника подтверждается отсутствием у раненого Пушкина симптомов повреждения указанных органов (крови в моче, учащенного и болезненного мочеиспускания или острой задержки мочеиспускания, выделения мочи через рану). Раненый мочился самостоятельно, не часто, примеси крови в моче и выделения мочи в рану никто из врачей, ухаживающих за Пушкиным, не отметил. На вскрытии не было обнаружено ни ран мочевого пузыря и мочеточника, ни мочевых затеков в области малого таза, забрюшинного пространства и брюшной полости. Анализ клинических и секционных данных позволяет ретроспективно установить у А. С. Пушкина следующий развернутый диагноз: Огнестрельное проникающее слепое ранение нижней части живота и таза. Многооскольчатые огнестрельные инфицированные переломы правой подвздошной и крестцовой костей с начинающимся остеомиелитом. Травматогенный диффузный перитонит. Гангрена участка стенки тонкой кишки. Инфицированная гематома брюшной полости. Инородное тело (пуля) в области крестца. Флебит тазовых вен. Молниеносный сепсис. Травматический шок. Массивная кровопотеря. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Полиорганная недостаточность. Причиной смерти, безусловно, явился молниеносный сепсис, как осложнение, в первую очередь, травматогенного перитонита. В этиопатогенезе сепсиса также имели значение инфицированная и не дренированная огнестрельная рана области таза с неудаленным инородным телом, начинающийся остеомиелит подвздошной и крестцовой костей, флебит тазовых вен. Сепсис развился на фоне тяжелейшей постгеморрагической анемии, явившейся результатом невосполненной массивной кровопотери; он привел к полиорганной, прежде всего сердечно-сосудистой и дыхательной, недостаточности. Стремительное развитие септического перитонита с летальным исходом уже через двое суток не так уж редко встречалось в XIX веке, когда при проникающих ранениях живота пострадавших не оперировали и не применяли антибиотиков[50]. Сошлемся на известную работу «Воспаление брюшины, перешедшее в нарыв», опубликованную в 1840 году Е. И. Андреевским[51], принимавшим участие в лечении А. С. Пушкина. Это серьезный научный труд объемом в 41 страницу, в котором автор излагает сущность перитонита, его клинику и лечение. Примечательно, что Е. И. Андреевский упоминает о достаточно распространенной в то время «быстротечной» форме перитонита, когда смертельный исход наблюдался через 2–3 дня. По его данным, встречались случаи, когда смерть наступала уже через одни сутки от начала заболевания. И. С. Брейдо[52] считает, что перитонита у Пушкина не было, а умер он от газовой (анаэробной) инфекции в области таза. И. Д. Аникин[53] безосновательно писал, что причиной смерти явилась де «закупорка тромбами сосудов, проходящих в брыжейке» — мезентериальный тромбоз. Эти мнения звучат диссонансом в общем дружном хоре авторов, утверждающих, что смерть у Александра Сергеевича наступила от перитонита или септического перитонита. Так считают Н. Н. Бурденко и А. А. Арендт[54], А. М. Заблудовский[55], В. А. Шаак[56], С. С. Юдин[57], А. Д. Адрианов[58], Ш. А. Удерман[59], А. Русаков[60] и многие другие ученые. По сути, наше мнение о причине смерти не противоречит утверждению большинства названных авторов, хотя в этиопатогенезе сепсиса, помимо перитонита, мы определенное значение придаем и другим инфекционно-воспалительным процессам, развившимся у раненого. Существует еще одно, распространенное в среде литераторов и широких масс населения, мнение, что Александр Сергеевич умер в результате неостановленного внутреннего кровотечения из крупных сосудов, например, из той же бедренной вены, повреждение которой предполагал В. И. Даль. В то время хирургические вмешательства на сосудах были уже хорошо разработаны, да и противопоказаний к подобной операции, если бы крупный сосуд был действительно поврежден, по существующим тогда установкам не было (в отличие от перитонита, при котором рекомендовалось сугубо консервативное лечение). Естественно, что в глазах этих людей лечебная тактика, примененная докторами у А. С. Пушкина, выглядит глубоко ошибочной: поэта надо было экстренно оперировать, останавливая кровотечение из поврежденных сосудов, а с легкими проявлениями воспаления брюшины организм Александра Сергеевича справился бы сам, и, таким образом, жизнь гения русской литературы была бы спасена. Точка зрения эта весьма неубедительна и опровергается без особого труда, поэтому и солидных публикаций, развивающих ее, нет. Конечно, можно без конца выдвигать различные новые гипотезы о причине смерти А. С. Пушкина, от анаэробной инфекции (основываясь лишь на «чувстве тоски», как это делает И. С. Брейдо) до септического воспаления легких, инфаркта миокарда, закупорки сосудов брыжейки и других возможных осложнений ранения, но поскольку подтверждений историческими документами и свидетельствами очевидцев этих невероятных гипотез все равно нет, то они так и останутся ничем не доказанными пустыми предположениями. И, наконец, главный вопрос: можно ли было спасти Александра Сергеевича Пушкина, если бы он жил сейчас, в наших условиях? При огнестрельном ранении нижнего этажа брюшной полости и таза, подобном ранению А. С. Пушкина, необходимо оказать первую медицинскую помощь на месте происшествия (наложение асептической повязки, введение обезболивающих и кровоостанавливающих средств), немедленно транспортировать пострадавшего в хирургическое отделение на санитарной машине в лежачем положении на щите, вводя в пути препараты — заменители плазмы крови и противошоковые средства. В хирургическом стационаре необходимо выполнить срочное обследование, обязательно включающее, наряду с другими методами, рентгенографию и ультразвуковое исследование с целью локализовать инородное тело и определить наличие и характер повреждений окружающих раневой канал органов. После короткой предоперационной подготовки нужно оперировать больного под общим обезболиванием: вскрыть нижним срединным разрезом брюшную полость, эвакуировать из нее выпот и кровь, произвести резекцию ушибленного участка тонкой кишки с наложением тонко-тонкокишечного анастомоза, широко рассечь раневой канал, удалить пулю, множественные осколки подвздошной и крестцовой кости и другие инородные тела, остановить кровотечение из поврежденных сосудов, санировать и дренировать брюшную полость и малый таз. Кровопотеря должна быть восполнена переливанием крови и препаратов — заменителей плазмы крови. После операции необходима интенсивная терапия в условиях реанимационного отделения, включающая внутривенное, капельное введение растворов, антибиотики, стимуляторы иммунитета, ультрафиолетовое облучение крови и другие средства и способы. При выполнении в полном объеме указанных мероприятий смертельный исход, в связи с тяжестью ранения, мог бы все равно наступить, однако шансы на выздоровление составили бы не менее 80 %, ибо летальность при подобных огнестрельных ранениях ныне составляет 17,2-17,5 % (Е. К. Гуманенко[61], А. С. Ермолов и соавторами[62], М. И. Давидов[63]). Но Александр Сергеевич Пушкин жил в другое время, и спасти жизнь гениального поэта при том уровне развития медицины, который существовал в 30-х годах XIX столетия, было практически невозможно.
* * *
Похоронили А. С. Пушкина на рассвете 6 февраля у стен Святогорского монастыря, на Псковщине. Этот уголок земли для нас, россиян, является священным. Замечательнее всех это выразил К. Паустовский: «… Лучшим местом на земле я считаю холм под стеной Святогорского монастыря в Псковской области, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России…» А вдова А. С. Пушкина — его любимая Натали — не участвовала в похоронах мужа, сказавшись больной. Но что мешало ей побывать на могиле мужа в ближайшие несколько лет? Вскоре она вышла замуж за генерала и стала Натальей Николаевной Ланской. Впереди ее ждала долгая обеспеченная жизнь. Памятник на могиле А. С. Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре. Фото конца XX века.
Памятник на могиле А. С. Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре. Фото конца XX века.
ЛЕРМОНТОВ И МАРТЫНОВ: ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ Документальная повесть
 Портрет М. Ю. Лермонтова. Гравюра на стали Ф. А. Брокгауза в Лейпциге, 1863 г.
Портрет М. Ю. Лермонтова. Гравюра на стали Ф. А. Брокгауза в Лейпциге, 1863 г.
Более 170 лет назад, 15 (27) июля 1841 года, у подножия Машука прозвучал выстрел, оборвавший жизнь великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. «Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу»[64], — так эффектно закончил свои воспоминания о дуэли Лермонтова и Мартынова секундант А. И. Васильчиков. Однако в них Александр Илларионович так искусно все сфальсифицировал, что вот уже более полутора столетий черная туча тайны застилает как события, предшествующие поединку, так и сам ход его. По поводу последней дуэли Лермонтова существует масса заблуждений и поверхностных суждений, стереотипно передающихся из поколения в поколение. Так, Мартынов многими[65] представляется недалеким, упрямым и болезненно самолюбивым, но, однако, правдивым, честным и смелым человеком. Мартынов прожил долго, и в последние годы жизни у него было много защитников (впрочем, их немало и сейчас). Они называли Николая Соломоновича «благороднейшим человеком», ставшим жертвой случая, стечения обстоятельств; призывали современников к чувству гуманности и сострадания, утверждая, что ненависть к Мартынову в обществе испортила всю жизнь этому «несчастному» человеку, дожившему до преклонного возраста. И. П. Забелла писал: «Высокий, красивый, как лунь седой, старик Николай Соломонович Мартынов был любезный и благовоспитанный человек; но в чертах его лица и в прекрасных синих глазах видна была какая-то запуганность и глубокая грусть»[66]. Сохранилось письмо известного земского деятеля Н. А. Елагина своим родным, в котором сообщается: «Умер Мартынов лермонтовский; и все очень жалеют»[67]. С другой стороны, и М. Ю. Лермонтов из поколения в поколение представляется в сверхидеализированном виде: и внешне, и внутренне. На эту тему мне довелось беседовать и полемизировать со многими учителями литературы. Из бесед этих невольно вырисовывается образ юного красавца-офицера, благороднейшего, чистого и нежного создания, дни и ночи напролет изливающего на бумагу волшебную мелодию стихов. Этот «прилизанный» образ чудесного «пай-мальчика» из года в год миллионами тиражируется педагогами для их учеников. С портретов кисти П. Е. Заболотского, Ф. О. Будкина, К. А. Горбунова и других художников на нас грустными, нежными глазами смотрит этот же прекрасный, удивительно красивый «мальчик-офицер». Утверждается, что эти два человека, Мартынов и Лермонтов, были давними хорошими приятелями, большими друзьями. Но тогда почему один поднял руку на другого?
Версии заговора
Вот здесь-то и «вылезают» на свет Божий различные версии «заговора» жандармов, руки Бенкендорфа и Николая I, «наемного казака-убийцы» и другие всевозможные бездоказательные, мифические гипотезы и предположения. Действительно, Николай I и шеф жандармов Бенкендорф не любили поэта. Да и мог ли понравиться им человек, предсказывающий «России черный год, когда царей корона упадет»? Как они могли спокойно отнестись к таким строкам:Внешний облик и характер М. Ю. Лермонтова
Великий русский поэт М. Ю. Лермонтов перенес очень тяжелое детство, наложившее суровый отпечаток на его характер и психику. Он родился в Москве, в доме генерала Ф. Н. Толя у Красных ворот, в ночь со 2 на 3 октября 1814 года[69]. Мать его, Мария Михайловна Лермантова[70] (урожденная Арсеньева) к моменту родов находилась в возрасте 19 лет и имела весьма слабое здоровье. Вынашивание плода было трудным, и поэтому за 5 месяцев до родов родители Михаила Юрьевича приехали в Москву, из Тархан Пензенской губернии, чтобы обеспечить медицинское наблюдение за беременной и квалифицированное ведение родов. Последние протекали чрезвычайно тяжело. Мальчик родился недоношенным, крохотным, «с болезненными формами рук и ног». Акушерка, взглянув на слабенького новорожденного, тотчас заявила, что «этот мальчик не умрет своей смертью». Скорее всего, ее слова обозначали вероятность преждевременной смерти его в раннем детском возрасте от болезней. После рождения будущего поэта родители вернулись в Тарханы. Но счастье покинуло эту семью. Мария Михайловна попала в очень сложное положение, она металась между двумя враждующими друг с другом любимыми людьми: своим мужем, Юрием Петровичем Лермантовым, и матерью, Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. С портрета смотрит на нас хрупкое, очаровательное молодое создание, наивным ребенком вступившее в жестокую и беспощадную жизнь. Она полюбила всем сердцем красавца-блондина Юрия Петровича, весельчака со столичными манерами, отстояла в жестокой борьбе с матерью право на брак с ним, ввела его, почти разорившегося, «хозяином» в дом; несмотря на слабое здоровье выносила ребенка, что было равносильно подвигу, родила его со страшными женскими муками. И что же в награду? Ее ждало охлаждение мужа, измены его, ссоры с физическим воздействием на нее, почти ежедневные конфликты мужа и матери. Вскоре Юрий Петрович покинул семью. Мария Михайловна стала тяжело болеть. Она таяла с каждым днем. Тяжелая чахотка (туберкулез легких) охватила грудь молодой женщины, и через два с половиной года после рождения Миши она скончалась. Тяжелое личное горе и невыносимая тоска переливались из сердца матери в сердце ее дитяти, словно железными клещами терзали и рвали на куски его юную, неокрепшую душу. Известно, что психика человека формируется в основном в первые 5 лет его жизни. И не являлся ли тяжелый, нервный характер возмужавшего поэта следствием этих невыносимых, нечеловеческих страданий, испытанных им в раннем детстве? Через 9 дней после смерти Марии Михайловны по жестоко-бесчеловечному настоянию Елизаветы Алексеевны Юрий Петрович вынужден был оставить сына на попечение бабушки и уехал из Тархан навсегда. Так Мишенька в короткий срок лишился и матери, и отца. С одной стороны, Миша был сирота, но с другой — это был в высшей степени избалованный ребенок. Елизавета Алексеевна так любила своего внука, что для него не жалела ничего. «Все ходило кругом да около Миши». В год она тратила на него до 10 тыс. рублей. Пьедестал всеобщего поклонения, сооруженный в Тарханах с младенческих пеленок, уродовал формирующийся характер. Мальчик семи лет уже умел прикрикнуть на лакея, с презрением улыбнуться на лесть ключницы. «В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он… радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу»[71]. «Этот внучек-баловень, пользуясь безграничною любовью своей бабушки, с малых лет уже превращался в домашнего тирана, не хотел никого слушаться, трунил над всеми…»[72] — вспоминал дальний родственник Лермонтова И. А. Арсеньев. К тому же Михаил Юрьевич с точки зрения психического здоровья обладал очень нехорошей наследственностью. Среди родственников, в роду Лермантовых, Арсеньевых и Столыпиных, было много больных психическими заболеваниями и неврозами, а также вспыльчивых, упрямых, аффективно несдержанных, психопатических личностей. Так и вышло, что в течение всей жизни Лермонтова необычайная врожденная нежность, поэтичность и музыкальность души его непостижимым образом уживалась с полученной в результате неправильного воспитания неутолимой жаждой первенствовать, властвовать, а временами и зло критиковать других. Раздвоенность его натуры понимали немногие, только самые близкие ему люди. Лермонтовых было два: замкнутый в себе, добрый, нежный, сентиментальный юноша-поэт, редко кому открывающий свою душу, и властный, вспыльчивый, резкий, ироничный, бесстрашный офицер. Внешне, на людях, в обществе это был характер неспокойный, неприятно бурный, склонный к недопустимым выходкам, шалостям, подчас наивно-детским. По воспоминаниям писателя И. И. Панаева, подобные шалости Лермонтов нередко вытворял в доме своего издателя и редактора А. А. Краевского: «…Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры… разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах»[73]. А. А. Краевскому эти «школьные» выходки Лермонтова определенно не нравились, но «он поневоле переносил это от великого таланта». Временами у Лермонтова наступали приступы тяжелой «черной» меланхолии, тоски, страха смерти, жестокой психической депрессии. В эти периоды он оставлял учебу в пансионе, университете, Школе юнкеров или воинскую службу в полку, по нескольку дней мог не выходить из комнаты, лежа в кровати в каком-то молчаливом оцепенении. Читать и писать в эти дни он не мог, разговаривать и общаться ни с кем не желал. Николай I серьезно подозревал, что Лермонтов не совсем психически здоров. Так, на докладной записке шефа корпуса жандармов А. X. Бенкендорфа о стихотворении «Смерть поэта» царь написал такую резолюцию: «Приятные стихи, нечего сказать… Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он…»[74]. Конечно, Михаил Юрьевич не имел психических заболеваний в полном смысле этого слова, у него не было шизофрении или, скажем, маниакально-депрессивного психоза, но он периодически страдал определенным болезненным состоянием нервной системы, что можно по современной терминологии уложить в понятие «астенический невроз». Дважды у поэта наблюдались тяжелые реактивные психозы: в первый раз — в феврале 1837 года при столкновении и споре со своим родственником Н. А. Столыпиным по поводу обстоятельств гибели Пушкина, во второй раз — в апреле 1841-го, когда Михаил Юрьевич, хлопотавший об отставке, неожиданно получил предписание в 48 часов покинуть Петербург и отправиться в свой полк на Кавказ. Вообще у Михаила Юрьевича физическое состояние и здоровье было слабое, и он часто и подолгу болел. В детстве Миша Лермонтов страдал «худосочием», рахитом, золотухой, диатезом, «повышенной нервностью»; переболел корью в тяжелой форме, осложнившейся какой-то другой, неизвестной тяжелой болезнью, во время которой мальчик 3 года не мог встать с постели. В 1832 года в манеже Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров от удара копытом лошади 18-летний юнкер Лермонтов получил открытый перелом «кости ниже колена» (правой большеберцовой кости). Несмотря на 5-месячное лечение, кость плохо срослась, правая нога осталась деформированной, от чего Михаил в дальнейшем сильно прихрамывал. Иммунитет у Михаила Юрьевича был снижен. Поэтому в течение всей жизни он очень часто болел простудными и инфекционными заболеваниями, «ревматизмами». Особенно тяжелое инфекционное заболевание (вероятно, воспаление легких) перенес Лермонтов весной 1837 году, простудившись во время утомительной дороги из Петербурга в ссылку на Кавказ. Михаил Юрьевич имел маленький рост, некрасивую фигуру с очень большой головой и непомерно широким туловищем, выраженный кифоз (горб) из-за врожденной и приобретенной деформации шейного и грудного отдела позвоночника, был кривоног и страдал хромотой. Грудная клетка Лермонтова была деформирована от врожденного уродства костей и неправильного их развития в результате рахита. Из-за некрасивой фигуры товарищи по Московскому Благородному пансиону называли Мишу «лягушкой», а в Школе юнкеров он имел прозвище «Маешка» (производное от имени горбатого и некрасивого персонажа французской литературы Mayeux). Михаил Юрьевич осознавал свою некрасивость и, вероятно, в душе сильно страдал от этого. В юношеской повести[75] он воспроизвел себя в Вадиме-горбаче и описал жестокие страдания из-за того, что его, урода, не любит любимая им девушка. На неприятный внешний облик поэта указывали многие его современники. Великий русский писатель И. С. Тургенев писал: «В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз… Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное…»[76]. Однополчанин Лермонтова А. Ф. Тиран вспомнил случай, когда их вдвоем отправили на дежурство к великому князю Михаилу Павловичу. Старый казак, когда они явились, долго смотрел на Лермонтова, затем покачал головой и сказал: «Неужто лучше этого урода не нашли кого на ординарцы посылать»[77]. Юному поклоннику поэта К. А. Бороздину, заочно восторгавшемуся им и знавшему наизусть многие его стихи, Михаил Юрьевич «рисовался в воображении чем-то идеально прекрасным, носящим на своем челе печать высокого своего призвания». Увидев живого Лермонтова, он был потрясен: «Боже! Какое разочарование! Какая пропасть между моею фантазией и действительностью! Корявый какой-то офицер — и это Лермонтов! Огромная голова, широкий… лоб, выдающиеся скулы, лицо коротенькое… угрястое и желтоватое, нос вздернутый, фыркающий ноздрями, реденькие усики и волосы на голове, коротко остриженные. Но зато какие глаза! То были… щели, полные злости и ума… С лица Лермонтова не сходила сардоническая улыбка… Помимо его безобразия, я видел в нем столько злости»[78]. Как выразилась дальняя родственница Лермонтова В. И. Анненкова, «душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика»[79]. Вероятно, у всех гениальных людей — трудные характеры. В истории превыше всего должна быть правда. Поэтому не будем приукрашивать Лермонтова, а прислушаемся к мнению его современников. Вот какую характеристику дал Михаилу Юрьевичу его родственник И. А. Арсеньев: «Одаренный от природы блестящими способностями и редким умом, Лермонтов любил проявлять свой ум, свою находчивость в насмешках над окружающею его средою и колкими, часто очень мелкими остротами оскорблял иногда людей… С таким характером, с такими наклонностями он вступил в жизнь и, понятно, тотчас же нашел себе множество врагов. Как поэт, Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек, он был… несносен»[80]. А вот высказывание товарища Михаила Юрьевича по Московскому университетскому пансиону Николая Сатина: «В пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать. „Пристанет, так не отстанет“, — говорили об нем… Эта юношеская наклонность привела его и к последней трагической дуэли!»[81] Привычка поэта к острым, злым шуткам сохранилась у Лермонтова и после его возмужания, став неотъемлемой чертой его характера. Об этом вспоминал однополчанин Лермонтова А. Ф. Тиран. Справедливости ради, нужно отметить, что А. Ф. Тиран, H. М. Сатин были в довольно-таки прохладных отношениях с талантливым поэтом. Не наговаривали ли они на него? Но вот мнения людей, хорошо относившихся к поэту или друживших с ним. Князь Александр Мещерский: «Сблизившись с Лермонтовым, я убедился, что изощрять свой ум в насмешках и остротах постоянно над намеченной им в обществе жертвой составляло одну из резких особенностей его характера»[82]. Товарищ Михаила Юрьевича по салону Карамзиных камер-юнкер H. М. Смирнов: «Все приятели ожидали сего печального конца, ибо знали его страсть насмехаться и его готовность отвечать за свои насмешки»[83]. Молодой кавказский офицер А. Д. Есаков вспоминал, что Лермонтов часто говорил с ним в тоне насмешки. Однако когда Михаил Юрьевич замечал, что Есаков теряет терпение, он ласковым словом, добрым взглядом унимал пыл молодого офицера, и они оставались в дружеских отношениях. Писатель И. И. Панаев рассказывает: «Я много слышал о Лермонтове от его школьных и полковых товарищей. По их словам, он был любим очень немногими, только теми, с которыми был близок, но и с близкими людьми он не был сообщителен. У него была страсть отыскивать в каждом своем знакомом какую-нибудь комическую сторону, какую-нибудь слабость, и, отыскав ее, он упорно и постоянно преследовал такого человека, подтрунивал над ним и выводил его наконец из терпения… Он непременно должен был кончить так трагически: не Мартынов, так кто-нибудь другой убил бы его»[84]. Итак, люди, доброжелательно относящиеся к поэту, также как и недруги его, дружно приходят к выводу, что из-за особенностей своего характера Михаил Юрьевич с неизбежностью подставлял свою грудь под пулю одного из обиженных. Ведь не все офицеры, подобно Есакову, способны были на понимание и прощение поэта за его насмешки и дерзкие выходки. А дуэли в то время были очень частым явлением. Однополчанин Лермонтова вспоминал: «…мы любили друг друга, но жизнь была для нас копейка: раз за обедом подтрунивали над одним из наших, что с его ли фигурою ухаживать за дамами, а после обеда — дуэль…»[85]Дуэли Лермонтова
До поединка с Мартыновым Лермонтов уже имел опыт участия в двух дуэлях. В материалах В. X. Хохрякова[86], первого биографа поэта, имеется указание на то, что Михаил Юрьевич около 1830 года стрелялся на дуэли со Столыпиным из-за своей двоюродной сестры. Обстоятельства этой юношеской дуэли поэта для лермонтоведов до сих пор покрыты мраком неизвестности. Вторая дуэль Лермонтова, состоявшаяся 18 февраля 1840 года с сыном французского посланника в России Эрнестом де Барантом, получила большую известность. Виновницами ссоры Лермонтова и Баранта были молодая княгиня Мария Щербатова, за которой оба настойчиво ухаживали, а также поклонница Баранта Тереза фон Бахерахт. Уязвленная и душимая ревностью, Тереза внушила Эрнесту о якобы непочтительном отношении к нему Лермонтова. Дуэль проходила на Парголовской дороге под Петербургом при секундантах А. А. Столыпине (Монго) со стороны Лермонтова и Рауле д’Англесе со стороны француза. По условиям сначала дрались на шпагах до «первой крови». При этом конец шпаги Лермонтова переломился. Барант сделал выпад против безоружного противника, но поскользнулся и в итоге лишь оцарапал грудь и руку Лермонтову. Перешли на пистолеты. С расстояния в 20 шагов Барант выстрелил первым и промахнулся. Лермонтов великодушно выстрелил в сторону, после чего противники помирились. В результате дуэли Михаил Юрьевич получил от шпаги француза две неглубокие раны мягких тканей (правой половины грудной клетки и правого предплечья), которые через некоторое время зажили, а также «заработал» свою вторую ссылку на Кавказ. Дуэль с Мартыновым была третьей в жизни поэта. С именем Лермонтова связывают еще 5 околодуэльных и преддуэльных ситуаций. Сразу же следует опровергнуть утверждение, что Михаил Юрьевич стрелялся на дуэли во время службы в лейб-гвардии Гусарском полку с А. Н. Долгоруким. В обнаруженной рукописи их однополчанина А. Ф. Тирана в одном месте чужим почерком вписано, что «Лермонтов стрелялся с Долгоруким, которого он убил»[87]. Эта неизвестно кому принадлежащая запись оказалась ошибочной, так как путем исторических изысканий было установлено, что А. Н. Долгорукий был убит на дуэли В. В. Яшвилем в 1842 году, когда прах Лермонтова уже покоился в земле. Преддуэльная ситуация сложилась в декабре 1834-го — январе 1835 года между Михаилом Юрьевичем и его другом детства Алексеем Лопухиным. В основе ее лежал любовный треугольник: богатый жених с 5 тыс. крепостных душ Лопухин, петербургская красавица — кокетка Катенька Сушкова (предмет детского увлечения Миши) и возмужавший 20-летний корнет Лермонтов. Е. А. Сушкова впоследствии вспоминала: «Вечером приехал к нам Мишель, расстроенный, бледный; улучил минуту уведомить меня, что Л<опу>хин приехал, что он ревнует, что встреча их была как встреча двух врагов и что Л<опу>хин намекнул ему, что… он не прочь и от дуэли…»[88]. По ее словам, Лермонтов заявил, что если она не решит, кого из двух выбрать, то пусть предоставит выбрать «судьбе или правильнее сказать: пистолету». Следует отметить, что к 1834 году Михаил уже не имел чувства к Сушковой и лишь подсмеивался над ней, играл роль влюбленного, мстя за свои детские слезы, пролитые много лет назад по вине этой бессердечной кокетки. Тем не менее, по законам дворянской чести Лопухин должен был, безусловно, вызвать Лермонтова, ведь Алексей был как-никак нареченный жених, а Лермонтов фактически сорвал ему свадьбу, опорочил невесту. Но дуэль между друзьями детства не состоялась. Лихой армейский офицер Н. П. Колюбакин (1811–1868) являлся прототипом Грушницкого в романе «Герой нашего времени». Но мало кто знает, что Колюбакин — «Грушницкий», «убитый» на страницах романа Печориным, в реальной жизни имел возможность отомстить за свой литературный персонаж на дуэли самому автору произведения. Николай Петрович служил поручиком в Оренбургскомуланском полку и за пощечину своему полковому командиру в 1835 году был разжалован в солдаты Нижегородского драгунского полка. Колюбакин и Лермонтов познакомились в Пятигорске в 1837-м. Склонный к позе и громким фразам Колюбакин — «вылитый» Грушницкий, что отмечали многие современники. Колюбакин в конце 1837 года короткое время служил вместе с Михаилом Юрьевичем на Кавказе. Как-то ему довелось вместе с Лермонтовым и еще двумя офицерами ехать в нанятой повозке до Георгиевска. Вот обстоятельства ссоры и несостоявшейся дуэли в пересказе К. А. Бороздина: «В числе четверых находился и Лермонтов. Он сумел со всеми тремя своими попутчиками до того перессориться на дороге и каждого из них так оскорбить, что все трое ему сделали вызов, он должен был наконец вылезть из фургона и шел пешком до тех пор, пока не приискали ему казаки верховой лошади, которую он купил. В Георгиевске выбранные секунданты не нашли возможным допустить подобной дуэли: троих против одного, считая ее за смертоубийство, и не без труда уладили дело примирением, впрочем, очень холодным»[89]. Лишь чудом не состоялась дуэль между М. Ю. Лермонтовым и лихим кавказским офицером Р. И. Дороховым при первой встрече их в 1840 году, когда оба они участвовали в экспедиции против чеченцев в составе отряда Галафеева. Руфин Иванович имел репутацию бретера[90], он дрался на дуэлях 14(!) раз, за дуэли не раз наказывался разжалованием в солдаты и вновь выслуживался в офицеры благодаря своей дерзкой отваге. С первого взгляда Михаил Юрьевич сильно не понравился Руфину Ивановичу, и последний, как он сам признался в дальнейшем писателю А. В. Дружинину, всерьез намеревался проучить «столичную выскочку» на дуэли. Однако недоразумение удалось устранить, поединок не состоялся, более того, соперники стали в дальнейшем друзьями. Дорохов убедился, что в Лермонтове, несмотря на его внешне вызывающий вид, душа добрая. И когда вскоре Дорохов получил тяжелое ранение, он свою «команду охотников», таких же отчаянных головорезов, как он сам, передал под командование именно Лермонтову. Последняя околодуэльная ситуация сложилась у М. Ю. Лермонтова с молодым прапорщиком С. Д. Лисаневичем в Пятигорске в 1841 году. Но этой истории еще будет отведено место дальше. Как видим, молодой неуживчивый и бесстрашный офицер и смелый, дерзкий поэт мог закончить свой земной путь даже раньше 26 лет, погибнув совсем не от руки Мартынова, и тогда в историю черными буквами была бы навечно вписана фамилия совершенно другого «злодея».Судьбу решила монета
Как много в жизни случайностей и какую подчас счастливую или, наоборот, роковую роль играют они в судьбе того или иного человека! В середине мая 1841 года поручик Тенгинского пехотного полка М. Ю. Лермонтов и капитан Нижегородского драгунского полка А. А. Столыпин отбыли из Ставрополя, административного центра Кавказа того времени, направляясь в Дагестан, в крепость Темир-Хан-Шуру, где концентрировался экспедиционный отряд для штурма неприступного аула Чиркей. Алексей Аркадьевич Столыпин по прозвищу Монго[91] приходился двоюродным дядей Михаилу Юрьевичу, хотя и был на 2 года моложе его. Друзья сами напросились в экспедицию в штабе войск Кавказской линии, так как справедливо считали, что, участвуя в боевых действиях, им будет легче отличиться, заслужить прощение и выхлопотать себе отставку у Николая I. В подорожной, датированной 10 мая и подписанной главнокомандующим войсками Кавказской линии генералом Граббе, предписывалось: «От города Ставрополя до крепости Темир-Хан-Шуры Тенгинского пехотного полка господину поручику Лермонтову… давать по две лошади с проводником, за указанные прогоны, без задержания». По дороге Лермонтов и Монго дважды повстречали ремонтера[92]Борисоглебского уланского полка корнета П. И. Магденко, чьи воспоминания дошли до наших дней и пролили свет на неожиданное изменение маршрута Лермонтова и Столыпина. Вторая встреча приятелей с Петром Магденко состоялась поздним вечером в Георгиевске, располагавшемся в 40 верстах от Пятигорска. Дальше дороги невольных попутчиков расходились: путь улана лежал через Пятигорск, а два друга должны были отправляться в другую сторону, для борьбы с непокорным Шамилем. Несмотря на приближающуюся ночь, Лермонтов и Столыпин решили ехать не откладывая и велели закладывать лошадей. Но путешествовать ночью было небезопасно, тем более что за несколько дней до этого недалеко от Георгиевска черкесы зарезали унтер-офицера. На предостережения Лермонтов дерзко вскричал, что он «старый кавказец и его не запугаешь». Однако разразился страшный ливень, который сильнее доводов попутчиков подействовал на Михаила Юрьевича, решившего тоже переночевать в Георгиевске. Сели пить чай, на столе появилось кахетинское, и потекла веселая, непринужденная беседа. Улан откровенно признался, что не понимает влечения друзей к трудностям боевой жизни и с упоением стал рассказывать об удовольствиях, которые ожидают его в Пятигорске, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, конечно, доступны не будут. Друзья лишь посмеивались над ним. Путешественники разошлись по комнатам, но слова улана разбередили кровавые раны в душе Михаила Юрьевича. Возможно, часть ночи поэт не спал, размышляя, как ему поступить. Он был, словно витязь, на перепутье двух дорог: налево пойдешь — в Шуру попадешь, под пули свирепых горцев Шамиля, но можешь получить не смертельное, а более легкое ранение, а это уже отставка; направо пойдешь — встретишь милый с детства, веселый Пятигорск, чудно хороший в эти майские дни, а это передышка после долгой и скверной дороги, которую Михаил Юрьевич всегда плохо переносил, которая обостряла все его болезни. Пятигорск, наконец, это возможность хотя бы на время отдаться всецело поэтическим замыслам, заняться литературной работой. Рождающаяся и бурно разрастающаяся песня стихов просилась вырваться наружу из каменного остова черепа, пролиться на бумагу стройными, ритмичными рядами букв и улететь в мир волшебной мелодией звуков, вызывая в сердцах многих поколений землян чувства глубокой грусти, любви и красоты. К утру в голове Михаила Юрьевича созрело решение. Он положил довериться воле слепого жребия. Не зря он был автором «Фаталиста». Так подброшенная кверху монетка предрешила роковым образом судьбу М. Ю. Лермонтова, начертав ему скорую гибель от руки бывшего приятеля. Но послушаем свидетеля, беззаботного и добродушного Петра Магденко: «На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: „Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще несколько имен); поедем в Пятигорск“. Столыпин отвечал, что это невозможно. „Почему, — быстро спросил Лермонтов, — там комендант старый Ильяшенко, и являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск“. С этим словами Лермонтов вышел из комнаты… Столыпин сидел, задумавшись… Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном: „Столыпин, едем в Пятигорск! — С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: — Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом — едем в отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?“ Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен, и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: „В Пятигорск, в Пятигорск!“».[93] Несмотря на проливной дождь, по настоянию Лермонтова немедленно отправились в путь. Ведь до Пятигорска был всего один перегон. Попутчиков обдавало целым потоком дождя. Михаил Юрьевич говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии. Промокшие до костей, приехали в Пятигорск, остановились в гостинице Найтаки, переоделись. Когда через несколько минут попутчики встретились в номере у Магденко, Михаил Юрьевич, потирая руки от удовольствия, сообщил Столыпину: «Ведь и Мартышка, Мартышка здесь!» Да, Мартынов с конца апреля находился в Пятигорске и ходил по городу с мрачной физиономией обиженного судьбой человека. И не знал он еще, что злой рок только что присудил ему стать убийцей великого русского поэта.Кавказский Монако
В Пятигорске в ту весну было необыкновенно хорошо. Городок был в цвету. В воздухе стоял аромат белой акации. Рядом с городом возвышались Машук и Бештау, а вдали виднелась цепь снежных гор с Эльбрусом во главе, красивым розовым цветом покрывавшихся на закате. А когда приходила прохлада ночи, отчетливо слышалось в тишине таинственное журчание источников. «Сезон в 1841 г. был одним из самых блестящих»,[94] — вспоминал А. И. Арнольди. Съехалось тогда в Пятигорск около 1500 семей. И не только больных привлекал этот небольшой городок с волшебными целебными источниками, способными, как казалось, воскресить мертвых. В Пятигорске была веселая, привольная жизнь, а нравы были просты. Сюда стекались кавказские офицеры в свободное от боевых действий время, в отпуск и частенько даже самовольно. Аристократы и люди попроще со всей России стали находить удовольствие в поездках для отдыха и всевозможных увеселений в этот райский уголок Земли. Очаровательные барышни с тонкой талией и пышным бюстом и другими прелестями устремлялись сюда в поисках счастья и приключений. Помимо прочего, Пятигорск слыл тогда городком картежным, вроде кавказского Монако. Вот каким увидел Пятигорск весной 1841 года М. Ю. Лермонтов:Соседи
Волею судьбы сложилось так, что все участники и свидетели предстоящей драмы — роковой дуэли — поселились в Пятигорске в одном квартале города, вблизи друг друга. Лермонтов и Столыпин проживали во флигеле дома Чиляева, плац-майора военной комендатуры. Рядом, в этом же дворе, в большом доме Чиляева три комнаты занимали два молодых князя: 22-летний сын председателя Государственного совета России А. И. Васильчиков и родственник («свояк») Лермонтова С. В. Трубецкой. Далее, на углу, ближе к Машуку, в доме и флигеле Уманова жили бывшие однополчане Лермонтова А. И. Арнольди и А. Ф. Тиран со своими родственниками. По улице, спускавшейся к Подкумку, в большом каменном доме проживало семейство генерала Верзилина. У Верзилина на противоположном углу квартала был второй дом (флигель), который он сдавал приезжим. Дом для приезжих был разделен коридором на две половины. С одной стороны коридора комнаты занимали приятель Верзилина полковник А. П. Зельмиц с двумя непривлекательными, неинтересными дочерьми, по другую сторону коридора в отдельных комнатах проживали подпоручик Н. П. Раевский, корнет М. П. Глебов и отставной майор Н. С. Мартынов. На этой живописной окраине города оказалось два центра притяжения: квартира Лермонтова с его гостеприимным и интересным хозяином и дом генерала П. С. Верзилина с очаровательными женскими грациями в нем. У Лермонтова бывало много степенных и солидных людей, как, например, полковники С. Д. Безобразов, В. С. Голицын и А. Л. Манзей, ссыльный декабрист Н. И. Лорер, художник Г. Г. Гагарин. Часто посещал домик Лермонтова родной брат великого русского поэта А. С. Пушкина майор Лев Сергеевич Пушкин, который всюду носил с собой большую баклажку с вином, никогда не пьянел и знал наизусть множество стихов и целых поэм разных авторов. Основу же лермонтовской «банды» молодежи составляли офицеры М. П. Глебов, Н. П. Раевский, С. В. Трубецкой, А. А. Столыпин, Р. И. Дорохов, юнкер А. П. Бенкендорф, поэт из Тифлиса М. В. Дмитревский и князь А. И. Васильчиков. Примыкал к этому кругу, хотя держался всегда несколько особняком, и Н. С. Мартынов. Молодые люди, которыми верховодил Лермонтов, были преимущественно в возрасте от 20 до 25 лет. Лермонтову к моменту дуэли было 26 лет 9 месяцев, Мартынову — 26 лет. Бывший наказной атаман Кавказского линейного войска генерал П. С. Верзилин в 1841 году отсутствовал в Пятигорске, так как был переведен на службу в Варшаву. Но его жена, Мария Ивановна, была радушной, хлебосольной хозяйкой и охотно принимала всех в доме. Они поженились, имея от первых браков по одной дочери — Эмилию Александровну Клингенберг и Аграфену Петровну Верзилину От брака Верзилина и Марии Ивановны родилась третья дочь — Надежда Петровна Верзилина. К лету 1841 года Эмилии было 26 лет, Аграфене — 19, Надежде — 15. Три незамужние дочери привлекали в дом табуны молодых людей. Танцы, игры, музыкальные вечера почти ежедневно устраивались в доме. Здесь царило веселье, здесь влюблялись и ревновали. В Аграфене Петровне не было кокетства и особой женской «изюминки», к тому же она уже была просватана за ногайским приставом В. Н. Диковым. Эмилия Александровна Клингенберг (впоследствии — Шан-Гирей) была настолько красива, что ее прозвали «Роза Кавказа». Привлекаемые божественным ароматом розы вокруг нее буквально роем кружились молодые мужчины. Летом 1841 года Эмилия благосклонно относилась и к поклонению Николая Мартынова, и к ухаживаниям Лермонтова. И еще были поклонники. Сложная натура, недаром лермонтоведы предупреждают, что к ее воспоминаниям следует подходить с большой осторожностью и некоторыми сомнениями. Нам кажется, что Михаил Юрьевич был немножко опьянен ее прекрасными голубыми глазами, мелодичным контральто. Свое увлечение Михаил (учтите особенности его характера!) облачал в форму поддразнивания, подшучивания. Эмилия вспоминала: «В мае месяце 1841 года М. Ю. Лермонтов приехал в Пятигорск и был представлен нам в числе прочей молодежи. Он нисколько не ухаживал за мной, а находил особенное удовольствие дразнить меня. Я отделывалась, как могла, то шуткою, то молчанием, ему же крепко хотелось меня рассердить; я долго не поддавалась, наконец, это мне надоело, и я однажды сказала Лермонтову, что не буду с ним говорить и прошу его оставить меня в покое. Но, по-видимому, игра эта его забавляла… и он не переставал меня злить. Однажды он довел меня почти до слез: я вспылила и сказала, что, ежели бы я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. Он как будто остался доволен, что, наконец вывел меня из терпения, просил прощенья, и мы помирились, конечно, ненадолго…»[95] Младшая дочь Верзилина, Надежда Петровна, «бело-розовая кукла», как ее некоторые называли, несмотря на свой юный возраст, имела уже много поклонников, главными среди которых были молодой прапорщик Лисаневич и опять же Мартынов. Страдал по ней и Михаил Глебов. Лермонтов написал шуточное стихотворение, в котором изобразил трех девушек и ухаживающую за ними молодежь:Мартынов
Николай Соломонович Мартынов (1815–1875) — дворянин, сын пензенского помещика полковника Соломона Михайловича Мартынова. Последний нажил приличное состояние от московских винных откупов. Детство и юность Николая прошли в Москве, где прочно пустило корни большое семейство Мартыновых. Мать Николая, Елизавета Михайловна, любила и заботилась о нем. У него был брат Михаил, 1814 года рождения, однокурсник Лермонтова по Школе юнкеров, выпущенный в Кирасирский полк; старшие сестры Елизавета и Екатерина и младшие — Наталья (1819 года рождения) и Юлия (1821 года рождения). Последняя к 1841 году была уже замужем за князем Л. А. Гагариным, а Наталья Соломоновна не была еще ни с кем скреплена узами брака. Знаменитый карточный шулер Савва Мартынов приходился родным дядей Николаю. Имение Мартыновых Знаменское-Иевлево находилось недалеко от Москвы, близ Середниково, где в 1829–1832 годах юный Миша Лермонтов мог встречаться с Мартыновыми. Николай Соломонович учился вместе с Лермонтовым в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербурге. Его выпуск был следующим за выпуском Лермонтова и старшего брата своего, Михаила. В Школе юнкеров выходил самиздатом журнал «Школьная заря», в котором, по отзыву А. Ф. Тирана, главное участие принимали двое — Лермонтов и Николай Мартынов. «Мартынов писал прозу, — вспоминал А. Ф. Тиран, — его звали homme feroce[102]: бывало, явится кто из отпуска поздно ночью: „Ух, как холодно!..“ — „Очень холодно?“ — „Ужасно“. Мартынов в одной рубашке идет на плац, потом, конечно, болен. Или говорят: „А здоров такой-то? Какая у него грудь славная“. — „А разве у меня не хороша?“ — „Все ж не так“. — „Да ты попробуй, ты ударь меня по груди“… Его и хватят так, что опять болен на целый месяц»[103]. Смотрите, какое самомнение было у Мартынова уже с юных лет! В Школе юнкеров Лермонтов и Николай Мартынов были хорошо знакомы друг с другом. Поскольку Лермонтов поступил в Школу на год раньше, то к моменту зачисления младшего Мартынова, Николая, он был уже бывалым «стариком». Н. Мартынову, как и другим новичкам, доставалось от шуточных проделок старших юнкеров. Вот впечатления «зеленого» юнкера Мартынова: «Как скоро наступало время ложиться спать, Лермонтов собирал товарищей в своей камере; один на другого садились верхом; сидящий кавалерист покрывал и себя и лошадь своею простыней, а в руке каждый всадник держал по стакану воды; эту конницу Лермонтов называл „Нумидийским эскадроном“. Выжидали время, когда обреченные жертвы заснут, по данному сигналу эскадрон трогался с места в глубокой тишине, окружал постель несчастного и, внезапно сорвав с него одеяло, каждый выливал на него свой стакан воды. Вслед за этим действием кавалерия трогалась с правой ноги в галоп обратно в свою камеру. Можно себе представить испуг и неприятное положение страдальца, вымоченного с головы до ног…»[104]. Этим «страдальцем», очевидно, не один раз становился сам Николай. Лермонтов и Мартынов вместе обучались в Школе юнкеров, но друзьями не были. Вспоминая юнкера Лермонтова, Н. С. Мартынов дает ему пренебрежительные характеристики: и «наружность его была весьма невзрачна: маленький ростом, кривоногий, с большой головой», и глаза у него бегали с неимоверной быстротой («таким образом передвигаются глаза у зверей»), и что «сложен был дурно», поэтому «не мог быть красив на лошади», и что «по пешему фронту Лермонтов был очень плох» и т. п. Само собой разумеется, Мартынов считал себя и более красивым, и более способным в воинской службе. В Школе Мартынов и Лермонтов были яростными соперниками в фехтовальном зале. Никто из них не хотел уступать! «По пятницам у нас учили фехтованию, — вспоминал Мартынов. — Я гораздо охотнее дрался на саблях. В числе моих товарищей только двое умели и любили, так же как я, это занятие: то были гродненский гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, и эти полутеатральные представления привлекали много публики из товарищей…»[105]. Вот она, жажда соперничества, дух противоборства, дух борьбы (и не только на спортивной площадке!), заложившийся в них с юных лет. Они не были близкими друзьями и приятелями, как это изображают многие лермонтоведы. Просто волею судьбы их жизненные дороги с юных лет и до трагической развязки многократно пересекались. Лермонтов был признанным всеми заводилой, лидером во всех делах. Мартынов же завидовал лидерству Лермонтова, считал себя еще с ранней молодости выше Лермонтова во всех отношениях и, очевидно, с юных лет глубоко внутри него отложились чувства недружелюбия, зависти к Лермонтову, соперничества с ним. Из Школы юнкеров Николай Мартынов был выпущен в декабре 1835 года корнетом в Кавалергардский полк. Это был лучший, первый гвардейский полк, с развитым духом преклонения офицеров императору и императрице. Кавалергарды считали себя на особом положении по сравнению с офицерами других частей, ведь они служили при дворе, являлись «телохранителями» членов царской фамилии, непременными посетителями великосветских балов. Однополчанами Мартынова в это время был Жорж Дантес, фаворит императрицы Александр Васильевич Трубецкой. Кавалергарды не любили и презирали и Пушкина, и Лермонтова. Не случайно именно от руки кавалергардов погибли оба великих поэта. Жорж Дантес глубоко презирал русских и даже не считал нужным выучить русский язык. После дуэли его с А. С. Пушкиным кавалергарды дружно встали на защиту Дантеса. Лермонтова они не любили и не простили ему стихотворения «Смерть поэта». После гибели Лермонтова П. А. Ефремов говорил историку полка С. Панчулидзеву: «У вашего полка два убийцы»[106], имея в виду Ж. Дантеса и Н. Мартынова — кавалергардов одного поколения. Вот в какую среду попал после окончания Школы юнкеров Н. С. Мартынов! И он быстро стал «своим» в этой среде, охотно приняв все полковые обычаи, привычки, восприняв сам дух кавалергардов. С удовольствием посещал он петербургские салоны. «В молодости Мартынов был очень красив: он был высокого роста, прекрасно сложен. Волосы на голове темно-русые, всегда носил он коротко остриженными; большие усы, спускавшиеся по углам рта, придавали физиономии внушительный вид… Образован он был весьма хорошо, манеры вполне изящные»[107]. Мартынов выглядел внушительно, но был бесхарактерным, всегда находился под чьим-либо посторонним влиянием. Николай жаждал сделать военную карьеру, дослужиться до генерала. Продвижение в «мирном» Петербурге шло, по его мнению, очень уж медленно. В то время бушевала война на Кавказе, а на театре военных действий продвинуться по службе можно было значительно быстрее. И Мартынов в 1837 году отправился волонтером на Кавказ, будучи прикомандирован к Нижегородскому драгунскому полку. По утверждению князя А. В. Мещерского, в выборе полка Мартыновым сыграла роль военная форма, ибо «мундир этого полка славился тогда, совершенно справедливо, как один из самых красивых в нашей кавалерии. Я видел Мартынова в этой форме; она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой»[108]. Форма Нижегородского драгунского полка состояла из красивой белой куртки с кушаком, шаровар, шашки через плечо, кивера гречневиком из черного барашка с огромным козырьком. По пути к месту службы Николай встречался в Москве с Михаилом Юрьевичем, который также ехал на Кавказ, в ссылку. Вместе обедали в ресторане «У Яра», Лермонтов посещал семью Мартыновых, где были незамужние дочери. Внешне отношения между Лермонтовым и Мартыновым были товарищескими. Хочешь не хочешь, а ведь сейчас они оказались как бы однополчанами, одев форму Нижегородского драгунского полка, один — добровольно, другой — по принуждению. Мартынов, прибывший на Кавказ, был уверен, что всех удивит своею храбростью, что сделает блестящую карьеру. Он только и думал о наградах. «В Ставрополе, у генерал-адъютанта Граббе, за обеденным столом, много и долго с уверенностью говорил Мартынов о блестящей будущности, которая его ожидает, так что Павел Христофорович должен был охладить пылкого офицера и пояснить ему, что на Кавказе храбростью не удивишь, а потому и награды не так-то легко даются. Да и говорить с пренебрежением о кавказских воинах не годится»[109]. По военным планам 1837 года, Нижегородский драгунский полк не должен был участвовать в активных боевых действиях. Поэтому жаждавший отличиться Мартынов записался участвовать в закубанской экспедиции А. А. Вельяминова. Лермонтов тоже был приписан к отряду Вельяминова, но заболел в дороге и был отправлен на лечение в госпиталь, а затем — на воды. В Пятигорске Лермонтов вновь встречался с семьей Мартынова — отцом, матерью, сестрами, отдыхавшими и лечившимися на водах. Когда Лермонтов, выздоровев, в сентябре 1837 года отправился из Пятигорска в экспедиционный отрад, находившийся в районе Геленджика, сестры и родители Мартынова передали Михаилу Юрьевичу пакет с письмами, вложив туда 300 рублей денег для передачи Николаю Соломоновичу. В Тамани Лермонтова обокрали, и пакет с письмами исчез вместе с ценными вещами Лермонтова. Это достоверный исторический эпизод, а не просто литературный вымысел, попавший на страницы «Героя нашего времени». Встреча Лермонтова с Мартыновым произошла 29 сентября 1837 года в Ольгинском укреплении, где размещался походный штаб генерала Вельяминова. Известив Николая Соломоновича, что пакет с письмами его родных был похищен, он отдал ему 300 рублей своих собственных денег взамен утерянных. На этом эпизод был исчерпан, Н. Мартынов даже не хотел вначале брать эти 300 рублей, говоря, что раз деньги украдены, то с какой стати Лермонтову их возвращать. Но все же деньги он взял. Через некоторое время Лермонтов и Мартынов разъехались, каждый в свое подразделение Нижегородского драгунского полка, так как экспедиционный отряд был распущен. Мартынов 21 апреля 1838 года вернулся в свой Кавалергардский полк и в Петербурге в 1838–1839 годах неоднократно встречался с Лермонтовым, не предъявляя никаких претензий относительно пропавших писем. 30 октября 1839 года Мартынова неожиданно переводят на Кавказ в чине ротмистра Гребенского казачьего полка. Предполагают, что причинами перевода послужили нечестная игра в карты и… «странный характер» Николая Соломоновича, который не смогли стерпеть даже кавалергарды. И вновь Лермонтов и Мартынов встретились на Кавказе — летом и осенью 1840 года они находились в экспедиционном отряде генерала Галафеева в Чечне и Дагестане. Оба они были участниками кровопролитного сражения у речки Валерик. Лермонтов командовал сотней «охотников», доставшейся ему от Дорохова, Мартынов — линейцами. Н. Мартынов имел за военную службу 27 высочайших благодарностей, а за участие в 1837 году в экспедиции против горцев был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом. За участие в боевых действиях на Кавказе в 1840 года в ордене ему было отказано. Но, тем не менее, это был не робкий офицер, неплохо проявивший себя на полях сражений. Правда, многие мемуаристы называли Мартынова трусоватым, осторожным и нерешительным человеком. Но это в большей степени касалось тех или иных жизненных ситуаций мирной жизни, и в меньшей степени — его воинской службы. К сожалению, Мартынов хвалился сожженными аулами и посевами, угоном скота, истребленными чеченцами, тогда как Михаил Юрьевич переживал за подобные жесткие и чрезмерно кровопролитные действия русских войск, ведомых царскими генералами. Лермонтов был против сеяния вражды между русскими и чеченцами. Словно предчувствовал великий поэт, какой бедой это может обернуться через много-много лет. И видя сегодня устремленные на тебя горящие ненавистью глаза какого-нибудь 8-летнего чеченского мальчика, люто ненавидящего тебя уже только за то, что ты русский, впитавшего эту ненависть с молоком матери, не можешь не сожалеть о том, что мы, русская нация, ведомая Романовыми, сделали на Кавказе полтора-два века назад. И много веков нужно сейчас для примирения наших народов. Сразу вспоминаются строки Михаила Лермонтова из стихотворения «Валерик»:Дикарь с большим кинжалом
Для того, чтобы свершился поединок Лермонтова и Мартынова в пятигорское лето 1841 года, существовали весьма благоприятные условия. Дуэль не только не была случайностью, как это представляется большинству литераторов и историков, — она была неизбежна. Случаен приезд в Пятигорск Мартынова, с позором расставшегося со своим полком, но не уехавшего сразу к родителям в Москву. Случаен приезд в Пятигорск Лермонтова, доверившего судьбу воле слепого жребия и, к тому же, самовольно изменившего предписанный ему воинский маршрут. Но сам поединок случайно встретившихся старых знакомых был закономерен. Более того, если бы он не состоялся, можно было бы только удивиться. Помимо того, что гений русской поэзии в жизни обладал несносным характером, помимо того, что его втайне всегда недолюбливал Николай Соломонович, важнейшим фоном, на котором разыгралось трагическое противостояние Мартынова и Лермонтова, завершившееся роковой дуэлью, являлось уязвленное самолюбие Мартынова, состояние психического стресса, обусловленного крахом военной карьеры, жизненно значимой для Николая Соломоновича. В подобном состоянии он готов был вызвать не только Лермонтова, но и любого другого «обидчика», причем даже по ничтожному, малозначащему поводу. П. А. Висковатов, много передумавший об убийце, писал: «В сущности добродушный человек, он, при огромном самолюбии, особенно когда оно было уязвлено, мог доходить до величайшего озлобления»[113]. Надо же было так случиться, что в сложный период разлома жизни Мартынова судьба подкинула ему Лермонтова, человека, которого он совершенно не мог терпеть. Конкретных же причин для поединка было несколько, то есть дуэль была полиэтиологична. Одной из главных причин дуэли были насмешки Лермонтова над внешним видом Мартынова. «Николай Соломонович Мартынов поселился в домике для приезжих позже нас, — рассказывал Н. П. Раевский, — и явился к нам истым денди á la Circassienne[114]. Он брил по-черкесски голову и носил необъятной величины кинжал, из-за которого Михаил Юрьевич и прозвал его poignard’ом[115]. Эта кличка, приставшая к Мартынову еще больше, чем другие лермонтовские прозвища, и была главной причиной их дуэли, наравне с другими маленькими делами, поведшими за собой большиепоследствия»[116]. Константин Любомирский описал в письме к друзьям «отставного офицера Мартынова, который волочился за одной из водяниц и уморительно одевался»: «Он носил азиатский костюм, за поясом пистолет, через плечо на земле плеть, прическу á la мужик и французские бакенбарды с козлиным подбородком. Говорят, что Лермонтов по-приятельски несколько раз сказывал ему, как он смешон в этом шутовском виде, и советовал сбросить с себя эту дурь, наконец, нарисовал его в сидячем положении, державшегося обеими руками за ручку кинжала и объяснявшегося в любви, придав корпусу то положение или выражение, которое получает он при испражнении… Мартынов вызвал его на дуэль»[117]. В сущности, основой той своеобразной одежды, которую носил отставной майор Мартынов, была самовольно измененная форма Гребенского казачьего полка. Мы убедились в этом, изучая в специальной литературе формы одежды полков российской армии XIX века. Однако тут был именно такой случай, когда копия ничего общего не имеет с оригиналом. Мартынов делал большое количество изменений и добавлений к форме, менял цвета, изменял форму в зависимости от погоды и даже своего настроения. По большей части он носил белую черкеску и черный бархатный или шелковый бешмет или, наоборот, черную черкеску и белый бешмет. В дождливую погоду он надевал черную папаху, на гулянье являлся в белой. Рукава черкески он засучивал, что придавало всей фигуре его смелый и вызывающий вид. Независимо от того, где находился Мартынов, на пикнике ли, на балу или принимал минеральную воду из Елизаветинского источника, огромной величины кинжал всегда висел у него на поясе. К тому же Мартынов был фатоват и, сознавая свою красоту, высокий рост и прекрасное сложение, любил щеголять перед женским полом и производить эффект своим появлением. Странный внешний вид Мартынова замечали все, бывшие в тот год на водах. О нем упоминают в литературных воспоминаниях А. И. Арнольди, Н. И. Лорер, Э. А. Шан-Гирей, Н. Ф. Туровский. Е. Г. Быховец. В. И. Чяляев (в пересказе П. К. Мартьянова) и другие. Тихонько подсмеивались над внешним видом Николая Соломоновича многие, если не все. «Обрил голову, оделся совершенно по-черкесски и тем пленял, или думал пленять, здешнюю публику»[118], — ехидничает П. Т. Полеводин в своем письме. Мартынов не понимал крайней экстравагантности и вульгарности своего вида. Этот человек был недалеким, самоуверенным, совершенно лишенным самокритики. Данные Лермонтовым меткие прозвища «le sauvage au grand poignard», или «Montagnard au grand poignard», или просто «Monsieur le poignard»[119] моментально «приклеились» к Мартынову. За глаза так его величали многие. Мартынов держался заносчиво, считая себя первым красавцем, перед которым не устоит ни одна женщина. В мужских компаниях он любил описывать свои победы над прекрасным полом. Поэтому прозвище «кинжал», закрепившееся за ним, имело еще и другой, андрологический, смысл. Не любил Николай Соломонович и свое старое прозвище «Мартышка», данное ему еще в Петербурге, в Школе юнкеров. Лицо его кривилось, когда его так называли Лермонтов, Тиран и другие однокашники по Школе юнкеров. Лермонтов, не видевший ничего обидного в этом прозвище, производном от фамилии, обращался к старинному знакомому своему в редких случаях по имени, а чаще всего именно «Мартышка!» Э. А. Шан-Гирей вспоминала: «Они (Лермонтов и Мартынов) постоянно пикировались[120], хотя были между собой на „ты“: Лермонтов называл его обыкновенно „Мартышкой“ и иными кличками»[121]. А эти «иные клички» были по-настоящему обидными — «горец», «кинжал» и даже «дикарь». Да, не мог человек, считающий себя самым лучшим, не обижаться на такие прозвища. Да еще слышать их от «маленького» офицера с «кривыми ногами», «плохого по пешему фронту» и не имеющего красивой посадки на лошади; к тому же, гонимого, сосланного, да и стихи пишущего не очень сильные. Лермонтов очень сердился, когда русские офицеры начинали подражать «азиатам». «Лермонтов, — писал Н. А. Кузминский, — всегда подсмеивался над теми из русских, которые старались подражать во всем кавказцам: брили себе головы, носили их костюмы, перенимали ухватки; последних в насмешку называл он l'armee russe[122]»[123]. Некоторые офицеры, долго служившие на Кавказе, с пренебрежением смотрели на новоприбывших из России, стремились показать свою опытность, мужественность, нося с шиком черкесскую одежду, кинжалы, разговаривая «по-татарски». В очерке «Кавказец» Михаил Юрьевич писал: «Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он настоящий, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его не беспокоят». И именно в Мартынове судьба ниспослала Лермонтову наивысшую степень подмеченного им явления, живую пародию на него. Вот почему внешний вид Мартынова необычайно раздражал писателя. Иронизируя над Мартыновым, Михаил Юрьевич высмеивал не только лично его, но и всю l'armee russe, «полуазиатских, полурусских существ». Из показаний на следствии отставного майора Мартынова: «С самого приезда моего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, где бы мог он сказать мне что-нибудь неприятное. Остроты, колкости, насмешки на мой счет, одним словом все, чем только можно досадить человеку, не касаясь до его чести Я показывал ему, как умел, что не намерен служить мишенью для его ума; но он делал вид, как будто не замечает, как я принимаю его шутки. Недели три тому назад, во время его болезни, я говорил с ним об этом откровенно, просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, но действительно перестал на несколько дней. Потом взялся опять за прежнее»[124]. Следует отметить, что в душе Лермонтов не был злым человеком, но был уж так устроен, что ради острого словца никого не щадил. Если Михаил Юрьевич замечал, что в своих остротах он заходил слишком далеко, что предмет его насмешек оскорблялся, он тут же извинялся, старался помириться. Это утверждают А. Д. Есаков, А. П. Шан-Гирей, Н. П. Раевский и другие. Но H. С. Мартынов имел особый склад характера, он не захотел мириться. Молодой князь Васильчиков, по словам П. А. Висковатова, отмечал, что «Лермонтов был в душе добрым человеком и, видя, что Мартынов им не на шутку обижен, старался смягчить, а не усиливать обиду. Мартынов же давно злился на Лермонтова. Удерживала его вспыльчивость наша общая дружеская компания. Впрочем, мы не раз говорили Лермонтову, чтобы он был осторожнее относительно Мартынова. Но Михаил Юрьевич мало обращал внимания на наши предостережения. Он был слишком жив и кипуч, чтобы сдерживать свою шаловливость»[125].Злой карандаш
Альбом карикатур, заведенный Лермонтовым и его ближайшими товарищами летом 1841 года, куда вписывалось или (чаще) зарисовывалось все наиболее примечательное, что происходило с ними в Пятигорске, является второй причиной дуэли. «У нас велся, — вспоминал Н. П. Раевский, — точный отчет об наших parties de plaisir[126]. Их выдающиеся эпизоды мы рисовали в „альбоме приключений“, в котором можно было найти все: и кавалькады, и пикники, и всех действующих лиц»[127]. Альбом вели преимущественно в виде шуточных карикатурных зарисовок. Поскольку Михаил Юрьевич был блестящим художником, то большинство рисунков выполнил именно он, превратившись таким образом в основного автора альбома. Хорошо рисовал и Сергей Трубецкой. Участвовали в оформлении шуточного альбома также Миша Глебов, Николай Раевский и некоторые другие лица из числа окружающей поэта молодежи. Альбом хранился то у Глебова, то у Лермонтова. В альбоме друзья никого не щадили — ведь он был шуточный! На одном из первых, центральных рисунков Лермонтов изобразил всю свою компанию перед окнами дома Верзилиных. Себя он нарисовал очень маленьким, сутуловатым, как кошка вцепившимся в огромного коня. Васильчиков был изображен длиннющим и худым. Длинноногий Столыпин серьезно и спокойно сидел на лошади. Впереди всей компании красовался Мартынов, в черкеске, с длинным кинжалом. Все они гарцевали на лошадях перед открытым окном, в котором видны были три женские головки (сестры Верзилины). Рисунков было много, шутили над всеми без исключения. Лермонтов и на себя делал иронические шаржи. Но ведь самым смешным в их компании был Мартынов. Поэтому ему и досталось больше всех в этом альбоме. «Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив; карикатуры (на него) его беспрестанно прибавлялись»,[128] — писала в письме Екатерина Быховец. Князь А. И. Васильчиков в беседе с биографом Лермонтова П. А. Висковатовым[129] вспомнил сцену из альбома, где Мартынов верхом въезжает в Пятигорск. Кругом восхищенные и пораженные его красотою дамы. И въезжающий герой, и многие дамы были замечательно похожи. Под рисунком была подпись «Monsieur le poignard faisant sin entree a Piatigorsk»[130]. Этот рисунок не содержит ничего обидного и даже мог льстить самолюбию Мартынова. Дальше в альбоме можно было видеть Мартынова, огромного роста, с громадным кинжалом от пояса до земли, объясняющегося с миниатюрной Надеждой Петровной Верзилиной, на поясе которой рисовался маленький кинжальчик. Комическую подпись князь Васильчиков не помнил. Изображался Мартынов часто на коне. Он ездил плохо, но с претензией, неестественно изгибаясь. Был рисунок, на котором Мартынов, в стычке с горцами, что-то кричит, махая кинжалом, сидя вполоборота на лошади, поворачивающей вспять. Михаил Юрьевич говорил: «Мартынов положительно храбрец, но только плохой ездок, и лошадь его боится выстрелов. Он в этом не виноват, что она их не выносит и скачет от них». На страницах альбома так и пестрели подрисуночные подписи на французском языке, обозначающие в переводе меткие прозвища Мартынова: «господин кинжал», «горец с большим кинжалом» или «дикарь с большим кинжалом». Лермонтов довел этот художественный тип до такой простоты, что уже просто рисовал характерную кривую линию, да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изобразил. Мужчины рассматривали альбом в интимном кругу, на первых порах не скрывая его от Мартынова. Поскольку художники не щадили ни себя, ни друзей, все веселились, сердиться было неудобно. Но Мартынов был своеобразным человеком, очень обидчивым и злопамятным. Он затаивал недовольство в себе, все более и более раздражаясь рисунками. Сам Лермонтов старался не показывать альбом Мартынову, вероятно, предполагая, что Мартынов может оскорбиться некоторыми рисунками. Наконец, настал момент, когда Мартынову совсем перестали показывать альбом из-за накопившегося большого количества острых оскорбительных карикатур на него. Так, на одном из рисунков был изображен Николай Соломонович в позе отправления большой надобности со своим огромным кинжалом на поясе, да, к тому же, объясняющийся в этот момент в любви к даме. Женщинам и лицам, не принадлежащим к тесному лермонтовскому кружку, альбом также старались не показывать. «Я часто забегал к соседу моему Лермонтову, — вспоминал А. И. Арнольди. — Однажды, войдя неожиданно к нему в комнату, я застал его лежащим на постели и что-то рассматривающим в сообществе С. Трубецкого и что они хотели, видимо, от меня скрыть. Позднее, заметив, что я пришел не вовремя, я хотел было уйти, но так как Лермонтов тогда же сказал: „Ну, этот ничего“, — то и остался. Шалуны товарищи показали мне тогда целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертали и раскрасили. Это была целая история в лицах вроде французских карикатур… где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов был изображен в самом смешном виде, то въезжающим в Пятигорск, то рассыпающимся пред какою-нибудь красавицей и проч. Эта-то шутка, приправленная часто в обществе злым сарказмом неугомонного Лермонтова, и была, как мне кажется, ядром той размолвки, которая кончилась так печально для Лермонтова»[131]. О существовании альбома знали сестры Верзилины, отдыхавшая на водах родственница Лермонтова Катя Быховец и, вероятно, еще некоторые дамы. Украдкой им могли показать альбом или рассказать о некоторых пикантных сценах из него. Эмилия Клингенберг видела «альбом, где Мартынов изображен был во всех видах и позах». Показ карикатур из альбома дамам особенно бесил Мартынова, постоянной заботой жизни которого был успех у женщин. П. А. Висковатов повествует: «Однажды он (Мартынов) вошел к себе, когда Лермонтов с Глебовым с хохотом что-то рассматривали или чертили в альбоме. На требование вошедшего показать, в чем дело, Лермонтов захлопнул альбом, а когда Мартынов, настаивая, хотел его выхватить, то Глебов здоровою рукою отстранил его, а Михаил Юрьевич, вырвав листок и спрятав его в карман, выбежал. Мартынов чуть не поссорился с Глебовым, который тщетно уверял его, что карикатура совсем к нему не относилась»[132]. Альбом хранился иногда у Глебова, а они с Мартыновым занимали одну квартиру Поэтому Николай Соломонович мог найти альбом и ознакомиться с той его частью, которая могла показаться оскорбительной и поэтому от него утаивалась. Показать ему альбом мог тайный недоброжелатель Лермонтова князь Васильчиков, о содержании обидных карикатур Мартынов мог узнать от Эмилии Клингенберг, Надежды Верзилиной, да и от других лиц при настойчивых расспросах или случайных оговорках. Да, у Лермонтова был острый, обличительный, злой карандаш! По нашему мнению, альбом шаржированных рисунков, просмотренный Мартыновым, привел его в такое состояние озлобления и ненависти к Лермонтову, что малозначащего, ничтожного повода было уже достаточно для вызова поэта на дуэль. Заряд был заложен, малейшей искры было достаточно, чтобы прогремел взрыв! После дуэли альбом исчез. Он не числится в посмертной описи вещей поэта, не фигурирует в материалах военно-судного дела. Найденный и представленный в виде вещественного доказательства, он мог бы облегчить участь Мартынова (хотя последний, по существу, и так не понес серьезного наказания), бросить тень на секундантов, особенно на Глебова, которые знали об альбоме и оказывали посильную помощь Лермонтову в его оформлении. По одним сведениям, альбом припрятал, а затем забрал себе на память М. Глебов. Эмилия Шан-Гирей[133] якобы видела этот альбом у него. Когда Глебов в 1847 году погиб в бою с горцами, альбом пропал вместе с другими вещами его[134]. По официальной версии лермонтоведов, альбом забрал с собой в Петербург А. А. Столыпин, который отправил его затем в свое имение в Пензенской губернии. Господский дом в имении обокрали, вместе с другими вещами был якобы похищен и альбом. Версия эта сомнительна: уж какую такую материальную ценность представлял альбом для воров, которые, скорее всего, и Лермонтова никогда не читали? Поэтому В. Захаров[135] предполагает, что Монго просто-напросто сжег альбом, чтобы не дать повода для кривотолков. Н. Кастрикин считает, что альбом шаржированных карикатур стал главной причиной дуэли. При этом он как бы оправдывает Николая Соломоновича словами: «Конечно, Мартынов нередко бывал претенциозен и смешон, но вряд ли этим можно оправдать беспощадность лермонтовских карикатур. Смешного поэт превратил в оскорбленного, трогательную подчас глупость — в справедливо возмущенную»[136].Утаенные письма
В 1881 году умер последний свидетель дуэли князь А. И. Васильчиков. Родственники Мартынова словно ждали этого момента. В печать потекли рассказы, имевшие цель реабилитировать Мартынова и очернить Лермонтова, свалив вину за дуэль на поэта. Нужно было доказать, что Лермонтов совершил в отношении семьи Мартыновых неблаговидные поступки, и Николай Соломонович, вызвав его на поединок, заступился за честь семьи. Были напечатаны выдержки из семейной переписки Мартыновых, рассказ друга семьи князя Д. Д. Оболенского и, наконец, «История дуэли М. Ю. Лермонтова с H. С. Мартыновым», написанная сыном убийцы[137]. На щит, в первую очередь, была поднята история с утерянными письмами, приведенная вкратце нами выше. Суть легенды Мартыновых состоит в том, что Лермонтов якобы распечатал письма родственников к Н. Мартынову и, найдя в них много для себя нелестного, не передал их Николаю Соломоновичу. Тем самым Лермонтов совершил бесчестный поступок, и Мартынов, узнав об этом, вызвал его на поединок. При этом доказательство виновности Лермонтова было построено на том, что отец (или сестры) Мартынова якобы не сказали Михаилу Юрьевичу о деньгах, вложенных в письма; узнать о вложенных деньгах он мог, только распечатав письма. Обратимся к двум документам, на основе которых создана была легенда об утаенных письмах. H. С. Мартынов пишет из Екатеринодара отцу 5 октября 1837 года: «Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил: но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти, вложенные в письме, также пропали, но он, само собою разумеется, отдал мне свои. Если вы помните содержание вашего письма, то сделайте одолжение — повторите; также и сестер попросите от меня»[138]. А сейчас — письмо к H. С. Мартынову его матери, Елизаветы Михайловны: «Москва, 6 ноября 1837 г. Я так тревожусь за тебя, мой добрый друг… Как мы все огорчены тем, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что в самом деле тебе бы пришлось читать много: твои сестры целый день писали их; я, кажется, сказала: „при сей верной оказии“. После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, как по почте; по крайней мере остается уверенность, что тебя не прочтут»[139]. Но в этих двух документах как раз и нет доказательств виновности Лермонтова, ибо о том, было ли сообщено Михаилу Юрьевичу о вложении денег в письма, или же он ничего не знал — ясности нет. Несомненно, он знал о вложении ассигнаций, и когда письма украли, отдал свои деньги. Несостоятельность легенды об утаенных письмах состоит, прежде всего, в том, что Лермонтов и Мартынов после 1837 года многократно встречались, и Мартынов не предъявлял к Михаилу Юрьевичу претензий, поддерживая внешне неплохие отношения. Охотно принимали Лермонтова в Москве, в семье Мартыновых, в 1840 году, не попрекая его и совершенно не поднимая вопроса о каком-то утаивании или прочтении им писем. Почему же Мартынов ждал почти 4 года с момента потери писем, а затем вдруг рассердился и вызвал Лермонтова на дуэль? На этот вопрос ответа нет. Легенда об утаенных письмах появилась в печати лишь в конце XIX века. Вот как ее представил «защитник» Мартыновых Д. Д. Оболенский: «В 1837 году уезжавшему из Пятигорска в экспедицию Лермонтову сестры[140] Мартынова поручили передать брату, Николаю Соломоновичу, письмо, не то целый пакет со своим дневником. В тот же пакет были вложены триста рублей ассигнациями, о чем Лермонтов ничего не знал. По словам одних, Лермонтову был вручен пакет с намеком прочесть этот дневник, по словам других, Лермонтов не имел права распечатывать это письмо. Как бы то ни было, случилось именно то, что Лермонтов, побуждаемый любопытством, распечатал пакет, чтобы прочесть дневник. Найдя в пакете триста рублей, он передал их H. С. Мартынову, но умолчал о дневнике и сказал лишь, что у него украли чемодан дорогой»[141]. То, что Лермонтов якобы ничего не знал о вложении денег, Д. Д. Оболенский ничем не доказывает. Просто включает в свою легенду и все. А вот как описывает историю с письмами однокашник Лермонтова по Школе юнкеров А. Ф. Тиран: «Проезжая через Москву, он <Лермонтов> был в семействе Мартынова, где бывал юнкером принят как родной. Мартынов из школы вышел прямо на Кавказ. Отец его принял Лермонтова очень хорошо и, при отправлении, просил передать письмо сыну. У Мартынова была сестра; она сказала, что в том же конверте и ее письмо. Дорогой Лермонтов, со скуки, что ли, распечатал письмо это, прочел и нашел в нем 300 рублей. Деньги он спрятал и при встрече с Мартыновым сказал ему, что письмо он потерял, а так как там были деньги, то он отдает свои. Между тем стали носиться по городу разные анекдоты и истории, основанные на проказах m-lle Мартыновой; брат пишет выговор сестре, что она так ветрено ведет себя, что даже Кавказ про нее рассказывает, — а отца благодарит за деньги, причем рассказывает прекрасный поступок Лермонтова. Отец отвечает, что удивляется, почему Лермонтов мог знать, что в письме деньги, если этого ему сказано не было и на конверте не написано; сестра пишет, что она писала ему, правда, всякий вздор, похожий на тот, про который он говорит, но то письмо потеряно Лермонтовым. Мартынов приходит к Лермонтову: „Ты прочел письмо ко мне?..“ — Да. — Подлец! Они дрались»[142]. А. Ф. Тиран неприязненно, пристрастно относился к Михаилу Юрьевичу. Предполагают, вследствие того, что он часто был предметом злых насмешек Лермонтова. В своих «Записках» он передает слухи, близкие к сплетне. «Записки» Тирана были опубликованы впервые в XX веке. Но написал он их в конце своей жизни (умер Александр Францевич в 1865 году). Таким образом, слухи об утаенных письмах расползались еще до публикации Д. Д. Оболенского. Но кому это было выгодно? Оказалось, что распускал эти слухи… сам H. С. Мартынов! Отбыв наказание в Киеве и приехав в Москву, он с начала 1850-х годов начал усиленно доказывать свою малую виновность в дуэли с Лермонтовым. Ф. Ф. Маурер, владелец богатого московского особняка, где Мартынов частенько вел крупную карточную игру, был свидетелем, когда Николай Соломонович в тесной мужской компании сказал: «Обиднее всего то, что все на свете думают, что дуэль моя с Лермонтовым состоялась из-за какой-то пустячной ссоры на вечере у Верзилиных. Между тем это не так. Я не сердился на Лермонтова за его шутки… Нет, поводом к раздору послужило то обстоятельство, что Лермонтов распечатал письмо, посланное с ним моей сестрой для передачи мне»[143]. Но ведь об этом письме Мартынов ничего не сообщил на следствии и суде. Упоминаний о письме нет в материалах военно-судного дела. Мемуаристы, описавшие дуэль по горячим следам, также ничего не сообщают об утаенных письмах. Впервые тщательно проанализировала легенду об утаенных письмах Э. Г. Герштейн[144]. И вдруг она установила подтасовку некоторых фактов. В частности, Д. Д. Оболенский привел в печати еще одно письмо матери Мартынова, Елизаветы Михайловны, в котором последняя сообщает сыну, что Лермонтов часто у них бывает и ее дочери «находят большое удовольствие в его обществе». Но Оболенский, совершив подлог, поставил другую дату на письме, датировав его вместо 1840 года, когда оно было написано, 1837 годом! Это не случайно. Поставив верную дату, 1840 год, как бы он объяснил всем, почему сестры Мартынова «находят большое удовольствие в обществе» человека, который совершил по отношению к ним бесчестный поступок? И он меняет дату, проставив на письме 1837 год. Итак, последнее письмо писано в 1840 году. Значит, в 1840-м отношения Лермонтова с семейством (сестрами) Мартыновых были очень хорошими. Таким образом, причиной дуэли 1841 года не могла быть давняя история с распечатанным пакетом, ибо никакие отношения между Лермонтовым и Мартыновым в 1840-м были бы невозможны, если бы она к тому времени не разъяснилась. При анализе «фактов», приводимых различными сторонниками версии утаенных писем, нам бросилось в глаза большое количество несоответствий и нестыковок. Сторонники легенды указывают разные суммы (300, 500 рублей), разных лиц, вложивших деньги в пакет (отец или, наоборот, сестры, тайком от Соломона Михайловича), и даже разные точки отправления писем (Пятигорск, Москва) и т. п. П. А. Висковатов, разбиравшийся в этой запутанной истории по горячим следам, сразу после появления легенды, начисто ее отвергает. Он пишет: «Если даже допустить(?), что любопытство могло побудить Михаила Юрьевича распечатать чужое письмо, то немыслимо, чтобы он — умный человек — мог подумать, что дело останется неразъясненным? Не проще ли было уж и не отдавать денег, пока не выяснилось бы, что таковые были в пакете, и тогда возвратить их. Не говорим уже том, что весь рассказ о письме противоречит прямому и честному характеру поэта. Его и недруги не представляли человеком нечестным, а только ядовитым и задирой»[145]. Зададим вопрос: какой смысл был Лермонтову утаивать письма? Ведь если Наталья Соломоновна отзывалась о нем дурно, то уничтожение писем совершенно не решало проблемы. Нелестные сведения о Лермонтове неминуемо бы раскрылись в последующих письмах брату или в личных встречах Натальи Соломоновны с ним. Сохранились воспоминания Д. А. Столыпина, в которых он пишет: «О казусе с пакетом при жизни Лермонтова никакого разговора не было. Это, вероятно, была простая любезность, желание оказать услугу добрым знакомым, и если поэт ее не исполнил, то потому, что посылка дорогой была украдена. Если он так заявил, то это, значит, так и было: он никогда не лгал, ложь была чужда ему. Во всяком случае, подобное обстоятельство причиной дуэли быть не могло, иначе она должна была состояться несколькими годами раньше, то есть в то же время, когда Мартынов узнал, что Лермонтов захватил письма его сестер»[146]. Лучше этого не скажешь! Наша точка зрения по случаю с утерянными письмами такова: 1. Лермонтова действительно обокрали, похитив вместе с вещами и письма. Кража его вещей в Тамани — реальный факт, доказанный лермонтоведами, а отнюдь не литературный вымысел, описанный в «Герое нашего времени». 2. Лермонтов знал, что в пакет, предназначенный для Мартынова, вложены деньги. Поэтому, когда пакет украли, он, не задумываясь, отдал Николаю Соломоновичу свои деньги, которые, кстати, последний все прокутил уже через 6 дней. 3. Тем не менее, Мартынов, будучи лицом чрезвычайно мнительным и легко внушаемым, мог, не имея достоверных фактов, подозревать Михаила Юрьевича в прочтении чужой корреспонденции после того, как получил письмо от матери, отправленное 6 ноября 1837 года, цитированное мной ранее. В нем Елизавета Михайловна косвенно, между строк, вносит свое глухое подозрение на то, что Лермонтов мог распечатать и прочесть письма. Но никаких доказательств она, естественно, не приводит. Их и не было, иначе она бы обязательно изложила их сыну, да и в отношении Лермонтова высказалась бы и резче, и конкретнее. Но Мартынову и не надо доказательств. В общей затаенной нелюбви его к Лермонтову прибавился еще один маленький штрих. Возможно, Николай надоедал Лермонтову расспросами о потерянных письмах. П. Бартенев писал в 1893 году в «Русском архиве»: «Подозрение осталось только подозрением; но впоследствии, когда Лермонтов преследовал Мартынова насмешками, тот иногда намекал ему о письме, прибегая к таким намекам, чтобы избавиться от его приставаний. Таков рассказ H. С. Мартынова, слышанный от него мною и другими лицами»[147]. В 1841 году, при вызове Михаила Юрьевича на поединок, подозрение Мартынова на прочтение Лермонтовым чужих писем не играло какой-то большой, существенной роли. Он и не приводит эту историю для своей защиты на следствии. Однако отбывание «наказания» в Киеве, очевидно, навело его на мысль о том, какой верный козырь для своей реабилитации он упускает. И, возвратившись в Москву, убийца начинает чернить свою жертву.Обманутая сестра
Версия о том, что Мартынов вступился за честь сестры, Натальи Соломоновны, появилась в Москве очень скоро после дуэли, уже в августе 1841 года. Наталья Соломоновна Мартынова (1819 года рождения) была миловидной, обаятельной девушкой с длинными ресницами, полными губами и стройным станом. Простой и немного наивный взгляд ее временами сменяла хищная, плотоядная улыбка. Знакомство Михаила Юрьевича с младшими сестрами Мартынова, Натальей и Юлией, произошло весной 1837 года в Москве, когда он направлялся в первую ссылку на Кавказ. В этом же году они познакомились еще ближе в Пятигорске, куда Мартыновы всем семейством, во главе с больным отцом, выезжали для лечения и отдыха. Поговаривали, что Лермонтов был увлечен Натальей Соломоновной, а она отвечала ему взаимностью. Но в действительности Михаил Юрьевич не был влюблен, между ним и Натальей существовали отношения дружбы и милого времяпровождения. Вообще, поэт никогда не стремился к физической близости с женщинами. Самое большее, что могло быть у него с Натальей — отношения легкого флирта. Поэтому невольно поражаешься безграничной фантазии Константина Большакова, который в историческом романе «Бегство пленных, или история страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова»[148] живописно и красочно описывает половую близость поэта с Натальей Соломоновной где-то «в темном коридоре, возле буфетной», «у сундука». Версия о том, что Наталья Соломоновна стала причиной вызова на поединок Лермонтова, получила особое распространение после 1893 года, когда князь Д. Д. Оболенский, друг семьи Мартыновых, опубликовал со слов сыновей Николая Соломоновича, как непреложную истину, рассказ об отношениях Натальи и Михаила Юрьевича: «Неравнодушна к Лермонтову была и сестра H. С. Мартынова, Наталья Соломоновна. Говорят, что и Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за ней, а, быть может, и прикидывался влюбленным. Последнее скорее, ибо когда Лермонтов уезжал из Москвы на Кавказ, то взволнованная Мартынова провожала его до лестницы; Лермонтов вдруг обернулся, громко захохотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожавшую… Одной нашей родственнице, старушке, покойная Наталья Соломоновна не скрывала, что ей Лермонтов нравится, и ей пересказывала с горечью последнее прощание с Лермонтовым и его выходку на лестнице»[149]. История с Натальей Соломоновной тесно переплетается с легендой об утаенных письмах. Якобы поэт в 1837 году сватался (неудачно) к Наталье и, вскрыв письма к Николаю Соломоновичу, хотел узнать в них причину отказа. Но у Лермонтова в 1837-м и в мыслях не было связывать себя узами брака с кем бы то ни было. Другие «фантазеры» утверждают, что Лермонтов вскрыл письма, чтобы узнать, есть ли в них описания каких-то его нехороших, интимных действий в отношении сестры Николая Мартынова. Может быть, сама Наталья Соломоновна и ее родители рассчитывали получить в лице Михаила Юрьевича мужа и зятя? Может быть, Николай Соломонович надеялся породниться с известным поэтом? Со стороны Мартыновых это была бы выгодная партия: бабушка Михаила Юрьевича была богата, а Мартыновы, несмотря на то, что тоже являлись достаточно состоятельными, имели большую семью с четырьмя дочерьми — всех надо было устроить и выдать замуж. Может быть, Мартыновы были обижены, что Михаил Юрьевич флиртовал с Натальей Соломоновной, они надеялись на брак, а, оказалось, что он не сделал предложение и не желает делать его? Трудно ответить на эти вопросы. Следует только отметить, что у Николая Соломоновича был очень мнительный, «странный» характер. Любые намеки на неблаговидные действия Лермонтова в отношении его сестры могли быть восприняты им агрессивно, причем приниматься на веру, без каких-либо доказательств. Наталья Соломоновна Мартынова в дальнейшем, уже после гибели поэта, вышла замуж за француза графа де Ла Турдоннэ и уехала навсегда за границу. От нее до нашего времени, к сожалению, не дошло никаких письменных свидетельств об отношениях ее с М. Ю. Лермонтовым. Заключая, с уверенностью можно утверждать, что Лермонтов не совершал никаких недостойных поступков по отношению к Наталье Соломоновне Мартыновой. Тем не менее, ее брат мог нафантазировать эти действия, или ему услужливо могли подсказать нужную недругам поэта ложную информацию. Наталья Соломоновна могла быть одной из причин вызова.Отождествление с литературными персонажами
Обыватели, без сомнения, эту причину поединка считали главной, если не единственной. В Наталье Мартыновой они видели обязательно или княжну Мери, или Веру; в Николае — Грушницкого. Когда слухи о дуэли в августе и сентябре 1841 года дошли до Москвы и Петербурга (пришли они вместе с почтой), многие наперебой утверждали, что Михаил Юрьевич вывел в образе княжны Мери сестру своего будущего убийцы. Якобы именно Наталью Соломоновну он «влюбил» в себя, а затем, зло посмеявшись, бросил, отказался жениться. Так, в августе 1841 года студент Андрей Елагин писал отцу в деревню: «Мартынов, который вызвал его на дуэль, имел на то полное право, ибо княжна Мери — сестра его. Он давно искал случая вызвать Лермонтова, и Лермонтов представил ему этот случай, нарисовав карикатуру…»[150] Даже М. П. Глебов, по свидетельству беседовавшего с ним немецкого переводчика стихов Лермонтова Ф. Боденштедта, был уверен, что Мери списана Михаилом Юрьевичем с Натальи Соломоновны. Вероятно, эту мысль внушил Глебову сам Мартынов, когда они жили в Пятигорске под одной крышей. Другой приятель Лермонтова, Н. П. Раевский, в своих мемуарах тоже сообщил, что, по словам людей, Лермонтов списал «свою» княжну Мери с Натальи Соломоновны. Выдвигали эту версию также сыновья H. С. Мартынова. Во всяком случае, князь Д. Д. Оболенский с их слов писал: «Что сестры Мартыновы, как и многие тогда девицы, были под впечатлением таланта Лермонтова, неудивительно и очень было известно. Вернувшись с Кавказа, Наталья Соломоновна бредила Лермонтовым и рассказывала, что она изображена в „Герое нашего времени“. Одной нашей знакомой она показывала красную шаль, говоря, что ее Лермонтов очень любил»[151]. Дорогие читатели, вы, конечно, помните тот эпизод, когда Печорин, спускаясь с балкона по импровизированной веревке из двух связанных шалей, после ночного свидания с Верой, увидел через окно задумчиво сидевшую Мери, и как «большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики». Версия Оболенского и сыновей Мартынова о Наталье Мартыновой — «княжне Мери» легко опровергается следующими фактами. Семья Мартыновых была на Кавказских Минеральных водах в 1837 году. «Княжна Мери» издана Лермонтовым в апреле 1840 года. 8 мая 1840 года Лермонтов приехал в Москву и пробыл здесь, проездом на Кавказ, в свою вторую ссылку, около 3-х недель. Из дневника А. И. Тургенева, описывающего события мая 1840 года в Москве, следует, что Мартыновы охотно принимали у себя Лермонтова, и отношения Михаила Юрьевича и Натальи Соломоновны отнюдь не были драматическими: они веселились, любезничали, шутили. 25 мая 1840 года мать Николая Соломоновича отправила сыну письмо, в котором сообщила, что Лермонтов каждый день посещает ее дочерей, находящих «большое удовольствие в его обществе». А где же обманутая княжна Мери? Почему «она» веселится и как ни в чем не бывало встречается с Михаилом Юрьевичем? Ведь если княжна Мери списана Лермонтовым действительно с Натальи Соломоновны, то, после нанесенной ей обиды Печориным-Лермонтовым, они не должны уже больше встречаться! Ходили также слухи, что с Натальи Соломоновны списан образ Веры. Двадцатилетний ученик училища правоведения в Петербурге Александр Смольянинов сделал запись в своем дневнике 2 октября 1841 года: «Является Мартынов… шутки и колкие сатиры (Лермонтова) начинаются. Мартынов мало обращал на них внимания… Это кольнуло самолюбие Лермонтова, который теперь уже прямо адресуется к Мартынову с вопросом, читал ли он „Героя нашего времени“? — „Читал“, — был ответ. „А знаешь, с кого я списал портрет Веры?“ — „Нет“. — „Это твоя сестра“. Эти слова стоили Лермонтову жизни, а нас лишили таланта, таланта редкого»[152]. Смольянинов никуда не выезжал из Петербурга в 1841 года. Версию он почерпнул из письма барона Розена, присланному из Пятигорска товарищу Смольянинова. «Самое распространенное мнение — это то, — писал в XIX веке П. А. Висковатов, — что в Вере Лермонтов изобразил сестру Мартынова, за что и навлек негодование последнего и был убит им»[153]. По нашему разумению, образ Веры никак не совпадает с обликом молодой девицы Натальи Соломоновны. Но мнительный Мартынов мог думать совершенно иначе. Существует серьезное, обоснованное предположение, что Мартынов видел намеки на себя в обрисовке Грушницкого в «Княжне Мери». Конечно, основным прототипом Грушницкого в лермонтоведении традиционно считается Н. П. Колюбакин. Но и некоторые черты Мартынова, особенно его самовлюбленность, самоуверенность, немужественность, мы находим в образе Грушницкого. Лермонтов знал Мартынова очень много лет, хорошо изучил и использовал в качестве одного из прототипов. Некоторые современники предполагали, что Мартынов, уже в ходе поединка, выйдя из состояния психической уравновешенности и отождествив себя с Грушницким, мог отомстить Лермонтову-Печорину в реальной жизни за вымышленное «убийство» своего литературного персонажа. Таким образом, отождествление себя и своей сестры, Натальи Соломоновны, с литературными персонажами произведений Лермонтова (себя — с Грушницким; сестры — с княжной Мери и, возможно, Верой) могло быть одной из причин вызова Мартыновым Лермонтова. Но эта причина никак не могла иметь главного, решающего значения.Комплекс Сальери
«H. С. Мартынов получил прекрасное образование, был человек весьма начитанный и, как видно из кратких его Записок, владел пером. Он писал и стихи с ранней молодости, но, кажется, не печатал их»[154]. Эти слова принадлежат П. Бартеневу и они, в сущности, справедливы. Д. Д. Оболенский, написавший в 90-х годах XIX века для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона статью «H. С. Мартынов», также подчеркивал отличное образование Николая Соломоновича, его начитанность и тот факт, что он с ранней молодости писал стихи. В Школе юнкеров, где вместе обучались Лермонтов и Мартынов, они, как уже было сказано, оба участвовали в выпускавшемся рукописном литературном журнале «Школьная заря», причем Мартынов писал в тот период преимущественно прозу Признание «таланта» Мартынова товарищами по школе, возможно, положило начало претензиям его на литературное соперничество с Лермонтовым. Уже будучи выпущен офицером, Мартынов продолжал писать: стихи, поэму, прозу. Но уровень его творений был несравним с мастерством и талантом М. Ю. Лермонтова. Если М. Ю. Лермонтова все признают поэтом с мировым именем, то H. С. Мартынова никогда не печатали и, естественно, уже не будут издавать. Стихи Николая Соломоновича беспомощны и не всегда грамотны. Они не выходят за рамки любительских упражнений. Это стихи дилетанта. Между прочим, в своих стихах Мартынов нередко подражал Лермонтову. Прочесть стихи и прозу Мартынова можно только в специальной научно-исторической литературе[155]. В поэме «Герзель-аул», написанной Мартыновым на материале военных действий на Кавказе, Николай Соломонович похваляется сожжением аулов, истреблением посевов, угоном скота. В эту поэму Мартынов вставил язвительные строчки о Михаиле Юрьевиче:Женщины
Лермонтов по-настоящему, крепко был влюблен в течение жизни только в двух женщин: Вареньку Лопухину, безответное чувство к которой он пронес через всю свою жизнь, и княгиню Марию Щербатову. Предметом юношеского увлечения Лермонтова была Наталья Иванова. Не испытывая сильного физического, а точнее, физиологического, влечения к женщинам, Лермонтов, тем не менее, любил, когда после напряженных литературных занятий его окружал прекрасный пол, с которым он веселился, шутил, острил, — в общем, приятно проводил время. Не имея красивой внешности, Михаил Юрьевич был высокообразованным человеком, интересным собеседником и, к тому же, поэтом, все более и более приобретающим литературную славу. Мартынов был красивым, высоким, статным мужчиной, усиленно следившим за своей внешностью. Этот франт всегда был озабочен своими успехами у женщин. Это было его страстью. Николай Соломонович мог приударить за любой понравившейся ему женщиной, стремясь именно к физической близости с ней. Данное Мартынову прозвище «кинжал» имело двусмысленное значение. Николай Соломонович в сугубо мужской компании обожал рассказывать о своих любовных приключениях. В сезон 1841 году в Пятигорске три женщины особенно волновали и привлекали H. С. Мартынова, и за всеми тремя он усиленно пытался ухаживать. Первой была рыжеволосая красавица, «бело-розовая кукла», юная Надежда Петровна Верзилина; второй — «Роза Кавказа» Эмилия Александровна Клингенберг; третьей — Екатерина Быховец. Помимо Мартынова, у каждой из трех барышень были и другие кавалеры. Михаилу Лермонтову нравились и Эмилия, и Надежда; он за ними ухаживал, но настоящих, сильных любовных чувств не испытывал. С кузиной своей, Екатериной Быховец, унего были родственные, дружеские отношения. Чувство соперничества из-за женщин могло подтолкнуть Мартынова на вызов Лермонтова. Любопытно, что на следующий день после гибели поэта, 16 июля, по растревоженному Пятигорску упорно ходили слухи, что дуэль состоялась в результате «ссоры двух офицеров из-за барышни». Одни называли Эмилию Клингенберг, другие — Надежду Верзилину. Толковали и о «госпоже Быховец». Начнем с кузины Лермонтова Екатерины Быховец. Н. П. Раевский вспоминал, что Мартынов, приехав в Пятигорск, сейчас же принялся перетягивать все внимание всеобщей любимицы компании, «прекрасной смуглянки» Кати Быховец исключительно на свою сторону. Эти действия Мартынова очень не понравились всем, а особенно раздражали Михаила Юрьевича, прибывшего в Пятигорск позже Мартынова. Михаил оберегал свою юную родственницу от притязаний «кинжала». Надо отметить, что и самой Екатерине Григорьевне Николай Соломонович не понравился. «Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив… Мартынка глупый»,[156] — вот высказывания Быховец о Николае Соломоновиче. Таким образом, у Мартынова флирт с Екатериной Быховец не удался, и помешал этому в некоторой степени Михаил Юрьевич. Но как раз это противодействие Лермонтова и прибавило недружелюбия и тайной злобы к нему у Николая Соломоновича. Мартынов с повышенной ранимостью воспринимал свои неудачи на любовном фронте. Как-то принято в лермонтоведении считать, что Лермонтов не особенно ухаживал за Надеждой Верзилиной. Это не так. Вот свидетельство очевидца, Л. А. Сидери: «Мартынову и Лермонтову нравилась Надежда Петровна Верзилина, рыжая красавица, как ее звали, и которой Лермонтов написал стихи: „Надежда Петровна, зачем так неровно разобран ваш ряд“. Вот из ревности и разыгралась эта драма»[157]. Очень многие мемуаристы предполагают, что дуэль Мартынова с Лермонтовым произошла в результате их соперничества за Эмилию Александровну Клингенберг. Кстати, сын Мартынова в конце XIX века сообщил, что, как рассказывал ему отец, Николай Соломонович, Эмилия Александровна отличалась особенной красотой и остроумием. Она выделяла среди поклонников самого H. С. Мартынова, и Лермонтов, который тоже за ней ухаживал, приходил от этого в негодование. Но, возможно, это выдумка сына для оправдания отца? А вот мнение самой Эмилии Александровны по этому щекотливому вопросу: «Часто слышу я рассказы и расспросы о дуэли М. Ю. Лермонтова; не раз приходилось и мне самой отвечать и словесно и письменно; даже печатно принуждена была опровергать ложное обвинение, будто я была причиною дуэли. Но, несмотря на все мои заявления, многие до сих пор признают во мне княжну Мери. Каково же было мое удивление, когда я прочла в биографии Лермонтова в последнем издании его сочинений: „Старшая дочь генерала Верзилина Эмилия кокетничала с Лермонтовым и Мартыновым, отдавая предпочтение последнему, чем и возбудила в них ревность, что и подало повод к дуэли“»[158]. Далее Эмилия Александровна на нескольких страницах дает свою версию произошедшего, упирая, преимущественно, на то, что Лермонтов якобы не ухаживал за ней, а сердил и дразнил. Но Михаил Юрьевич, с его своеобразным характером, именно подобным «приставанием» и мог оказывать знаки внимания понравившейся ему женщине. В конце своих воспоминаний Э. А. Шан-Гирей выражает надежду на то, что с нее снимут «несправедливое обвинение за дуэль». Г. А. Крылова справедливо замечает в Лермонтовской энциклопедии, что «непосредственное участие (Эмилии) в событиях, приведших к гибели Лермонтова, заставляет относиться к ее мемуарам с осторожностью»[159]. Р. Баландин[160] предполагает, что Эмилия была тайной любовницей Мартынова, и подтрунивания Лермонтова над ней, в том числе с намеком на ее связь с отставным майором, вызвали яростную реакцию последнего. В. И. Чиляев, домовладелец флигеля, в котором проживал Лермонтов, является очень важным и близким свидетелем, ибо он вел практически постоянное наблюдение за своим именитым жильцом. Здесь не имеет принципиального значения, делал ли он это из чистого любопытства или действительно, как многие предполагают, вел тайный надзор от полиции. Василий Иванович впоследствии вспоминал: «Семейство Верзилиных было центром, где собиралась приехавшая на воды молодежь. Оно состояло из матери и двух дочерей, из которых старшая, Эмилия, роза Кавказа, как называли ее поклонники, кружила головы всей молодежи. Ухаживал ли за ней поэт серьезно или так, от нечего делать, но ухаживал. В каком положении находились его сердечные дела — покрыто мраком неизвестности. Известно лишь одно, что m-lle Эмилия была не прочь пококетничать с поэтом, которого называла интимно Мишель. Так или иначе, но, как гласит молва, ей нравился больше красивый и статный Мартынов, и она отдала ему будто бы предпочтение. Мартынов выделялся из круга молодежи теми физическими достоинствами, которые так нравятся женщинам, а именно: высоким ростом, выразительными чертами лица и стройностью фигуры. Он носил белый шелковый бешмет и суконную черкеску, рукава которой любил засучивать. Взгляд его был смел, вся фигура, манеры и жесты полны самой беззаветной удали и молодечества. Нисколько не удивительно, если Лермонтов, при всем дружественном к нему расположении, всей силой своего сарказма нещадно бичевал его невыносимую заносчивость. Нет никакого сомнения, что Лермонтов и Мартынов были соперники, один сильный умственно, другой физически. Когда ум стал одолевать грубую стихийную силу, сила сделала последнее усилие — и задушила ум. Мартынов, говорят, долго искал случая придраться к Лермонтову — и случай выпал: сказанная последним на роковом вечере у Верзилиных острота… была признана им за casus belli[161]. После вызова Мартынова Лермонтов рассмеялся и сказал: „Ты думаешь торжествовать надо мной у барьера. Но это ведь не у ног красавицы“»[162]. Илья Арсеньев, дальний родственник Лермонтова, писал о Михаиле Юрьевиче: «Он… был страшно влюбчив. Невнимание к нему прелестного пола раздражало и оскорбляло его беспредельное самолюбие, что служило поводом, с его стороны, к беспощадному бичеванию женщин»[163]. Да, милые женщины! Сколько же несчастий принесли вы мужчинам!«Пориятели таки раздули ссору»
И насмешки Лермонтова с острыми карикатурами в альбоме, и женщины, и отождествление себя с Грушницким, и лезущие в голову мысли об утаенных Лермонтовым письмах и недостойном его поведении с сестрой — все это и еще многое другое озлобляло самовлюбленного, эгоистичного, ничтожного и мелочного человека, каким был Николай Мартынов. Но ведь, как никак, они были с Михаилом Юрьевичем хорошими старинными знакомыми еще с юных лет, с Школы юнкеров. Конечно, внешнее поведение Лермонтова по отношению к Мартынову, его бесконечные насмешки и издевательства над Николаем Соломоновичем не красят поэта. Однако Лермонтов внутренне всегда был настроен к нему достаточно дружелюбно, мило называя его «Мартышкой», и совершенно не предполагая, какая ядовитая змея со спрятанным жалом то добродушно, то со спокойно-мрачноватым выражением лица посматривает на него. Незадолго до поединка Михаил Юрьевич ночевал у Мартынова на квартире, был добр, ласков и говорил ему, что пришел отвести с ним душу после пустой жизни, какая велась в Пятигорске. Он словно бы старался примириться, сгладить «острые углы», извиниться за свои насмешливые слова, колкости, обидные карикатуры. Конечно, Мартынов не был каким-то закоренелым злодеем. Но кто-то его упорно снова и снова подталкивал, все более и более ожесточая против старого знакомого. Какие-то лица, хорошо осведомленные об отношениях Мартынова и Лермонтова, дули во всю силу своих легких, быстро раздувая тлеющий огонек нелюбви Мартынова к Лермонтову в бушующее пламя лютой ненависти и злобы к поэту. Надо отметить, что по характеру своему Николай Соломонович очень подвержен был чужому влиянию. Много лет спустя Мартынов обронил многозначительную фразу: «Приятели таки раздули ссору»[164]. Кто же были эти услужливые «приятели»? Неужели кто-то из членов лермонтовского кружка? А, может быть, приятели по совместной игре в карты в салоне Мерлини? Жаль, что не назвал их Мартынов. Но факт остается фактом: шло нарочитое взвинчивание Николая Соломоновича кем-то со стороны. Он сам признал это. Биограф Лермонтова П. А. Висковатов, собравший сведения о гибели поэта от очевидцев событий, утверждал: «Нет никакого сомнения, что г. Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие вызвать столкновение между поэтом и кем-либо из не в меру щекотливых или малоразвитых личностей»[165]. По мнению П. А. Висковатова, подстрекателями могли быть «некоторые влиятельные лица из столичного общества, бывшие в тот год в Пятигорске». В своей книге[166] он перечисляет эту столичную знать (граф Ламберт и др.), но дает оговорку, что отнюдь не хочет бросить тень специально на кого-нибудь из этого списка. Боялся? Был неуверен? Очень важно, что когда Павел Александрович задал вопрос князю Васильчикову: «А были ли подстрекатели у Мартынова?», последний не стал отрицать этого, а ответил уклончиво: «Может быть, и были»[167]. Биограф Лермонтова П. К. Мартьянов[168], изучавший данный вопрос в XIX веке в Пятигорске, в качестве подстрекателей, взвинчивающих Мартынова, смело называл посетителей аристократического салона генеральши Е. И. Мерлини. По нашему мнению, «заговор» из центра, санкционированный царем или Бенкендорфом с целью физического устранения Лермонтова, можно полностью исключить. А вот подстрекатели, действующие по личной инициативе, действительно были, и не в единственном числе. Не верить П. А. Висковатову, П. К. Мартьянову, самому H. С. Мартынову мы не можем. И скорее всего, этими подстрекателями были представители аристократической столичной публики, с которыми встречался Николай Соломонович в городе и в салоне Мерлини. Особенно, нам кажется, были способны взвинчивать Мартынова его приятели по тайным карточным играм, проходившим поздними вечерами в доме Мерлини. Способен был на подталкивание Мартынова такой искусный интриган, как молодой князь Васильчиков. Недругов у поэта всюду было предостаточно. Дело не только в том, что он был свободолюбивым и независимым поэтом, но и в том, что характер этого молодого офицера был очень тяжелым. Он легко наживал врагов. Сейчас, по прошествии более полутора столетий, назвать конкретных лиц, подталкивающих Мартынова к вызову, когда их постеснялись или побоялись указать в ближайшее время после дуэли П. А. Висковатов, П. К. Мартьянов и другие, уже практически невозможно. Но они, несомненно, были. И, конечно, никто не советовал Мартынову убивать поэта, лишать его жизни. Лермонтова с помощью Николая Соломоновича просто хотели наказать, проучить, пустить ему кровь, попортить нервы. Мартынову советовали постоять за свою честь, защитить свое достоинство в духе дворянских традиций и правил, наказать дуэлью независимого, неучтивого, «ядовитого», «злого» (по их понятиям) человека.* * *
Мы привели 8 причин, по которым, по нашему убеждению, H. С. Мартынов вызвал на поединок М. Ю. Лермонтова. Как видим, оснований для вызова «задиры» и «выскочки» Лермонтова у этого самовлюбленного ничтожества было предостаточно. Полиэтиологичность, многопричинность дуэли для нас несомненна! Не все причины имели равное значение, некоторые из них лишь смутно осознавались Николаем Соломоновичем, не все они анализировались, обдумывались в воспаленном мозгу его. Но, главное, они постепенно накапливались. Эти капли яда к Лермонтову, и мелкие, и средних размеров, и совсем уж крупные, накапливаясь в мозге, соединялись отрогами, медленно сливались друг с другом, постепенно превращаясь в одну большую ядовитую массу, пропитавшую, наконец, весь мозг Николая Соломоновича лютой злобой к поэту. И ничего уже нельзя было сделать, чтобы предотвратить поединок. Никакие примирения уже были невозможны. Трещали кости черепа от набухшего, пропитавшегося лютой злобой мозга отставного майора. Эта злобная масса просилась наружу, чтобы окружить Лермонтова и потопить его в своей ненависти. И только повод, пусть самый мелкий, самый ничтожный, был нужен Мартынову.Вызов
В то несчастливое число, 13 июля, воскресенье, Верзилины устроили в своем доме танцевальный вечер. Очевидцем роковой ссоры Мартынова и Лермонтова оказалась Эмилия Александровна, которой и принадлежит наиболее подробное ее описание: «13 июля собралось к нам несколько девиц и мужчин… Михаил Юрьевич дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык наперебой. Несмотря на мои предостережения, удержать их было трудно. Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его „montagnard au grand poignard“[169]… Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: „Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах“, — и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: „Язык мой — враг мой“, — Михаил Юрьевич отвечал спокойно: „Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями“. Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора… После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: „Что ж, на дуэль, что ли, вызовешь меня за это?“ Мартынов ответил решительно „да“, и тут же назначили день»[170]. Обратим внимание на разительное несоответствие между ничтожным характером ссоры и ее трагическими последствиями. Танцы без заминки продолжались, никто из гостей даже не обратил внимания на краткое объяснение Мартынова с Лермонтовым. Не придал ему никакого значения и Лев Пушкин, по существу, единственный незаинтересованный свидетель ссоры. Ему и в голову не пришло, что за такую мелочь можно вызвать человека на дуэль, поэтому через двое суток для него как гром среди ясного неба прозвучало известие о гибели Лермонтова. Слова Михаила Юрьевича, что они с Николаем Соломоновичем уже на следующий день будут «добрыми друзьями», свидетельствуют о том, что и сам поэт не предполагал, что этот мелкий эпизод заслуживает выяснения отношений с пистолетами в руках. Все говорит о том, что вышеназванный эпизод явился лишь поводом для вызова Лермонтова Мартыновым. Николай Соломонович пришел на вечер уже с твердо принятым решением вызвать «задиристого» поручика на поединок.Место и условия дуэли
Дуэль Лермонтова и Мартынова состоялась около 18 часов 30 минут 15 июля 1841 года в 4-х верстах от Пятигорска, у северного склона горы Машук, недалеко от Перкальской скалы. Последняя названа по имени ссыльного поляка Перкальского, который жил когда-то в сторожке неподалеку от скалы. Любопытно, что официальное «Место дуэли М. Ю. Лермонтова», где стоит обелиск работы Б. М. Микешина и которое осмотрели уже миллионы туристов со всех концов света, на самом деле расположено примерно в километре от истинного места поединка. Оказывается, в 1881 году ошиблась комиссия под председательством вице-губернатора Терской области Г. X. Якобсона и лермонтоведа П. А. Висковатова, созданная для определения места поединка. Выбранная площадка для дуэли была очень неровной и включала участок дороги (старой), соединявшей Железноводск и Пятигорск, и примыкавшую к дороге небольшую поляну, окруженную кустарником. Место для дуэли было выбрано второпях, ибо, когда дуэлянты и секунданты, собравшиеся первоначально у немецкой колонии Каррас (ныне поселок Иноземцево), направились оттуда для выбора подходящего участка, их быстро нагоняла приближавшаяся к Машуку огромная грозовая туча. Наиболее точно место дуэли описано в Акте осмотра места происшествия, которое проведено было следователями 16 июля в присутствии арестованных секундантов Глебова и Васильчикова: «Это место отстоит на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, на левой стороне горы Машухи, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в немецкую николаевскую колонию (Каррас). По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины Машухи до самой ее подошвы; а по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора. Между ними проходит в колонию означенная дорога. От этой дороги начинаются первые кустарники, кои, изгибаясь к горе Машухе, округляют небольшую поляну. Тут-то поединщики избрали место для стреляния»[171]. Как следует дальше из «Акта», барьеры были расставлены на дороге, вдоль нее. Секундантами со стороны Мартынова являлись друг М. Ю. Лермонтова корнет М. П. Глебов, проживавший на одной квартире с Николаем Соломоновичем, и 22-летний князь А. И. Васильчиков, сын председателя Государственного совета, тайный недруг Михаила Юрьевича. Со стороны Лермонтова секундантами были его родственник (двоюродный дядя) капитан А. А. Столыпин и свояк Михаила Юрьевича князь С. В. Трубецкой[172]. Однако после дуэли имена двух секундантов (Столыпина и Трубецкого) решено было скрыть, так как они находились на Кавказе в положении сосланных и обоих ненавидел Николай I. Поэтому на следствии пришлось перераспределить роли двух оставшихся секундантов: Глебов назвал себя секундантом Мартынова, а лукавый Васильчиков — секундантом… Лермонтова. Князь А. И. Васильчиков до конца своих дней уверял, что был секундантом со стороны Михаила Юрьевича. Однако это решительно опроверг Н. П. Раевский, свидетель дуэльной ситуации. В своих воспоминаниях[173] он привел эпизод, доказывающий, что Васильчиков был секундантом Мартынова. Чтобы дать забыться ссоре, члены лермонтовского кружка отправили 14 июля Лермонтова и Столыпина в Железноводск и через несколько часов собрались посовещаться, что же им дальше делать. В этот момент к ним явился сильно взволнованный Мартынов, заявивший, что он не отступит от дуэли. У него поинтересовались: «Кто же у вас секундантом будет?» Мартынов ответил: «Я был бы очень благодарен князю Васильчикову, если б он согласился сделать мне эту честь!» И, к большому удивлению присутствующих, Васильчиков тотчас охотно согласился на это предложение. Этот же эпизод в точности описал Н. А. Кузминский в статье[174], которая являлась литературной записью воспоминаний его отца, командовавшего в 1841 году казачьей сотней на окраине Пятигорска, лично знавшего Верзилиных, Лермонтова и его друзей. На дуэли, помимо секундантов, негласно присутствовали: боевой товарищ Лермонтова Руфин Дорохов, проводник Евграф Чалов и другие свидетели, разместившиеся в окружавшем дуэльную площадку кустарнике. По уверению жившего неподалеку от домика Лермонтова его бывшего однополчанина А. И. Арнольд и, «вся молодежь, с которою Лермонтов водился, присутствовала скрытно на дуэли, полагая, что она кончится шуткой и что Мартынов, не пользовавшийся репутацией храброго, струсит и противники помирятся»[175]. Условия дуэли были составлены секундантом Мартынова князем Васильчиковым, который, несмотря на свой молодой возраст, уже имел большой опыт секундантства на дуэлях. При составлении условий он консультировался с Николаем Соломоновичем. Условия дуэли носили жестокий, бесчеловечный характер и были совершенно не адекватны той мелкой ссоре в доме Верзилиных, которая послужила поводом для вызова. Причем «составители» уже знали, что Лермонтов категорически отказывается от своего выстрела, а следовательно, Мартынов будет стрелять в обезоружившего себя противника. Лермонтов отказался от своего выстрела еще в первой половине дня 14 июля. Приводим его заявление друзьям в изложении Н. П. Раевского: «…Мартынов пускай делает, как знает, а что сам он (Лермонтов) целить не станет. „Рука, — сказал, — на него не поднимается!“»[176] Все же, несмотря на дерзкие поступки и вызывающее поведение поручика, душа у поэта была добрая. Он понимал, что в отношении Мартынова в последние месяцы поступал не совсем хорошо, оскорбляя его насмешками, обидными прозвищами и, особенно, злыми карикатурами. Поэта мучила совесть. Демонстративно отказываясь от своего выстрела, он как бы извинялся за свое язвительное поведение и делал шаг к примирению. Некоторые читатели глубоко заблуждаются, отождествляя Лермонтова с Печориным. Последний сумел убить подлую, но живую душу. Лермонтов не был Печориным и не способен был убить человека. Вспомним, что Лермонтов не целил и в предыдущей дуэли в Баранта, выстрелив в сторону. Гений и злодейство — несовместимые вещи! Отказываясь от своего выстрела, проявляя добрую волю, Михаил Юрьевич надеялся и на ответный ход добродушного, мягкого, спокойного с виду Николая Соломоновича. Но душа Мартынова была черной, он не был способен на благородный поступок. Более того, Мартынов, восприняв и оценив полученную от друзей поэта информацию о категорическом отказе противника от своего выстрела, почувствовал полную свою безопасность и безнаказанность. Для несколько трусоватой натуры его это был бесценный подарок. К концу дня 14 июля он повеселел и не раз открыто подшучивал над «путешествующим противником» своим. Мартынов стал играть роль непреклонного, смелого человека и весь сиял от напускной торжественности. Вот в такой ситуации составлялись условия дуэли. И конечно, очень жаль, что приятель Лермонтова и его боевой товарищ Михаил Глебов, который по воле судьбы, проживая в одном домике с Мартыновым, оказался на стороне последнего, а также секунданты со стороны Лермонтова — ленивый, беспечный Столыпин и бывший кавалергард Трубецкой — не предприняли эффективных действий для смягчения условий дуэли. А сам поручик Лермонтов, как человек бесстрашный и гордый, не мог выказать трусости сопернику и без сомнений согласился на смертельные для себя условия. По условиям дуэли, расстояние между барьерами составляло от 6 до 10 шагов[177], что соответствует 4–6,5 м. От барьеров в каждую сторону отмеряется по 10 шагов, куда становятся дуэлянты перед началом поединка. От крайних этих точек соперники должны сходиться по команде «Сходись!» Далее секунданты подают с большими интервалами команды «Один», «Два» и «Три». Особенного права на первый выстрел по условиям никому не дано. Каждый мог стрелять, стоя на месте, или на ходу, или подойдя к барьеру, но непременно в промежутке между командами «Два» и «Три». После счета «Три» стрелять уже нельзя, раунд дуэли считается законченным. Всего таких раундов с разведением соперников на крайние точки по условиям должно быть три. Осечка считается за выстрел. Если соперник выстрелил, не дойдя до барьера, его можно вызвать к барьеру, чтобы сделать ответный выстрел. Таким образом, Лермонтов был поставлен в безысходное положение. От своих выстрелов он заранее отказался (и все знали, что слово свое Лермонтов всегда держит), а соперник имел право на 3 выстрела с очень близкого расстояния. На дуэли использовалось очень мощное и точное оружие — крупнокалиберные дальнобойные немецкие пистолеты системы Кухенройтера с кремнево-ударными запалами и нарезным стволом. Поручик Лермонтов обладал великолепной стрелковой подготовкой, имея в полку репутацию меткого стрелка, сажавшего из пистолета пулю на пулю. Но это не имело ровно никакого значения вследствие отказа его от выстрелов. Стрелковая подготовка отставного майора Мартынова была похуже, но вполне достаточной, чтобы с такого короткого расстояния попасть в своего противника. Вероятно, желая обелить убийцу, десятилетиями после дуэли распускались слухи о том, что Мартынов якобы не умел толком стрелять из пистолета и попал в Лермонтова случайно. Это явная ложь. Возможно, такое мнение могло сложиться из-за своеобразной манеры стрельбы любившего оригинальничать Николая Соломоновича, который прицеливался, разворачивая пистолет на 90 градусов (курком в сторону), что он называл «стрелять по-французски». П. А. Висковатов[178] сообщает, что ему известна еще одна дуэль Мартынова, проходившая в Вильне. Быстро подойдя к барьеру, Мартынов повернул пистолет «по-французски» и метко поразил своего противника.Поединок
Прибыв к месту поединка, Лермонтов и его секунданты встретили там приехавшего чуть раньше на беговых дрожках вместе с Васильчиковым мрачного, молчаливого Мартынова, который церемонно поклонился им. Встретившись взглядом со злыми, холодными глазами Мартынова, Михаил Юрьевич понял, что, вероятно, никакого примирения не будет. Приехавший с добрыми мыслями и сердцем поэт сразу потерял свое веселое настроение, и саркастическая улыбка вдруг исказила черты его лица. В соответствии с дуэльными правилами, секундантами была предпринята последняя попытка примирения. Лермонтов выказал полную свою готовность на примирение, заявив, что причина слишком ничтожна для дуэли. Начальник штаба войск Кавказской линии подполковник А. С. Траскин, допросивший секундантов после поединка, доносил своему командующему генералу П. X. Граббе, что на месте дуэли «Лермонтов сказал, что не будет стрелять и станет ждать выстрела Мартынова»[179]. Но Николай Соломонович остался в позе непреклонного. Примирение не входило в его планы. Вся фигура его выказывала полную решимость, а горящие ненавистью глаза выдавали сокровенное желание пропитанного лютой злобой человека. И тогда свершилась дуэль — узаконенное убийство, явление, противное самой природе человека, созданного, чтобы жить и наслаждаться жизнью. Сам поединок проходил в крайне неблагоприятных погодных условиях: огромная грозовая туча, надвигавшаяся со стороны Бештау, достигла-таки района дуэли, и, когда уже отмерили дистанцию и раздали заряженные пистолеты дуэлянтам, поднялась предгрозовая буря с плохой видимостью, а затем пошел страшной силы грозовой дождь. Стрелялись уже под этим ливнем, бившим прямо в лицо секундантам и значительно затруднявшем видимость как последним, так и самим противникам. Дуэльная площадка была неровной, и получилось так, что Лермонтов был поставлен секундантами на скате дороги выше Мартынова. Фигура поручика выступала отчетливой мишенью для стоявшего ниже Мартынова, что создавало преимущества в прицеливании последнему. Глебов махнул рукой и громко скомандовал: «Сходись!» Мартынов, не поднимая пистолета, быстрыми, широкими и уверенными шагами приблизился к барьеру, поднял пистолет, повернул его «по-французски», курком в сторону, и стал целить в противника. Полыхнула молния, выхватив из грозовой темноты его мрачное и сосредоточенное выражение лица. При сигнале «Сходись!» Михаил Юрьевич какое-то время остался стоять на исходной позиции. Взведя курок, он поднял пистолет дулом вверх. «Спокойное, почти веселое выражение играло на лице поэта». Вероятно, в эти мгновения он еще надеялся на доброту сердца и великодушие бывшего приятеля своего. Он еще думал, что вот сейчас разрядят они оба пистолеты в воздух и отправятся отпраздновать с шампанским в товарищеском кругу мир. Однако действия Николая Соломоновича, быстро подошедшего к барьеру и с решительным выражением лица наводящего на него пистолет, не оставляли уже никаких сомнений в злодейских намерениях отставного майора. Презрительная усмешка скривила лицо Михаила Юрьевича. Он медленно, слегка приостанавливаясь, двинулся к барьеру, прикрывая область груди и сердца согнутой в локте правой рукой, державшей пистолет, и развернувшись вполоборота, правым боком вперед, чтобы уменьшить площадь прицела для противника, как это предписывали правила дуэльного искусства. А Николай Соломонович ждал, когда «живая движущаяся мишень» замрет у барьера, и он сможет точнее прицелиться. С лицом, полным презрения к надутому трусу, безнаказанно, с кратчайшего расстояния намеревающемуся расстрелять его из крупнокалиберного оружия, гордый Лермонтов подошел к барьеру и вытянул правую руку с пистолетом вверх, по-прежнему кверху же направляя его дуло. «Раз… Два…» — скомандовал между тем уже давно Глебов. «Обидчик» был совсем рядом, но крупный частый косой дождь, стеной стоящий перед Мартыновым, мешал ему целиться. Николай Соломонович выцеливал долго и старательно. А может быть в эти мгновения в нем еще боролись силы добра и зла. Приехав на дуэль с твердым намерением, возможно именно в эти последние, решающие секунды он почувствовал неуверенность и сомнения. Как трудно нажать на курок, когда прямо в глаза тебе вызывающе, презрительно смотрит соперник, а после твоего выстрела история запишет тебя в убийцы! Летели секунды, а Мартынов все медлил и медлил. Но вот прозвучала команда «Три!», после которой по условиям стрелять уже было нельзя. Соперников должны развести и вновь поставить на исходные позиции. И тут Столыпин крикнул: «Стреляйте, или я разведу вас!» Это было нарушением дуэльных правил. Нужно было не понуждать противников к выстрелу, а прервать дуэль и развести их на крайние точки. И тогда Михаил Юрьевич, как бы обращаясь ко всем свидетелям этой дуэли, иронично-насмешливым тоном звонко сказал: «Я в этого дурака стрелять не буду!» Поднял поэт еще выше свой пистолет и нажал на спусковой курок, отправив пулю в воздух. Даже в эту смертельно опасную минуту дерзкий, язвительный поручик не смог сдержать себя и оскорбил противника, назвав его дураком. Последние сомнения сразу покинули Мартынова. Ярость и злость вспыхнули в нем с прежней силой. Он еще ближе придвинулся к обидчику своему, возможно, слегка переступив в плотной завесе дождя чисто символический барьер — лежащую в желтой грязи фуражку. Струйки дождя стекали с его лица — зловещей физиономии палача.После дуэли
По преступной небрежности всех четырех секундантов на дуэли не оказалось ни доктора, ни экипажа. Сразу вслед за Мартыновым в город отправился верхом Васильчиков, который вызвался привезти врача и достать экипаж для перевозки тяжелораненого. По дороге он нагнал Николая Соломоновича и, возможно, они сумели обменяться мнениями о произошедшей трагедии. Н. П. Раевский с некоторыми друзьями из лермонтовского кружка, совершенно неадекватно оценивая преддуэльную ситуацию, в веселом настроении(!?) ждали в Пятигорске участников дуэли, чтобы… отпраздновать мирный исход: «А мы дома с шампанским ждем. Видим, едут Мартынов и князь Васильчиков. Мы к ним навстречу бросились. Николай Соломонович никому ни слова не сказал и, темнее ночи, к себе в комнату прошел… Мы с расспросами к князю, а он только и сказал: „Убит!“»[180] Лермонтов, находящийся в крайне тяжелом состоянии, остался на месте трагедии; он был без сознания. Кровь обильно лилась из двух его ран, так что даже потоки многочасового ливневого дождя не смогли смыть всю ее с земли, и кровь была обнаружена следователями на следующий день при осмотре места происшествия. С тяжелораненым вначале находились Глебов, Столыпин и Трубецкой. Они проявили беспомощность и растерянность. Медикаменты на поединок они не захватили, оказать даже примитивную, первую медицинскую помощь не сумели. Приятели даже не удосужились перевязать раны, они оставались открытыми и обильно кровоточили. Не догадались секунданты соорудить что-то вроде шалаша, пострадавший лежал под открытым небом, поливаемый проливным дождем, укрытый только шинелью. Голова его покоилась на коленях Глебова. Прошло два томительных часа ожидания под непрекращающимся дождем, по истечении которых Васильчиков явился к месту поединка… один, без экипажа и без врача. Как расценить поведение князя: беспомощность или преступное бездействие? Послушаем жалкие оправдания Васильчикова, которые он дал через 31 год после дуэли: «Я… заезжал к двум господам медикам, но получил… ответ, что на место поединка по случаю дурной погоды (шел проливной дождь) они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого»[181]. Не сумел князь найти и транспорт для перевозки пострадавшего. Васильчиков не проявил достаточной настойчивости, ибо Лермонтов был дня него чужим, нелюбимым человеком. Но как могли врачи отказать в помощи тяжелому, умирающему больному? А ведь они давали клятву Гиппократа! После бесславного возвращения Васильчикова Столыпин и Глебов сами отправились в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой Лермонтова, оставив Васильчикова и Трубецкого с пострадавшим. Поэт лишь через четыре с половиной часа после ранения был доставлен в Пятигорск на телеге слугой Лермонтова Иваном Вертюковым и слугой Мартынова Ильей Козловым. Но когда же наступила смерть? Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Официальная точка зрения современных литературоведов указана в Лермонтовской энциклопедии: «Лермонтов скончался, не приходя в сознание, в течение нескольких минут»[182]. Иными словами, говоря медицинским языком, у него наступила клиническая смерть в течение 15 минут после ранения. Указанная точка зрения базируется преимущественно на рассказах Глебова и материалах сфальсифицированного и необъективного следствия. Данная версия о быстром наступлении смерти Михаила Юрьевича была выгодна не только Глебову, но и всем секундантам, ибо: а) снимала с них ответственность за то, что они не побеспокоились о приглашении доктора на дуэль (при мгновенной смерти доктор бы не помог); б) оправдывала их медлительность и нерасторопность, приведшую к тому, что Лермонтов больше 4 часов пролежал в поле без оказания помощи (не все ли равно, когда убитого привезли в Пятигорск?). Однако существует и противоположная точка зрения, утверждающая, что поэт жил значительно дольше — от одного до четырех часов после ранения. Он был действительно без сознания, через некоторое время перестал подавать внешние, видимые, признаки жизни. Но ведь секунданты не имели абсолютно никаких, даже примитивных, медицинских знаний и навыков. Поэтому при глухости тонов сердца и низком артериальном давлении у раненого Лермонтова секунданты вполне могли ошибиться в определении времени наступления смерти. И они, дежуря в тот вечер при пострадавшем, действительно несколько раз сомневались: мертв ли Лермонтов или еще жизнь теплится в нем? Биограф Лермонтова П. А. Висковатов описал эпизод, случившийся с Глебовым и пересказанный последним Эмилии Клингенберг. Тело Лермонтова длительно лежало под дождем, накрытое шинелью, покоясь головой на коленях Глебова. «Когда Глебов хотел осторожно спустить ее (голову), чтобы поправиться — он промок до костей, — из раскрытых уст Михаила Юрьевича вырвался не то вздох, не то стон; и Глебов остался недвижим, мучимый мыслью, что, может быть, в похолоделом теле еще кроется жизнь»[183]. Подобный же звук, напоминающий стон, вырвавшийся из груди Лермонтова, слышал позднее Васильчиков, сменивший на посту Глебова и дежуривший у тела поэта в сроки от двух до четырех с половиной часов с момента окончания дуэли. После этого звука, как вспоминал Васильчиков, они вместе с Трубецким «несколько минут были уверены, что Лермонтов еще жив»[184]. Некоторые ученые с осторожностью предполагают, что звуки, которые слышали секунданты, могли быть обусловлены выходом спертого воздуха из груди Лермонтова. Существует показание слуги Лермонтова, молодого гурийца Христофора Саникидзе: «При перевозке Лермонтова с места поединка его с Мартыновым в Пятигорске (при чем Саникидзе находился), Михаил Юрьевич был еще жив, стонал и едва слышно прошептал: „Умираю“; но на полдороге стонать перестал и умер спокойно…»[185]. Многие историки подсмеиваются над якобы нелепым приказанием убеленного сединами коменданта Пятигорска полковника Ильяшенкова отправить «убитого» Лермонтова на гауптвахту. В свете изложенного, становится очевидным, что коменданту кто-то доложил, что Лермонтов на дуэли ранен, но жив. Наконец и некоторые ученые-медики, например С. П. Шиловцев[186], подвергают критике официальный взгляд, что Лермонтов умер мгновенно на месте поединка, и утверждают, что раненый жил еще несколько часов после выстрела убийцы. Тем не менее, ранение Лермонтова было смертельно опасным, и привезли его на свою квартиру, во флигель Чиляева, уже мертвым. Остается лишь гадать, сколько часов или суток прожил бы еще поэт, окажи ему своевременную врачебную помощь. Страшная весть о смертельном ранении Лермонтова мгновенно разнеслась по Пятигорску. Уже в ночь с 15 на 16 июля люди устремились на квартиру убитого. Офицер А. Чарыков вспоминал: «…на самой окраине города, как бы в пустыне, передо мною, в моей памяти, вырастает домик, или, вернее, убогая хижинка… направо, в открытую дверь увидел труп поэта, покрытый простыней, на столе; под ним медный таз; на дне его алела кровь, которая несколько часов еще сочилась из его груди»[187]. К убитому приходило много дам, поклонниц, которые плакали и мочили свои платки в крови поэта, продолжавшей обильно сочиться из неперевязанных ран. Михаил Глебов поздно вечером 15 июля явился к коменданту города В. И. Ильяшенкову и первым из участников трагедии доложил о дуэли. Он был сразу же арестован как секундант Мартынова. Вскоре пришли на квартиру к самому Мартынову и увели его под конвоем. По Пятигорску затем долго ходили слухи, что якобы Николай Соломонович намеревался сразу после дуэли сбежать к чеченцам. На следующий день, 16 июля, арестовали Васильчикова, который объявил себя секундантом Лермонтова. Медицинское освидетельствование тела умершего было произведено дважды. Оба раза его выполнял ординарный врач Пятигорского военного госпиталя 30-летний Иван Егорович Барклай-де-Толли (дальний родственник знаменитого полководца). Первый осмотр тела ординатор сделал в ночь после дуэли, в первые часы наступившего 16 июля. На основании внешнего осмотра трупа, проведенного во флигеле Чиляева, Барклай-де-Толли выдал медицинское свидетельство № 34, в котором говорилось, что «Тенгинского пехотного полка поручик М. Ю. Лермантов застрелен на поле, близ горы Машука, 15 числа сего месяца, и, по освидетельствовании им, тело может быть предано земле по христианскому обряду». В этом свидетельстве о смерти нет описания ран. Предполагают, что составлено оно по просьбе друзей поэта, которым необходимо было начать хлопоты для погребения по христианскому обряду. Получить разрешение на это было трудно, ибо убитые на дуэли приравнивались к самоубийцам. Однако в связи с заведенным по случаю насильственной смерти делом, потребовалось второе медицинское освидетельствование — более полное (очевидно, первым заключением остались недовольны). Второе освидетельствование выполнил 17 июля все тот же Барклай-де-Толли, в присутствии плац-майора Унтилова, жандармского подполковника Кушинникова и других официальных свидетелей. Составленное «Свидетельство № 35» гласило: «…При осмотре оказалось, что пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастении ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча, от которой раны поручик Лермантов мгновенно на месте поединка помер…»[188]. Медицинское освидетельствование тела было произведено недостаточнопрофессионально. Врач ограничился лишь внешним освидетельствованием трупа, не производя вскрытия. Вследствие этого, невозможно утверждать с абсолютной точностью, какие органы были поражены (очевидно, правое и левое легкое, сосуды средостения и, возможно, печень и сердце). Ординатор не имел права, без вскрытия трупа и медицинских обоснований, а лишь со слов других лиц, предполагать о смерти Лермонтова на месте поединка. Утром 16 июля тело обмыли. Но окостенелым членам трудно было дать обыкновенное для мертвеца положение; сведенных рук не удалось расправить, их накрыли простыней. «Веки все открывались, и глаза, полные дум, смотрели чуждыми земного мира». Рот был полуоткрыт, контрактура мышц лица придавала лицу выражение усмешки. Даже на смертном одре поэт выглядел независимым, непокорным. Художник Р. К. Шведе снял с погибшего Лермонтова портрет масляными красками. Два дня домик Лермонтова и примыкающий двор были переполнены народом. Многие плакали и искренне переживали утрату. О Мартынове же говорили с необычайной злостью. Пятигорск был тогда маленьким городком, многие знали друг друга в лицо. Для Пятигорска дуэль — неслыханное дело. Поэтому о поединке интересовались все. А поскольку на дуэли были гласные и негласные свидетели — подробности ее моментально стали известны всему городу. А они были явно не в пользу Николая Соломоновича. Говорили и о миролюбии Лермонтова, и о нежелании его стрелять, и о выстреле в воздух. Мартынова называли убийцей, обсуждая и осуждая его выстрел с короткого расстояния, фактически в упор в обезоружившего себя человека. Ожесточение толпы людей у домика Лермонтова было выражено в такой степени, что жандарму приходилось несколько раз выходить из квартиры покойного к собравшимся во дворе, успокаивая их, разъясняя, что это не убийство, а «честный» поединок. Но люди мало верили ему. Домовладелец В. И. Чиляев вспоминал, что «было слышно даже несколько таких озлобленных голосов против Мартынова, что, не будь он арестован, ему бы несдобровать»[189]. Некоторые обещали вызвать Мартынова на дуэль. Но сам арестованный об этих настроениях не знал и даже не мог предположить, что незнакомые люди будут так скорбеть об убитом им человеке. Поэтому в день похорон Мартынов, изображая раскаяние, написал коменданту Ильяшенкову записку: «Для облегчения моей преступной скорбящей души, позвольте мне проститься с телом моего лучшего друга и товарища»[190]. Ильяшенков несколько раз перечитал записку и вместо ответа поставил сбоку на поле бумаги вопросительный знак, подписав свою фамилию. С этой запиской писарь комендатуры Карпов за час до выноса тела Лермонтова стрелой умчался к полковнику Траскину. Начальник штаба войск Кавказской линии, находившийся до и после дуэли в Пятигорске, прочитав записку и ни слова не говоря, написал ниже подписи коменданта «Нельзя. Траскин». Похороны М. Ю. Лермонтова состоялись 17 июля. Они были торжественны и необычайно многолюдны. Казалось, весь Пятигорск пришел отдать последние почести поэту. Дамы были в трауре. Гроб несли на руках до самого кладбища. Люди шли за гробом в каком-то благоговейном молчании. В полной мере христианский обряд все же не был совершен: хотя поэта похоронили на церковном кладбище (получили разрешение на это друзья Лермонтова с невероятными трудностями), но тело его не допустили в приходскую церковь и у могилы погребение пето не было. Сбылось пророчество беспокойного, дерзкого и гонимого поэта:Следствие и суд
На следующий день после дуэли, 16 июля, комендант Пятигорска полковник Ильяшенков сообщил плац-майору Унтилову: «Лейб-гвардии Конного полка корнет Глебов вчерашнего числа в вечеру пришел ко мне в квартиру, объявил, что отставной майор Мартынов убил на дуеле Тенгинского пехотного полка поручика Лермантова, и что эта дуель происходила версты за четыре от города Пятигорска у подошвы горы Машухи…»[191]. Этим документом открывается следственное дело, начатое пятигорскими властями сразу после поединка. На обложке его значится: «Дело № 37. О Дуэли маиора Мартынова и поручика Лермантова, на коей первый убил последнего». Полковник Ильяшенков назначил Следственную комиссию в составе: председатель — плац-майор Пятигорска подполковник Унтилов, члены — три представителя судебных и гражданских властей города Черепанов, Марушевский и Ольшанский 2-й, а также жандармский подполковник Кушинников. Председатель комиссии подполковник Ф. Ф. Унтилов был уважаемым в городе человеком, много лет прослужившим на Кавказе, Георгиевским кавалером. Историки положительно оценивают его личность. Однако при расследовании убийства Лермонтова на дуэли нужно признать отсутствие у Унтилова принципиальной, честной позиции. Следствие шло в направлении максимально возможного обеления убийцы и секундантов и очернительства убитого. Вероятно, в мозгу Унтилова и других членов комиссии подспудно сидела мысль, что среди правонарушителей находится сын одного из самых влиятельных людей России, председателя Государственного совета, а пострадавший был сосланным, которого не любил император. Уже 16 июля были допрошены Глебов и Васильчиков и, в присутствии секундантов, осмотрено место происшествия, о чем составлен «Акт», часть текста которого нами уже приводилась. На месте происшествия обнаружены следы дуэли: «истоптанная трава», «следы от беговых дрожек», «на месте где Лермантов упал и лежал мертвый, приметна кровь». Однако следователи не нашли (возможно и не искали) пулю. Осталось невыясненным, какая она была (пистолетная или винтовочная), с какой стороны находилась от тела убитого. Если бы пуля была обнаружена, не родились бы в дальнейшем фантастические версии о «казаке» и «выстреле в спину». Существенным недостатком следствия явилась плохая работа со свидетелями. На поединке присутствовали посторонние лица, которые затем разносили подробности о поединке по всему городу. Но следователи даже не попытались найти среди жителей прямых очевидцев дуэли. Преимущественно допрашивали свидетелей ссоры. При этом словно руководствовались не тем, чтобы что-то выяснить, а тем, как бы не обнаружить чего-либо нежелательного, «лишнего», не совпадающего с показаниями Мартынова и секундантов. Слуги Мартынова и Лермонтова дружно показали, что о дуэли ничего «не знали», куда и зачем уезжали 15 июля господа — «не ведали». Ссора произошла в доме Верзилиных, но следователь сам помог своими советами выгородить М. И. Верзилину и ее дочерей, чтобы их имена не фигурировали негативно в деле[192]. Свидетелей поединка практически не искали, положившись лишь на показания двух арестованных секундантов и Мартынова. Последние сделали все возможное, чтобы исключить из дела прочих свидетелей дуэли. Объяснимо их стремление выгородить Столыпина и Трубецкого, которые могли пострадать из-за немилости царя. Но зачем им нужно было утаивать имя проводника Чалова, державшего в поводу лошадей, которого наказывать по суду было совершенно не за что? А они заявили, что лошади якобы были привязаны к кустам. «Проводников у нас не было. Лошадей мы сами привязали к кустарникам»,[193] — показал Мартынов. Васильчиков, Глебов и Мартынов просто боялись, что негласные свидетели поединка проговорятся и расскажут подробности, невыгодные Николаю Соломоновичу и секундантам, тем более, если раскроют всю правду о ходе дуэли. Особенно они опасались показаний тонкого знатока дуэльных правил Руфина Дорохова. Существенным нарушением в работе Следственной комиссии было отсутствие изоляции подследственных друг от друга: Глебов и Васильчиков вместе находились на гауптвахте и вели оживленную переписку с Мартыновым, который содержался в городской тюрьме. Комиссия 17 июля предъявила подследственным вопросы, на которые они должны были дать письменные ответы. Благодаря переписке, ответы они многократно согласовывали друг с другом. Показания отрабатывались, сообща продумывались. Многое просто утаивалось. Обширная литература по лермонтоведению терпимо относится к этим нарушениям законности и поведению на следствии Мартынова, Глебова и Васильчикова, называя это «ложью во спасение», что де мертвому уже не поможешь, а живых участников дуэли нужно было выгородить, пусть даже и путем лжи и обмана. Но дело в том, что в результате лживых показаний Мартынова и секундантов произошло некоторое очернительство личности великого поэта. Преуспел в этом даже Михаил Глебов, по существу предав своего друга. Для истории сохранился документ, который убедительно показывает, как подследственные сговаривались друг с другом. Это записка, написанная во время следствия рукой Глебова от лица его самого и Васильчикова и предназначенная для Мартынова: «Посылаем тебе брульон[194] 8-й статьи. Ты к нему можешь прибавить по своему уразумению; но это сущность нашего ответа. Прочие ответы твои совершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал верхом на своей лошади, а не на дрожках беговых со мной. Ты так и скажи. Лермонтов же поехал на моей лошади: так и пишем… Признаться тебе, твое письмо несколько было нам неприятно[195]. Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и во всем, но и потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова, и приписываем этот выстрел несчастному случаю…»[196]. В таком духе написана вся записка. Почти каждая фраза ее содержит подсказку, как отвечать по тому или иному вопросу. Большинство подсказок лживы. Так, Мартынову посоветовано показать, что он, боевой кавказский офицер, якобы лишь третий раз в жизни стрелял из пистолета, не хотел-де убивать противника и попал в него случайно, рекомендовано: «придя на барьер, напиши, что ждал выстрела Лермонтова» и т. п. Записка эта показывает, как мало можно полагаться на официальное следствие по делу о смерти поэта. Укажем основные пункты лжесвидетельства Мартынова и его секундантов: Утаено от следствия жестокое условие трех выстрелов, по которому Мартынов имел возможность с трех попыток с очень близкого расстояния поразить Лермонтова, который отказывался от своих выстрелов. Секунданты сделали подсказку Мартынову исключить из своих показаний упоминание о смертельных условиях дуэли. Рукою «друга» Лермонтова М. П. Глебова выведено: «Покамест не упоминай о условии трех выстрелов: если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего, надо будет сказать всю правду»[197]. Правда не была сказана, так как запроса, естественно, от сочувствующих Мартынову и секундантам следователей не последовало. Секунданты и Мартынов «увеличили» в показаниях расстояние между дуэлянтами с действительных 6-10 шагов до мнимых 15! Скрыли факт о высоко поднятой вверх руке Лермонтова с пистолетом и о выстреле поручика в воздух. Утаили от правосудия категорический отказ поэта стрелять в своего противника, высказанный еще до поединка. Не сообщили, что Мартынов выстрелил после команды «Три», когда по условиям стрелять уже было нельзя. Совершили сокрытие всех нежелательных свидетелей поединка (Столыпина, Трубецкого, Дорохова, Чалова и других). Пытались запутать вопрос, от кого исходил вызов на дуэль. Якобы Лермонтов после ссоры произнес слова «потребуйте от меня удовлетворения», которые заключали в себе уже косвенное приглашение на дуэль. Поэтому Мартынов якобы был вынужден сделать вызов, который с его стороны был лишь формальным актом, а инициатива поединка исходила от Лермонтова. Следственная комиссия удовлетворилась показаниями одной, заинтересованной стороны и не подвергла их объективной проверке. Интересы пострадавшей стороны в ходе следствия не представлял и не защищал никто. Уже 30 июля Следственная комиссия закончила свою работу. Материалы были направлены главе гражданской администрации Северного Кавказа И. П. Хомутову, который, заключив, что участь офицера Глебова должны решить военные власти, постановил передать дело Мартынова и Васильчикова, как гражданских лиц, в Пятигорский окружной суд. Здесь занялись делом об убийстве на дуэли Лермонтова отставным майором Мартыновым с начала сентября 1841 года. В городе к тому времени не умолкали толки о нечестном характере поединка. Над подсудимыми Мартыновым и Васильчиковым стали сгущаться тучи, ибо в гражданском суде к делу отнеслись внимательнее, решив не доверяться слепо уже собранным материалам, а провести новое расследование. Мартынов 13 сентября получил новые детальные вопросные пункты. Самый острый вопрос ставился так: «Не заметили ли вы у Лермонтова пистолета осечки, или он выжидал вами произведенного выстрела, и не было ли употреблено с вашей стороны, или секундантов, намерения к лишению жизни Лермонтова противных общей вашей цели мер?» Вторая часть вопроса означала: не было ли нарушения дуэльных правил, умышленного убийства противника в обход условий дуэли. Мартынов ответил так же, как он привык отвечать на вопросы в Следственной комиссии, — уклончиво и неполно. Он ответил лишь на первую часть вопроса: «Хотя и было положено между нами считать осечку за выстрел, но у его пистолета осечки не было»[198]. Этим ответом Мартынов уже как бы признал, что Лермонтов выстрелил в воздух или в сторону. Он не ответил письменно на вторую, более важную часть вопроса, но Николай Соломонович понимал, что следователи могли получить ответ при допросах, найти свидетелей и т. п. Следствие намеревалось, видимо, всерьез расследовать ходившую по Пятигорску версию о выстреле в упор в Лермонтова, который не желал стрелять в противника и разрядил пистолет в воздух. Но здесь Мартынову и Васильчикову очень повезло — гражданский суд не успел закончить рассмотрение дела, ибо в середине сентября до Пятигорска дошло распоряжение Николая I (от 4 августа) предать всех участников дуэли военному суду с последующей конфирмацией[199]. Военный суд над Мартыновым, Васильчиковым и Глебовым под председательством полковника Манаенко состоялся в Пятигорске с 27 по 30 сентября 1841 года. Он завершился в рекордно короткий срок. Во время суда никто не пытался, как это делалось в окружном (гражданском) суде, докопаться до истины. Полностью положились на материалы Следственной комиссии. На первом судебном заседании допросили, без особого пристрастия, подсудимых. При этом задавался вопрос: не имеют ли подсудимые к материалам дела чего-либо добавить или убавить? В соответствии с этим вопросом, убийца Мартынов и секунданты Васильчиков и Глебов отвечали односложно, боясь противоречивых ответов, не вдаваясь в детали дуэли и смерти Лермонтова: что, мол, поединок проходил так, как описано в показаниях, и ничего нового добавить они не могут. В последующие дни были рассмотрены собранные Следственной комиссией материалы, свидетельские показания. В последний день слушания дела, 29 сентября, произошло беспрецедентное событие: замена вещественных доказательств — дуэльных пистолетов. Полковник Ильяшенков, вероятно по просьбе Столыпина, прислал в суд два новых «кухенройтерских» пистолета и сопроводительную бумагу, из которой следовало, что по ошибке были изъяты раньше якобы не те пистолеты. Суд удовлетворил просьбу, заменив оружие. Никаких преступных целей при замене пистолетов не преследовалось, но сама процедура замены была вопиющим юридическим нарушением. Так Столыпину вернули оба его пистолета, из одного из которых Мартынов застрелил Лермонтова. Пистолеты эти Монго хранил у себя до самой смерти, а затем они перешли по наследству к его младшему брату, Дмитрию Столыпину. Приговор военного суда был объявлен 30 сентября. По сравнению с другими дуэльными делами, он был довольно мягок. Мартынов был признан виновным в «произведении дуэли», приведшей к смерти поручика Лермонтова, и подлежащим по Своду военных постановлений (статьям 392 и 393) к «лишению чинов и прав состояния». Такое же наказание было вынесено Глебову и Васильчикову, обвиненными по статье 398 за то, что были секундантами на дуэли и не донесли о ней[200]. Приговор суда имел важный смягчающий пункт, дающий отсрочку исполнения наказания и надежду на прощение: все трое подсудимых выпускались на свободу до высшей конфирмации. Судебная практика по дуэльным делам в России была такова. На первом этапе военный суд определял наиболее суровое наказание, причем в кровавых случаях дуэлянты нередко приговаривались к смертной казни. Но далее дело шло по инстанциям, и на каждом этапе приговор смягчался. Сразу после суда Мартынов и его секунданты были освобождены. Нужно подчеркнуть, что еще задолго до суда Глебову и Васильчикову содержание на гауптвахте заменили домашним арестом, причем Васильчикову даже разрешили переехать в Кисловодск, «так как ему был необходим нарзан»(?!). Мартынова же из городской тюрьмы перевели на гауптвахту, где условия содержания были легче, и даже стали выводить гулять по центру города, по бульвару, опять же заботясь о здоровье арестованного и особенно о его легких, которым нужен был чистый, свежий воздух. «Когда Мартынова перевели на гауптвахту, которая была тогда у бульвара, — вспоминала Э. А. Шан-Гирей, — то ему позволено было выходить вечером в сопровождении солдата подышать чистым воздухом, и вот мы однажды, гуляя на бульваре, встретили нечаянно Мартынова. Это было уже осенью; его белая черкеска, черный бархатный бешмет с малиновой подкладкой произвели на нас неприятное впечатление. Я не скоро могла заговорить с ним, а сестра Надя положительно не могла преодолеть своего страха (ей тогда было всего 16 лет). Васильчикову и Глебову заменили гауптвахту домашним арестом, а потом и совсем всех троих освободили; тогда они бывали у нас каждый день до окончания следствия и выезда из Пятигорска. Старательно мы все избегали произносить имя Лермонтова, чтобы не возбудить в Мартынове неприятного воспоминания о горестном событии»[201]. Как видим, опять начались милые встречи очаровательных барышень Верзилиных с красавцем Мартыновым. Уже через два с половиной месяца после его бесчестного поступка (так его расценили жители Пятигорска) они принимают его каждый день. И опять, наверное, музыка, фортепиано, танцы? А какая трогательная забота об убийце! Чтобы ни одного словечка, ни одного намека о Лермонтове, иначе можно травмировать нежную психику Николая Соломоновича! Не случайно Н. П. Раевский, который долго еще оставался в Пятигорске после печального события, вспоминал: «Пришлось мне также быть свидетелем того, как ненависть прекрасного пола к Мартынову, сидевшему на гауптвахте, перешла мало-помалу в сострадание, смягчаемая его прекрасною, заунывною игрою на фортепиано и печальным видом его черного бархатного траура»[202]. По натуре своей русский человек необыкновенно добр, великодушен и быстро прощает зло. Может быть, это и не всегда хорошо? Между тем, военно-судное дело ушло по инстанциям. Сначала командующий войсками на Кавказской линии генерал П. X. Граббе, а затем командир Отдельного Кавказского корпуса генерал Е. А. Головин смягчили приговор. Генерал Е. А. Головин постановил: Мартынова лишить чинов и ордена, выписать в солдаты до выслуги без лишения дворянского достоинства, а Глебова и Васильчикова выдержать еще в крепости на гауптвахте один месяц и Глебова перевести из гвардии в армию тем же чином. Из Тифлиса 23 ноября дело было отправлено в Петербург на высшую конфирмацию. Между тем, Глебову и Васильчикову уже разрешили выехать в Петербург, а Мартынову — в Одессу, которую тот избрал местом жительства. Многие понимали, что Мартынова и секундантов не накажут строго, что царь еще более смягчит приговор. Для этого было две причины: во-первых, Николай Павлович патологически не любил Лермонтова, во-вторых, император не хотел осложнять отношения с глубоко преданным ему человеком, своим любимцем И. В. Васильчиковым — отцом секунданта А. И. Васильчикова. По этим двум причинам Мартынову повезло необычайно — сам-то император его не очень жаловал. Рассчитывал на снисхождение и Михаил Глебов, который летом 1841 года лечил в Пятигорске руку после тяжелого ранения ее в бою с горцами. Московский почт-директор А. Я. Булгаков еще за 5 месяцев до окончательного приговора предсказывал легкое наказание Мартынова: «Князь Васильчиков был одним из секундантов; можно было предвидеть, что вину свалят на убитого, дабы облегчить наказание Мартынова и секундантов»[203]. Он оказался абсолютно прав. Вот текст высочайшей конфирмации, продиктованный 3 января 1842 года Николаем I: «Высочайше повелено: майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию. Титулярного же советника князя Васильчикова и корнета Глебова простить, первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной им тяжелой раны»[204]. Таким образом, убийца Мартынов получил беспрецедентно мягкое наказание, а его секунданты Васильчиков и Глебов остались безнаказанными.Эпилог
Осталось лишь подвести черту под трагическим противостоянием Лермонтова и Мартынова, приведя отклики современников на гибель дерзкого, непокорного человека, но Гениального Поэта, и рассказав о безбедном, спокойном и сытом существовании его убийцы, Серой Обыденной Посредственности. Горестная весть об убийстве Лермонтова на дуэли Мартыновым дошла до Москвы и Петербурга лишь в августе 1841 года с кавказской почтой. Благодаря частным письмам и людской молве печальное событие это, траурное для всей русской литературы, распространилось среди читающей публики. Однако для большинства россиян узнать подлинные обстоятельства гибели Лермонтова не представлялось возможным — почти все газеты и журналы хранили полное молчание. Писать о дуэлях в то время вообще не рекомендовалось, а сообщать о поединке Лермонтова и Мартынова было категорически запрещено. Лишь отдельные столичные журналы все же исхитрились и, рискуя навлечь на себя гонения, перепечатали крохотную заметку А. С. Андреевского из «Одесского вестника»: «Пятигорск. 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с молниею и громом; в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта…»[205] В. Г. Белинский, приведя это сообщение в «Отечественных записках», написал: «Нельзя без печального содрогания сердца читать этих строк»[206]. Но как же намекнуть читателям, что Михаил Юрьевич умер не своей смертью, а убит на дуэли? И находчивый Виссарион Григорьевич цитирует строки из «Евгения Онегина», которыми А. С. Пушкин описал гибель Ленского на дуэли:* * *
Начиная свой рассказ о судьбе палача, хочу подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, русский народ по натуре своей не злопамятен и в гневе своем удивительно отходчив. Во-вторых, в обществе нашем в XIX веке, о чем мы только что упоминали, находились люди, не любившие и даже ненавидевшие Лермонтова. Поэтому русское общество после злодейского убийства поэта раскололось на два лагеря. Большинство осуждало и клеймило убийцу, но раскаленная докрасна ненависть эта с каждым годом остывала и остывала, превратившись затем в снисходительную терпимость по отношению к этому добродушному и даже доброму с виду, но на самом деле — гнусному и мерзкому типу. С ним вместе жили, ели, пили, играли в карты, разговаривали, слушая его хвалебные, самоуверенные речи. Другая же, ничтожная как по количеству, так и по красоте души человеческой, часть русского общества, ненавидевшая поэта, радовалась его гибели и тайно или явно симпатизировала его палачу. Поэтому убийца великого русского поэта, гордости нации, не стал, как ни странно, в нашем обществе изгоем и жизнь прожил размеренную, спокойную и сытую. Когда стали известны результаты высочайшей конфирмации, Мартынов был препровожден из Одессы в Киев и с 26 января 1842 года в течение 3-х месяцев содержался под арестом в Киевской крепостной гауптвахте. Срок церковного покаяния (епитимьи) для него должна была назначить Киевская духовная консистория. Постановлением Киевской духовной консистории, утвержденным, за отсутствием высокопреосвященного Филарета, архиереем Иеремием, Мартынову была наложена 15-летняя епитимья. Такой длительный срок церковного покаяния был определен потому, что консистория приравняла убийство на дуэли к умышленному убийству В течение всего этого срока Мартынов должен был жить в Киеве, пребывая на территории Киево-Печерской Лавры. Вначале решение о 15-летнем сроке епитимьи ввергло Николая Соломоновича в настоящий психический шок. Он тут же принялся строчить ходатайства в Синод о смягчении приговора Киевской духовной консистории и уменьшения срока епитимьи. Очевидно, он предполагал тяжелые условия своего пребывания в Киеве. Это потом он разберется, что к чему, и возрадуется решению императора определить ему этот райский уголок земли для «покаяния». Да и, в самом деле, кто из нас не хотел бы пожить несколько лет в столице Древней Руси, в этом сказочно красивом городе, величественно раскинувшемся на берегах великого Днепра? Мартынов отбывал церковное покаяние в Киеве с полным комфортом. Он занимал прекрасную квартиру в одном из флигелей Киево-Печерской Лавры, имел богатую обстановку. Пребывание Мартынова в Киеве проходило под покровительством военного генерал-губернатора Д. Г. Бибикова. Семейство Мартыновых было с Бибиковым в свойстве, а вскоре и в родстве, так как дочь старшей сестры Николая Соломоновича, Елизаветы Соломоновны Шереметевой, вышла замуж за сына Бибикова. П. А. Висковатов так пишет о житье-бытье Мартынова во время церковного покаяния: «Киевские дамы были очень им заинтересованы. Он являлся изысканно одетым на публичных гуляньях и подыскивал себе дам замечательной красоты, желая поражать гуляющих и своим появлением, и появлением прекрасной спутницы. Все рассказы о его тоске и молитвах, о „ежегодном“ навещании могилы поэта в Тарханах — изобретения приятелей и защитников. В Тарханах, на могиле Лермонтова, Мартынов был всего один раз проездом»[216]. Вот вам и кающийся грешник, усердно замаливающий свой грех в Лавре! Как было установлено впоследствии, Мартынов в первые годы ссылки ежегодно 15 июля усаживался за письменный стол и строчил царю и в Синод ходатайства о смягчении своей участи. Помимо этого, он регулярно писал просьбы о поездках в Петербург, Москву, Воронеж. В столице ему почти во всем шли навстречу. Обер-прокурор Синода разрешал ему поездки в Москву и Воронеж. А в 1844 году Мартынов решил из ссылки отправиться… за границу! Он написал в Синод просьбу отпустить его для лечения водами за границу, приложив к бумаге медицинское заключение о своем «пошатнувшемся» здоровье и ходатайство своего родственника Бибикова. Обер-прокурор Синода обратился к генералу А. Ф. Орлову, начальнику III Отделения. Последний, естественно, наложил резолюцию: «Невозможно…» Да, наверное позавидовали бы такой «ссылке» пребывавшие в это же время где-нибудь в промозглом сибирском Ялуторовске ссыльные декабристы! Вскоре Мартынов женился на прехорошенькой даме и зажил счастливой семейной жизнью. Вот тебе и епитимья! Благодаря многочисленным просьбам Мартынова и ходатайствам генерал-губернатора Бибикова Святейший Синод уже в 1843 году сократил срок покаяния с 15 до 5 лет, а 25 ноября 1846-го освободил Мартынова от епитимьи. Мартынову был разрешен переезд в Москву. Но уж так понравилась Николаю Соломоновичу такая «ссылка», что он еще несколько лет прожил в Киеве и лишь затем отправился в Москву, где разместился в собственном доме. Вот такое «наказание» понес отставной майор Мартынов за убийство великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Мартынов жил в Москве довольно богато. Ф. Ф. Маурер, владелец красивого московского особняка, утверждал впоследствии, что Николай Соломонович частенько вел в его доме крупную карточную игру. Более того, Маурер уверял, что это было единственным доходом Мартынова. Вероятно, слава великого карточного шулера, его дяди Саввы Мартынова, не давала Николаю Соломоновичу покоя. В. М. Голицын в своих воспоминаниях о «старой» Москве, рассказывая о московском обществе 1870-х годов, писал: «Не могу не упомянуть о Мартынове, которого жертвой пал Лермонтов. Жил он в Москве уже вдовцом, в своем доме в Леонтьевском переулке, окруженный многочисленным семейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя лучше оправдывал данную ему молодежью кличку „Статуя Командора“. Каким-то холодом веяло от его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, суровым взглядом… Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который присущ был самой его натуре»[217]. Особенное понимание Мартынов находил в английском клубе, членом и завсегдатаем которого он был. Здесь собирались московские тузы, богатые и знатные люди, буржуа с либеральными взглядами. В этой среде он был любим и уважаем. Здесь у него было много защитников. Они называли его «благороднейшим человеком», ставшим жертвой жестокого характера поэта. Поговаривали, что Мартынов ежегодно в роковую дату, 15 июля, ездил в один из окрестных монастырей Москвы, уединялся там и служил панихиду. Очевидно, так оно и было. И в этом нет ничего удивительного. Ведь Николай Соломонович был по характеру своему артист и позер. Рудольф Баландин пишет: «…геростратова слава устраивала посредственного во всех отношениях — кроме честолюбия и самомнения — Мартынова»[218]. Ну, на самом деле, кем бы был Мартынов в обществе без этого клейма убийцы Лермонтова? Отставной майор, карточный игрок, поэт-дилетант, стихи которого никто не публикует и никто не читает. В общем, неудачник в жизни. А так он всегда на виду, на него все смотрят (не важно, что большинство — не с состраданием, а с некоторым презрением), пытаются поговорить, познакомиться и т. п. Раскаяние Мартынова было показным, а не искренним. Он действовал на зрителя, устраивая целые спектакли с посещением церкви 15 июля, а в действительности нисколько не раскаивался и временами недобро отзывался об убиенном им человеке. Маурер, Бетлинг и другие господа из московского окружения Мартынова вспоминали, что Николай Соломонович нередко в беседах, особенно в тесных мужских компаниях, пытался оправдаться в произошедшей много лет назад трагедии. Он утверждал, что причиной раздора послужил нечестный поступок Лермонтова, якобы распечатавшего письмо к нему, обвинял поэта в неблаговидном поведении по отношению к его сестре, нелестно отзывался о секундантах, «раздувших ссору», серьезно пытался убедить собеседников, что он даже не умел стрелять из пистолета и не хотел убивать Лермонтова, попав в него совершенно случайно. К Мартынову неоднократно обращались не только устно, но и печатно, с просьбой написать воспоминания о Лермонтове и их дуэли. Дважды Николай Соломонович начинал свои записи и оба раза бросал, написав всего по нескольку страниц. Дальше воспоминаний о совместной учебе в Школе юнкеров он не пошел. Мартынов прожил 60 лет и умер спустя 34 года после дуэли — 25 декабря 1875 года. «Сегодня минуло ровно тридцать лет, как я стрелялся с Лермонтовым на дуэли, — писал в своей „Исповеди“ Мартынов. — Переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен, я чувствую желание высказаться, потребность облегчить свою совесть откровенным признанием самых заветных помыслов и движений сердца по поводу этого несчастного события»[219]. Однако исповедь свою убийца так и не завершил. У него не хватило мужества рассказать всю правду.* * *
Вот и подошел к концу наш рассказ о трагическом столкновении Гения с беспокойным, тяжелым характером и большим человеческим сердцем и «доброй» Посредственности, заслужившей в полной мере мерзкого звания злодея. Жизнь — это борьба! Борьба, идущая каждый день на каждом метре земного пространства. Борьба за счастье и благополучие людей, борьба за красоту, борьба за здоровье, борьба за природу. В яростной и беспощадной борьбе этой труднее всего приходится гениям. Огромная Серая Масса Посредственностей, снующая беспрерывно в бесплодной суете мирской, душит их. Гению необычайно тяжело при жизни. Звериные вопли хулителей Лермонтова до сих пор доносятся из прошлого: Посредственности не давали ему жить и не оставили в покое даже после смерти. Но, перефразируя слова П. А. Висковатова, можно с уверенностью сказать, что бычачий рев не может превозмочь соловьиное пенье! И летят чарующие звуки лермонтовских стихов над земными просторами, вызывая восторг в душе и волшебное упоение красотою жизни. У Михаила Юрьевича был, к большому его несчастью, очень трудный и тяжелый характер. Это чистая правда. Но я люблю Лермонтова таким, какой он есть, без всяких приукрашиваний, со всеми его недостатками и пороками. Это мой Лермонтов. Перечитывая томики Михаила Юрьевича, его грустные, мелодичные стихи и непостижимо прекрасную, поэтичную, благоуханную прозу, мы не только восторгаемся этим великим литератором, ставя его в один ряд с Гете, Байроном, Шиллером и даже Пушкиным, но и слушаем его, разговариваем с ним, как с живым. Да, он закончил свою земную, биологическую жизнь. Но Лермонтов не умер, он живет в каждом из нас неповторимыми строчками своих произведений. И всюду с нами шагает он рядом по жизни — дерзкий, непокорный и вечно молодой! Портрет H. С. Мартынова. Неизвестный художник.
Портрет H. С. Мартынова. Неизвестный художник.
 Портрет М. Ю. Лермонтова в гусарском сюртуке. Худ. А. И. Клюндер. 1838 г.
Портрет М. Ю. Лермонтова в гусарском сюртуке. Худ. А. И. Клюндер. 1838 г.
 Аграфена (слева) и Надежда Верзилины. Акварель Г. Г. Гагарина. 1840–1842 г.
Аграфена (слева) и Надежда Верзилины. Акварель Г. Г. Гагарина. 1840–1842 г.
 Эмилия Клингенберг (Роза Кавказа). Худ. Р. Белов.
Эмилия Клингенберг (Роза Кавказа). Худ. Р. Белов.
 А. И. Васильчиков. Рисунок Г. Г. Гагарина. 1839 г.
А. И. Васильчиков. Рисунок Г. Г. Гагарина. 1839 г.
 H. С. Мартынов в Пятигорске в 1841 г. Неизвестный художник.
H. С. Мартынов в Пятигорске в 1841 г. Неизвестный художник.
 А. А. Столыпин (Монго). Акварель В. Гау.
А. А. Столыпин (Монго). Акварель В. Гау.
 Князь С. В. Трубецкой. Худ. П. Соколов. 1881 г.
Князь С. В. Трубецкой. Худ. П. Соколов. 1881 г.
 М. П. Глебов. Акварель П. Соколова.
М. П. Глебов. Акварель П. Соколова.
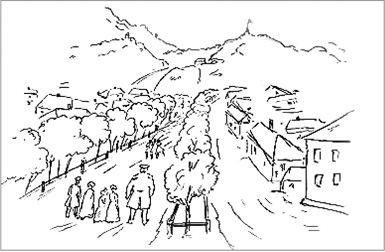 Вид пятигорского бульвара. Рисунок М. Ю. Лермонтова.
Вид пятигорского бульвара. Рисунок М. Ю. Лермонтова.
 Осмотр ординарцев. Рисунок М. Ю. Лермонтова.
Осмотр ординарцев. Рисунок М. Ю. Лермонтова.
 Дуэль. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1832–1834 гг.
Дуэль. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1832–1834 гг.
 Лермонтов на смертном одре. Худ. Р. К. Шведе. 1841.
Лермонтов на смертном одре. Худ. Р. К. Шведе. 1841.
 Пятигорск. Вид с Машука на город и горы Юца, Джуца и Эльбрус. Фото М. Давидова.
Пятигорск. Вид с Машука на город и горы Юца, Джуца и Эльбрус. Фото М. Давидова.
 Домик Лермонтова в Пятигорске. Фото М. Давидова.
Домик Лермонтова в Пятигорске. Фото М. Давидова.
 Пятигорск. Комната М. Ю. Лермонтова. Фото М. Давидова.
Пятигорск. Комната М. Ю. Лермонтова. Фото М. Давидова.
 Зала в доме Верзилиных, где произошла роковая ссора. Слева — рояль, на котором играл князь Трубецкой и стояли рядом Мартынов с Надеждой Верзилиной. Справа — диван, на котором сидели, подшучивая над Мартыновым, Лермонтов, Лев Сергеевич Пушкин и Эмилия. Фото М. Давидова.
Зала в доме Верзилиных, где произошла роковая ссора. Слева — рояль, на котором играл князь Трубецкой и стояли рядом Мартынов с Надеждой Верзилиной. Справа — диван, на котором сидели, подшучивая над Мартыновым, Лермонтов, Лев Сергеевич Пушкин и Эмилия. Фото М. Давидова.
 Зала в домике Лермонтова. Здесь находилось тело убитого поэта. Фото М. Давидова.
Зала в домике Лермонтова. Здесь находилось тело убитого поэта. Фото М. Давидова.
 Дом Верзилиных, где произошла роковая ссора Фото М. Давидова.
Дом Верзилиных, где произошла роковая ссора Фото М. Давидова.
 Доцент М. И. Давидов в первой экспедиции (2007) во время двухмесячного поиска истинного места дуэли.
Доцент М. И. Давидов в первой экспедиции (2007) во время двухмесячного поиска истинного места дуэли.
 Перкальская скала в районе истинного места дуэли. Вдали — гора Змеевая. Фото М. Давидова.
Перкальская скала в районе истинного места дуэли. Вдали — гора Змеевая. Фото М. Давидова.
 Памятник на месте первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова на Пятигорском кладбище. Фото М. Давидова.
Памятник на месте первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова на Пятигорском кладбище. Фото М. Давидова.
НУЖНО ЛИ НАМ ОБЕЛЯТЬ УБИЙЦУ ЛЕРМОНТОВА? Статья[220]
В 2003 году журнал «Москва» в № 7 и 8 опубликовал мою документальную повесть «Дело № 37»[221], посвященную трагическому противостоянию великого русского национального поэта Михаила Юрьевича Лермонтова и Николая Соломоновича Мартынова. Как известно, жизненные пути двух этих сложных людей и по существу антиподов многократно пересекались, что завершилось роковым для русской литературы исходом 15 июля 1841 года в результате поединка, который, как заявил один из современников дуэлянтов, был совершен «против всех правил чести, благородства и справедливости»[222]. «Дело № 37» — вещь сугубо документальная, прочно опирающаяся на исторические и документальные материалы, которых насчитывается 116 в приведенном списке литературных источников. Тем большееудивление вызвала книга «В чужом пиру… Михаил Лермонтов и Николай Мартынов»[223], в которой известный лермонтовед А. В. Очман обрушил свой гнев на публикацию журналом «Москва» этого документального произведения. Потоки грязи вылиты и на автора, который, к слову, имеет более 500 опубликованных работ по медицине и литературоведению, ученое звание доцента и в течение 35 лет жизни, помимо основной профессии врача-хирурга, все свободное время посвятил изучению обстоятельств гибели М. Ю. Лермонтова. Это не помешало уважаемому Александру Владимировичу, помимо прочих обидных определений, назвать автора «неофитом», новичком, который «ранее на „лермонтовском поле“ замечен не был». Очевидно, если следовать логике А. В. Очмана, на этом так называемом «поле» все уже «схвачено» и поделено и новым лицам там делать нечего. С сожалением приходится констатировать, что как раньше, так и сейчас среди биографов и исследователей творчества Лермонтова были и есть авторы, которые только за собой оставляли и оставляют право на истину, с порога отметая все, что хоть в чем-то не согласуется с их взглядами. Совершенно не претендуя на личное «Я» и скромно оценивая свои возможности, считаю неразумным ограничивать круг исследователей творчества и биографии Лермонтова узкой группой профессионалов. Вспомним, что Сергей Иванович Недумов был простым бухгалтером, что не помешало ему стать классиком лермонтоведения! Чтобы «доказать» «ошибочность и ненаучность» нашей версии свершившейся дуэли, А. В. Очман на 6 страницах дословно воспроизводит часть работы, касающуюся хода поединка: «М. Давидов живописует: „Прибыв к месту поединка, Лермонтов и его секунданты встретили там приехавшего чуть раньше на беговых дрожках вместе с Васильчиковым мрачного, молчаливого Мартынова, который церемонно поклонился им. Встретившись взглядом со злыми, холодными глазами Мартынова, Михаил Юрьевич понял, что никакого примирения не будет. Приехавший с добрыми мыслями и сердцем поэт сразу потерял свое веселое настроение, и саркастическая улыбка вдруг исказила черты его лица“»[224] (см. далее по тексту моей повести «Лермонтов и Мартынов: трагическое противостояние», глава «Поединок», которую А. В. Очман не поленился процитировать полностью). Изложение эпизода дуэли А. В. Очман специально привел дословно, как бы показывая: вот, посмотрите на этого дурачка, более полутора веков прошло с момента дуэли, а он как будто там стоял и все своими глазами видел. «Поражает всеведение Давидова, — пишет Александр Владимирович. — Для него, словно для Всевышнего, не существует никаких тайн: ему ведомо настроение Лермонтова, приехавшего на дуэль с добрыми мыслями и сердцем и т. д.»[225]. При этом уважаемый Александр Владимирович собственно не приводит никаких конкретных доказательств, которые бы опровергали ход дуэли в моем изложении. И так, мол, все ясно, какие еще нужны аргументы? Читателю, не сведущему в лермонтоведении, кажется, что Очман действительно прав. Но все дело в том, что буквально каждая фраза в моем повествовании, каждое описанное действие противников и секундантов не являются произвольным изложением, а в действительности опираются на те или иные источники: документальные архивные материалы, воспоминания очевидцев, работы первых биографов поэта, опрашивающих живых свидетелей пятигорских событий 1841 года. Приведем несколько примеров. Казалось бы, ну как можно через полтора века увидеть падение Лермонтова после выстрела и характер его ранения? Оказывается, это описано секундантом А. И. Васильчиковым: «Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди, раненные или ушибленные. Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом — сочилась кровь…»[226]. Вот выдержки из изложения дуэли первым биографом поэта, профессором П. А. Висковатовым, который почерпнул сведения в беседе с живым свидетелем дуэли Васильчиковым: «Мартынов (перед началом дуэли) стоял мрачный, со злым выражением лица. Столыпин обратил на это внимание Лермонтова, который только пожал плечами. На губах его показалась презрительная усмешка… Противников поставили на скате, Лермонтова выше; Мартынова ниже. Это опять была неправильность. Лермонтову приходилось целить вниз, Мартынову вверх, что давало последнему некоторое преимущество. Командовал Глебов. „Сходись!“ — крикнул он. Мартынов пошел быстрыми шагами. Лермонтов остался неподвижен. Взведя курок, он поднял пистолет дулом вверх и, помня наставления Столыпина, заслонился рукой и локтем, „по всем правилам опытного дуэлиста“». «В эту минуту — пишет князь Васильчиков, — я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта». Вероятно, вид торопливо шедшего и целившего в него Мартынова вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение, и он вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета. «Раз… Два… Три!» — командовал между тем Глебов. Мартынов уже стоял у барьера. «Я отлично помню, — рассказывал далее князь Васильчиков, — как Мартынов повернул пистолет курком в сторону, что он называл „стрелять по-французски“. В это время Столыпин крикнул: „Стреляйте! или я разведу вас!..“ Выстрел раздался, и Лермонтов упал как подкошенный»[227]. Естественно, что на этих материалах П. А. Висковатова я в первую очередь базировался при описании хода дуэли. То, что Лермонтов приехал на дуэль в хорошем, почти веселом, расположении духа, подтверждается свидетельством секунданта М. П. Глебова, ехавшего вместе с Михаилом Юрьевичем. Глебов после дуэли рассказывал об этом друзьям и сослуживцам, рассказы которых записал впоследствии П. К. Мартьянов: «Всю дорогу из Шотландки до места дуэли Лермонтов был в хорошем расположении духа»[228]. Миролюбивое настроение Лермонтова и произнесенная им перед раздачей оружия фраза, что он не будет стрелять в Мартынова — доказаны письмом А. С. Траскина генералу П. X. Граббе[229]. Траскин участвовал в допросах арестованных Мартынова и секундантов. Неблагоприятные погодные условия во время дуэли (предгрозовая буря, а затем страшный грозовой ливень) неопровержимо доказаны всеми свидетельствами очевидцев поединка, собранными Висковатовым, а также рассказом Васильчикова. «Из тихой и прекрасной погоды вдруг сделалась величайшая буря, — писал в письме Полеводин, живший во время дуэли в Пятигорске, — весь город и окрестности были покрыты пылью, так что ничего нельзя было видеть. Буря утихла и чрез 5 минут пошел проливной дождь. Секунданты говорили, что как скоро утихла буря, то тут же началась дуэль»[230]. Наконец, главный свидетель — сам убийца Мартынов рассказывал Бетлингу: «На нашу общую беду шел резкий дождь и прямо бил в лицо секундантам»[231]. Расположение дуэлянтов на дуэльной площадке (Лермонтов стоял выше Мартынова) подтверждается мемуарами А. И. Васильчикова и книгой П. А. Висковатова, а также воспоминаниями приятеля поэта офицера Н. П. Раевского[232]. Факт обидной для отставного майора Мартынова фразы, громко произнесенной Лермонтовым в ответ на принуждение секундантов произвести выстрелы (после сигнала «Три»), признается сейчас подавляющим большинством лермонтоведов. Приведем только свидетельство сына князя Васильчикова, Б. А. Васильчикова, который неоднократно слышал рассказы об обстоятельствах роковой дуэли от отца: «Лермонтов поднял дуло пистолета вверх, обращаясь к моему отцу, громко, так что Мартынов не мог не слышать, сказал: „Я в этого дурака стрелять не буду!“»[233]. Не будем больше утомлять читателей ссылками на первоисточники, но по ним вытекают и все другие изложенные нами обстоятельства дуэли: произнесенная едва слышно фраза Лермонтова «Миша, умираю» (свидетельство Михаила Глебова), поцелуй убийцей поэта со словами «Миша, прости мне!», оставленная Мартыновым черкеска на дуэльной поляне и т. п. Итак, абсолютно все обстоятельства хода поединка в моем описании подтверждаются первоисточниками, документальными материалами. Поэтому я не могу принять тех оскорбительных высказываний в свой адрес, которые изрек глубокоуважаемый Александр Владимирович. Главный недостаток моей работы А. В. Очман видит в расхождениях с версией В. А. Захарова, изложенной в книге «Загадка последней дуэли»[234]. Очман даже засомневался, знаком ли я вообще с этой работой. Конечно, я внимательно изучил эту книгу В. А. Захарова, как и все другие его произведения на лермонтовскую тему. Как же можно, 35 лет с колоссальными трудностями добывать малодоступную литературу в спецхранах и не прочесть книгу, которой сейчас завалены буквально все книжные магазины страны? Но дело в том, что я как раз и не считаю работу Захарова (с уважением относясь к ее автору Владимиру Александровичу) истиной в последней инстанции. В рекомендуемой работе я нахожу ошибки и расхождения с некоторыми документальными материалами и не могу принять как окончательную, незыблемую версию. В ней представлен свой взгляд на обстоятельства и ход дуэли Лермонтова и Мартынова, который я уважаю, но с некоторыми положениями автора принципиально не согласен. И не только я, но и многие современные литературоведы и историки. Я не говорю уж о классиках лермонтоведения — П. К. Мартьянове, П. А. Висковатове, Э. Г. Герштейн, С. В. Чекалине, Т. А. Ивановой, Е. И. Яковкиной, С. И. Недумове, И. Л. Андроникове, С. Б. Латышеве. В. А. Мануйлове, Д. А. Алексееве, точки зрения которых по некоторым важнейшим пунктам находятся в явном противоречии с работами В. А. Захарова и самого А. В. Очмана. Сразу оговорюсь, что я не являюсь сторонником вульгарных и неправдивых версий заговора, задуманного в Санкт-Петербурге и осуществленного у подошвы Машука руками Мартынова или некоего мифического «казака». И первая глава документальной повести («Версии заговора») убедительно доказывает это[235]. Основное, что не нравится А. В. Очману в моем скромном труде, — обвинения H. С. Мартынова в убийстве М. Ю. Лермонтова. Никакого убийства не было, был «честный дуэльный поединок» — в один голос трубят и Захаров, и Очман. Обе их работы являются неприкрытой попыткой обелить убийцу великого русского национального поэта. Сам, мол, виноват. Дерзкий и язвительный был, врагов наживал, над всеми насмехался. Сам де и вызвал Мартынова на дуэль (смерти желал!), на месте поединка посмел пресловутый «дуэльный кодекс» самого графа де Шатовиллара нарушать, отказываясь от своего выстрела и поднимая вверх руку с пистолетом, намереваясь выстрелить в воздух, а не убивать Николая Соломоновича. Желанием сохранить таким образом Мартынову жизнь, мол, де пытался сильно его оскорбить. Чтобы обелить Мартынова, А. В. Очман пытается искусственно «увеличить» дистанцию между соперниками и убедить всех, что боевой офицер Мартынов «плохой стрелок» и попал в поэта совершенно случайно. Да и оружие, мол, в его руке было дрянное. Дистанцию между дуэлянтами Очман «удлинил» с 10 шагов, указанных в воспоминаниях А. И. Васильчикова (что соответствует 6,6 м), аж до 15 метров[236], то есть в 2,5 раза! Он же утверждает, что из «кухенройтеров», которые применялись на поединке, попасть в противника очень сложно, тем более такому «плохому», по его мнению, стрелку, как Мартынов. В моем изложении хода дуэли предположено, что в условиях плохой видимости (ливневого дождя) взбешенный Мартынов мог машинально переступить условный барьер. При этом я опирался на ряд работ известных лермонтоведов[237], которые уверены в том, что Мартынов переступил черту. В частности, Э. Г. Герштейн писала: «Вторым обвинением (современников поэта и историков) против Мартынова являлось нарушение установленной границы. Судя по первым откликам (письма жителей и гостей Пятигорска после дуэли), Мартынов приблизился к Лермонтову, перейдя барьер. Васильчиков в рассказе для „Русского архива“ написал неопределенно: „Мартынов быстрыми шагами подошел и выстрелил“. В набранной рукописи этой статьи вставлено рукой П. И. Бартенева: „к барьеру“»[238]. Даже если Мартынов и не переступил за условную черту, дистанция между дуэлянтами все равно была ничтожно мала — около 6,6 м. Встаньте напротив друг друга на таком расстоянии, и вы убедитесь, как это близко, особенно если на вас наведено дуло пистолета. Миф о том, что Мартынов — плохой стрелок, появился через много лет после поединка. Как доказали лермонтоведы, слух о слабой стрелковой подготовке Николая Соломоновича распустил… он сам. В беседах с завсегдатаями Английского клуба, уже в 1860-х годах. Николай Соломонович серьезно пытался убедить собеседников, что он даже не умел стрелять из пистолета и не хотел убивать Лермонтова, попав в него «совершенно случайно», по ошибке. Однако в 1841 году никто из пятигорского окружения и бывших сослуживцев Мартынова не сомневался в хорошей стрелковой подготовке майора, хотя Лермонтов считался более метким стрелком. Ведь Мартынов был боевым офицером, с 1837 года постоянно участвующим в боевых действиях на Кавказе, за службу был отмечен 27 высочайшими благодарностями, за участие в экспедиции против горцев был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом. И то, что боевой офицер, 4 года участвующий в кровопролитных сражениях против горцев, не сможет попасть из пистолета в человека, неподвижно стоящего напротив него всего в 10 шагах (6,6 м) — явная нелепость! Мнение о плохой стрелковой подготовке Мартынова у непосвященных могло сложиться из-за своеобразной манеры стрельбы любившего оригинальничать Николая Соломоновича, который прицеливался, разворачивая пистолет на 90 градусов (курком в сторону), что он называл «стрелять по-французски». Но на точность стрельбы такая техника не влияет. Попробуйте, поупражняйтесь в тире и найдете удовольствие в такой своеобразной стрельбе. Я это в свое время проделал, совершив своего рода «следственный эксперимент». Уже на 2-3-й день упражнений в тире вы выбиваете практически столько же очков, что и при традиционной технике стрельбы из пистолета. Профессор П. А. Висковатов[239] сообщает, что ему известна еще одна дуэль Мартынова, проходившая в Вильне. Быстро подойдя к барьеру, Мартынов повернул пистолет «по-французски» и метко поразил своего противника. Также не выдерживает никакой критики мнение А. В. Очмана, что «кухенройтер» — плохой пистолет, и попасть из него на дуэли было сложно. На самом деле — специалисты по оружейному делу и военные историки это хорошо знают — крупнокалиберные дальнобойные немецкие пистолеты системы Кухенройтера с кремнево-ударными запалами и нарезным стволом (использованные на дуэли) — мощное и точное оружие. Специально проведенные эксперименты судебных медиков и криминалистов показали, что пистолет Кухенройтера обладает значительно большей пробивной способностью, чем куда более современный пистолет «наган» и сравнимой с пистолетом системы «ТТ»[240]. В этих экспериментах, с расстояния 10 м пуля, выпущенная из Кухенройтера, свободно пробивала грудную клетку насквозь. По точности стрельбы «кухенройтер» нисколько не уступает пистолету системы Макарова, которым была вооружена в последние десятилетия Советская Армия и милиция. Ни В. Захаров, ни А. Очман не дают справедливой оценки поведению Мартынова и секундантов во время следствия, которые писали друг другу записки, отрабатывали выгодные им показания, многое просто утаивали. Авторы терпимо относятся к этим нарушениям законности, называя это «ложью во спасение»: мертвому уже не поможешь, а живых участников дуэли нужно было выгородить, пусть далее и путем лжи и обмана. Но дело в том, что в результате лживых показаний Мартынова и секундантов произошло очернительство личности великого поэта. Почему H. С. Мартынов и А. И. Васильчиков, к слову, всеми правдами и неправдами также защищаемый Очманом, если уж они так любили Лермонтова и чувствовали свою вину в его смерти, не признались честно и открыто в своих грехах и не повинились, а, спасая свою шкуру, всячески выгораживали себя? Записки, изобличающие их лжесвидетельства, сохранились для истории и опровергнуть их невозможно. Один из главных пунктов лжесвидетельства — от следствия утаено жестокое условие трех выстрелов, по которому Мартынов имел возможность с трех попыток с очень близкого расстояния поразить Лермонтова. Бесчеловечные условия дуэли были совершенно не адекватны той мелкой ссоре в доме Верзилиных, которая послужила поводом для вызова. Причем составители условий (сторона Мартынова) уже знали, что Михаил Юрьевич категорически отказывается от своего выстрела, а следовательно, Мартынов будет стрелять в обезоружившего себя противника. Как известно, Лермонтов, по свидетельству Н. П. Раевского, отказался от своего выстрела еще в первой половине дня 14 июля. По условиям, стрелять можно было до трех раз, если противник не убит с первого или второго выстрела. Таким образом, дуэль состояла из трех раундов с разведением соперников на крайние точки перед началом каждого раунда. Во время следствия секунданты сделали подсказку Мартынову исключить из своих показаний упоминание о смертельных условиях дуэли: «Не упоминай о условии трех выстрелов…» Мартынов выполнил такую ценную для него рекомендацию. По тем же условиям, стрелять могли только после счета «Два», по команде «Три» раунд дуэли автоматически считался законченным, стрелять уже запрещалось, дуэлянтов должны были развести на крайние точки. На следствии Мартынов и секунданты подло скрыли, что Николай Соломонович выстрелил после счета «Три», нарушив дуэльные правила! По дуэльному кодексу де Шатовиллара, стрелять после оговоренного счета «Три» считалось преступлением-убийством! Ведь соперник в это время, как правило, расслаблялся, не сохранял уже защитную полубоковую позицию тела, не прикрывал жизненно важные органы рукой или оружием. «Честный человек, скорбящий по убиенному приятелю», как представляет Мартынова А. В. Очман, обязан был без утайки сказать на следствии, что он выстрелил в нарушение дуэльных правил, когда время для выстрела уже истекло! Предполагаю, что после команды «Три» Лермонтов мысленно уже решил: «Пронесло, все же не решился Мартышка на выстрел», расслабился, посчитал, что дуэль уже закончилась, сейчас будут шампанское пить, и сказал свою губительную фразу об обидчивом дураке, которого он не желает лишать жизни. По А. Очману и В. Захарову — Лермонтов погиб по непредсказуемому, нелепому стечению обстоятельств, и никакой вины Мартынова в смерти поэта нет. Более того, Мартынов у них предстает в ореоле мученика, которому мертвый Лермонтов испортил всю жизнь. «Мартынов, отрицая вину в умышленном злодеянии, до конца дней своих мучился грехом смертоубийства, и ежегодные панихиды, заказываемые им в день гибели поэта, — сознательная, искренняя дань во искупление неисправимо совершенного», — заключает А. В. Очман[241]. Так ли это на самом деле? По российским законам того времени отставной майор Николай Соломонович Мартынов совершил преступление и был осужден военным судом 30 сентября 1841 года по статьям 392 и 393 Свода военных постановлений «к лишению чинов и прав состояния». Таким образом, государство официально признало его преступником. Современники расценили дуэль, как совершенную «против всех правил и чести»[242]. С гневом обрушились они на Мартынова, считая, что он совершил «зверский», «бесчеловечный» поступок. Московский почт-директор А. Я. Булгаков утверждал: «Мартынов поступил как убийца»[243]. Однако убийца великого русского поэта, гордости русской нации, не стал, как ни странно, в нашем обществе изгоем и жизнь прожил размеренную, спокойную и сытую. По высочайшей конфирмации Николая I было «повелено: майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию». Постановлением Киевской духовной консистории Мартынову была наложена 15-летняя епитимья. В течение всего этого срока Николай Соломонович должен был жить на территории Киево-Печерской лавры, соблюдать усиленный пост, совершать под наблюдением продолжительные ежедневные молитвы. Запрещалось участие в светской жизни, балах и вечеринках. Однако Мартынов отбывал церковное покаяние в Киеве с полным комфортом. Он занимал прекрасную квартиру в одном из флигелей лавры, имел богатую обстановку. Ему покровительствовал киевский генерал-губернатор, его родственник Д. Г. Бибиков. П. А. Висковатов так описывает житье-бытье «кающего грешника Мартынова» во время епитимьи: «Киевские дамы были очень им заинтересованы. Он являлся изысканно одетым на гуляньях и подыскивал себе дам замечательной красоты, желая поражать гуляющих и своим появлением, и появлением прекрасной спутницы. Все рассказы о его тоске и молитвах, о „ежегодном“ навещании могилы поэта в Тарханах — изобретения приятелей и защитников. В Тарханах, на могиле Лермонтова, Мартынов был всего один раз проездом»[244]. Вот вам и кающийся грешник, усердно замаливающий свой грех в лавре. Уже в августе 1842 году он написал в Синод ходатайство о смягчении своей участи. Ежегодно в день совершенного убийства — 15 июля — он, вместо слез и раскаяния, усаживался за письменный стол и строчил царю и в Синод подобные прошения. В 1843 года Мартынов женился на молодой красавице с большими связями — дочери киевского губернского предводителя дворянства — и зажил счастливой семейной жизнью. После «медового» месяца он на пару с юной женой совершил 3-месячную поездку в Санкт-Петербург и Москву. Вот тебе и епитимья! В декабре 1846 года Святейший Синод освободил Мартынова от епитимьи. Таким образом, он вместо 15 лет совершал покаяние всего 4 года, а если вычесть из этого срока его продолжительные поездки (в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж), то — не более 2 лет! Вот такое «наказание» понес отставной майор Мартынов за убийство великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Мартынов переехал в Москву, жил в полном достатке в богатом собственном особняке. Имел родовое имение Знаменское. Основным источником дохода была крупная карточная игра. Сексуальное здоровье его сохранялось десятилетиями, так что прелестная жена родила ему целых 11 детей! Повзрослев, они дружно принялись защищать отца, в том числе и в печати. Особое понимание Мартынов находил в респектабельном Английском клубе, открытым только для избранного круга богатых и знатных людей. В этой среде он был любим и уважаем, здесь у него было много защитников. Они называли его «благородным человеком», ставшим жертвой тяжелого характера поэта. Существует легенда, что ежегодно в день дуэли Мартынов ездил в один из окрестных монастырей Москвы и заказывал панихиду в память «убиенного боярина Михаила». Я этому охотно верю и не вижу ничего удивительного. Ведь Николай Соломонович был по характеру своему артист и позер. Геростратова слава устраивала посредственного во всех отношениях Мартынова. Кем бы был Мартынов в обществе без этого клейма убийцы Лермонтова? Отставной майор, карточный игрок, поэт-дилетант, стихи которого так и не были опубликованы. А так он всегда на виду, на него все смотрят, пытаются поговорить, познакомиться, рассказывают знакомым, что «живьем» видели убийцу Лермонтова. Так, В. М. Голицын в своих воспоминаниях о «старой» Москве, упустив в изложении многих замечательных людей и ряд интереснейших событий, не преминул упомянуть об «убийце поэта»: «…Мартынов — отец как нельзя лучше оправдывал данную ему молодежью кличку „Статуя Командора“. Каким-то холодом веяло от его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, суровым взглядом… Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты…»[245]. Кстати, о стихах H. С. Мартынова. Удивляет и поражает та радость, с которой он описывает угон скота, сжигание аулов и посевов, разорение жителей Северного Кавказа. Мучила ли Мартынова совесть после того, как он застрелил Лермонтова? «Возможно, мучила»[246], — считает В. А. Захаров. «До конца дней своих он мучился содеянным»[247], — уверен А. В. Очман. По нашему мнению, раскаяние Мартынова было не искренним, показным. Он действовал на зрителя, устраивая целые спектакли с посещением церкви 15 июля, а в действительности нисколько не раскаивался и частенько недобро отзывался об убиенном им человеке. Так, Бетлинг, Маурер и другие господа из московского окружения Мартынова вспоминали, как Николай Соломонович в беседах нередко пытался оправдаться и обвинить погубленного им человека. Он утверждал, что причиной раздора послужил де нечестный поступок поэта, якобы распечатавшего письмо к нему, обвинял Лермонтова в неблаговидном поведении по отношению к его сестре Наталье, нелестно отзывался о секундантах, «раздувших ссору» и т. п. Мартынов прожил 60 лет и умер спустя 34 года после дуэли — в декабре 1875 года. Похоронили его в родовом имении Знаменском. В барском доме после революции 1917 года разместили детский приют. Вскоре беспризорники узнали, что в могиле покоятся останки убийцы Лермонтова. Возмущению их не было предела. Не обладая большими познаниями в русской литературе, они, тем не менее, решили постоять за нее и совершили свой суд над Мартыновым, более справедливый, по их мнению. Могилу разрыли, кости убийцы разбросали по всей округе.* * *
Вот таким он был, самодовольно вышагивая 60 лет по нашей земле, — Николай Соломонович Мартынов. Часто я задаю себе вопрос: почему все же на дуэльной площадке эти два старых знакомых приняли такие кардинально разные решения? Один — поднял руку с пистолетом вверх, не желая стрелять; другой — старательно, долго прицеливался и выстрелил. Михаил Юрьевич в обыденной, повседневной обстановке часто бывал дерзок и язвителен, слыл за неуживчивого, беспокойного и «злого» офицера, но в минуту переломную, драматическую он поступил как порядочный и великодушный человек, считая, что он не вправе прервать чужую, не принадлежащую ему, пусть и посредственную, жизнь. Добропорядочный (как считали), внешне благопристойный и законопослушный, приятный и понятный в среде обывателей, Николай Мартынов в переломный момент считает возможным нажать на курок, чтобы оборвать жизнь 26-летнего юноши-гения, который, останься он жив, смог бы сотворить еще очень много величайших произведений. Никакие смягчающие обстоятельства (обидные додуэльные остроты Лермонтова и выкрик его в кульминационный момент поединка, принуждение секундантов к стрельбе после счета «Три» и т. д.), никакие более мелкие «оправдательные» фактики, выискиваемые современными «адвокатами» Николая Соломоновича, — не могут зачеркнуть того зла, которое совершил Мартынов своим выстрелом. Выстрел Мартынова отнял у нас не только человека и поэта Лермонтова, но и частицу нашей литературы, частицу нашей культуры, частицу нашей русской души! Вот в чем суть преступления, которое совершил Николай Мартынов. Вот почему Мартынова не только можно, но и нужно назвать убийцей! Вот почему мы не имеем никакого морального права защищать и обелять его!ПОДЛИННОЕ МЕСТО ДУЭЛИ ЛЕРМОНТОВА И МАРТЫНОВА Статья-отчет научных исследований и трех экспедиций
Около 40 лет я занимаюсь изучением жизни и деятельности Лермонтова, обстоятельствами его последней дуэли, ранением и причинами смерти. Результаты многолетних исследований опубликованы мною в журналах «Москва» (2003, № 7–8), «Анналы хирургии» (2002, № 2) и других изданиях. Один из наиболее интересных и сложных вопросов: где располагается подлинное место дуэли Лермонтова и Мартынова? Помимо многолетних архивных поисков в Санкт-Петербурге, Москве и Пятигорске, мною организовано и проведено три экспедиции уральских «следопытов» и лермонтоведов в Пятигорске, где у подножия Машука нами велись поиски истинного места дуэли. Результаты первой экспедиции, проведенной в течение двух месяцев, в июне и июле 2007 года, были изложены мною в нашем замечательном журнале «Уральский следопыт»[248], который я читаю от корки до корки около 40 лет. Кратко остановлюсь на них. Как известно, официальное место дуэли М. Ю. Лермонтова, где установлен обелиск работы скульптора Б. М. Микешина, расположено на поляне, которую указал мещанин Евграф Чалов в 1881 году, спустя 40 лет после дуэли. В день поединка два офицера наняли у него верховых лошадей. Чалов верхом поехал сопровождать их. Когда по дороге от Шотландки (Карраса) подъехали к Машуку, группа офицеров спешилась и осталась на придорожной поляне. Чалов был намеренно отправлен с частью лошадей далеко в сторону от дуэльной площадки, как нежелательный свидетель, и чтобы он не стал жертвой случайного попадания пули. Когда раздались выстрелы, владелец лошадей сообразил, что цель поездки молодых людей — дуэль. Евграф Чалов не был свидетелем дуэли, он слышал лишь выстрелы и знал направление, где они прозвучали. Главное негативное восприятие монумента Микешина с окружающей площадкой состоит в ясном понимании того, что вместо места дуэли Лермонтова и Мартынова, тебе показывают поляну, на которой Евграф Чалов пас лошадей! В 1950-х годах, на основании скрупулезного изучения материалов последуэльного следствия, лермонтовед С. И. Недумов заявил, что место поединка располагается на расстоянии более полукилометра от «официального» места дуэли, где-то в районе Перкальской скалы. В дальнейшем поисками этого места занимались С. В. Чекалин, А. В. Очман, А. Коваленко и другие. Но до сих пор единой точки зрения не существует, а разброс в определении конкретного места дуэли достигает 767 м! Во время первой экспедиции 2007 года в пятигорском архиве мне помогала научный сотрудник музея «Домик Лермонтова» Л. Н. Кочкарева, а на местности я работал самостоятельно. Поиски истинного места дуэли, с тщательным прочесыванием и изучением местности, велись мною на территории длиной 1,6 км, шириной 1,4 км (что составляет площадь 224 га), ограниченной на западе обелиском, на востоке оздоровительным лагерем «Радуга», на севере полями перед поселком Иноземцево (бывшая Шотландка), на юге участком склона Машука вблизи вершины (рис. 1; см. с. 170). Изученную территорию с запада на восток пересекает узкое шоссе. Это участок объездной дороги вокруг Машука. Рядом с шоссе идет дорожка терренкура. У сотрудников пятигорского архива я узнал, что краеведы А. Коваленко и Е. Рябов отыскали карту 1843 года, сопоставили ее с современной картой и заявили в литературе, что шоссе на участке северо-западного и северного склонов Машука полностью совпадает со старой дорогой в Николаевскую колонию, на которой проходила дуэль. Передоверившись этим данным, я, в дальнейшем, не совсем точно определил место дуэли. Поиски велись мною, в первую очередь, на основании «Заключения следственной комиссии об осмотре места дуэли М. Ю. Лермантова с H. С. Мартыновым», которое я отыскал ранее в петербургских архивах: «Это место отстоит от города Пятигорска в верстах четырех, на левой стороне горы Машухи, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в немецкую Николаевскую колонию. По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины Машухи и до самой ее подошвы, а по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора. Между ними проходит в колонию означенная дорога. От этой дороги начинаются первые кустарники, кои, изгибаясь к горе Машухе, округляют небольшую поляну Тут-то поединщики избрали место для стреляния… Они отмерили вдоль дороги барьер. Поединщики сначала стали на крайних точках, то есть каждый в 10 шагах от барьера: Мартынов от севера к югу, а Лермантов от юга к северу»[249]. «Небольшая гора» — это Перкальская скала. Я определил, что самая высокая ее точка (652 м над уровнем моря) располагается в 967 м от официального места дуэли. «Впадина», поднимающаяся по склону Машука на самую вершину (в чем я лично удостоверился, проделав весь путь), — это Волчья балка. Она расположена в 830 м на восток от официального места дуэли. Прочесав весь склон Машука от обелиска до Волчьей балки, я убедился, что на всем расстоянии впадин больше нет. В течение первых недель поисков я последовательно отверг «точки дуэли», предложенные предыдущими лермонтоведами. Так, «точки» Чухнина и Висковатова, как и официальное место дуэли («точка» Чалова), располагаются лишь в трех верстах от города (в границах 1841 года). «Точка» Коваленко-Рябова, находящаяся в 200 м от обелиска Микешина, не имеет впадины справа от себя и тоже близка к городу. Мое внимание привлек участок шоссе, примыкающий к восточному краю Волчьей балки. Это был единственный участок шоссе, имеющий направление с юга на север. А в «Заключении» указано, что дуэлянты стрелялись на дороге, идущей с юга на север. Правее шоссе располагался идущий под уклон в 100 участок лиственного леса, выросшего, как мы установили, в последуэльное время. Так возникла моя первая версия истинного места дуэли (рис. 1, пункт 5; см. с. 170). В определенной степени я был дезориентирован графическими сопоставлениями старой и современной карт, которые выполнили А. Коваленко и Е. Рябов. Так закончилась первая экспедиция к подножию Машука. По возвращении на Урал меня не покидали мысли о правильности выбранного места дуэли. Я размышлял, сопоставлял различные данные о месте дуэли, писал письма лермонтоведам. Особенно интенсивная переписка завязалась с известным краеведом из Ставрополья В. А. Хачиковым. Я забросал Вадима Александровича вопросами о месте дуэли, а он интересовался состоянием здоровья М. Ю. Лермонтова и его окружением. Выяснилось, что еще в 1950-х годах вместе с С. И. Недумовым Вадим Александрович обходил окрестности Перкальской скалы, но точного места они тогда так и не определили. С. И. Недумов заявил, что «место дуэли где-то здесь», т. е. он фактически определил район дуэли. В. А. Хачиков в первом же письме одобрил мой поиск в этом «районе С. И. Недумова», т. е. в зоне, где расположены Перкальская скала, Волчья балка и дорога. Под «дорогой» я понимал в то время объездное шоссе. Вадим Александрович одобрил выбранную мной «точку», заметил, «что метры особой роли не играют», но посоветовал еще поискать в радиусе 1,5 см от «моей точки» на схеме, которую я ему выслал. Расстояние в 1,5 см на схеме соответствовало примерно 50–70 м на местности. Наконец, 3 ноября 2010 года от В. А. Хачикова пришло письмо, при прочтении которого меня осенила догадка. Вадим Александрович сообщил, что старая дорога в Николаевскую колонию на участке вблизи Волчьей балки не совпадает с полотном шоссейной дороги, а располагается севернее шоссе. Выходит, графические сопоставления старой и современной карт, выполненные А. Коваленко и Е. Рябовым, не совсем верны. Следовательно, нужно срочно искать следы старой дороги! Ведь к этому времени из архивных материалов я уже знал, что дуэлянты стрелялись непосредственно на дороге. Так, согласно материалам следствия, участники дуэли показали следующее: «Мы стрелялись на дороге» (H. С. Мартынов), «Дуэлисты стрелялись за горой Машуком, на самой дороге» (секундант М. П. Глебов), «Дуэль происходила в 4-х верстах от Пятигорска у подошвы горы Машухи на самой дороге» (секундант А. И. Васильчиков)[250]. В связи с возникшей новой версией, мы провели еще две экспедиции в Пятигорск для поиска подлинного места дуэли: вторую — в сентябре 2011 года и третью — в августе 2012-го. Во второй экспедиции вместе со мной в поисках участвовали пермские «следопыты» и лермонтоведы А. П. Соколов, А. В. Иванов и К. Г. Кислицын, в третьей — П. Н. Митягин (рис. 2; см. с. 171). К сожалению, преклонный возраст и состояние здоровья В. А. Хачикова, проживающего в Ессентуках, не позволили ему принять участие в этих экспедициях. Но, в результате скрупулезного изучения местности, предположения Вадима Александровича полностью подтвердились. Нам удалось найти следы старой дороги в Николаевскую колонию, а по ним затем вычислить подлинное место дуэли. Но вначале хотел бы остановиться на факте значительного изменения внешнего вида района дуэли вблизи Волчьей балки и Перкальской скалы за 170 лет, прошедших после поединка. Раньше в этом месте было обширное безлесное пространство, о чем свидетельствует старинная (от 1870 года) фотография, выполненная пятигорским фотографом И. Ланге. Мы же, осматривая окрестности Перкальской скалы, удивились массивному разрастанию вокруг нее густого леса (рис. 3, с. 171; рис. 4, с. 172). При изучении местности мы обнаружили, что Волчья балка севернее шоссе значительно углубляется и расширяется, превращаясь в заросшую лесом лощину, проходящую мимо (восточнее) Перкальской скалы в долину, на поля перед поселком Иноземцево. Добраться до Перкальской скалы удобнее всего с объездного шоссе. Пройдя по нему от официального места дуэли около 600 м, слева обнаруживаешь малозаметный отворот на старую, каменистую дорогу, идущую вверх, вперед и влево в косом (около 45 градусов) направлении. По мере подъема впадина справа от дороги углубляется, высота обрыва достигает 60–80 м. Это лощина — конечная часть расширенной Волчьей балки. Слева от дороги появляется скальное возвышение — Перкальская скала. Расстояние до нее от официального места дуэли составляет 967 м. Рядом со скалой расположена ровная площадка, которую лермонтоведы И. Кучеров и В. Стешиц ошибочно считали дуэльной (рис. 5; см. с. 172). По их мнению, в Лермонтова стрелял не Мартынов, а подкупленный казак, спрятавшийся на Перкальской скале. Однако «место дуэли» Кучерова-Стешица не соответствует «Заключению следственной комиссии», ибо до подножия Машука отсюда очень далеко, а Лермонтов на позиции стоял выше Мартынова (по утверждению И. Кучерова и В. Стешица, он должен стоять ниже). Но вернемся к поискам старой дороги, которая во времена Лермонтова шла из Пятигорска в Николаевскую колонию и где, согласно документам, происходила дуэль. При изучении нами местности оказалось, что лишь на расстоянии около полукилометра от официального места дуэли современная шоссейная дорога уложена на полотно старой дороги. На расстоянии около 500 м севернее шоссе появляется искусственная дорожная выемка — следы старой грунтовой дороги. Местами по старой дороге проложены свежие современные тропы. Эта старая дорога идет вначале параллельно шоссе, на 10–15 м севернее его, но в районе лощины — продолжения Волчьей балки — круто разворачивается с восточного направления сначала на север, а затем — на северо-восток. Лощина густо заросла лиственным лесом и кустарником. Однако в нескольких местах мы отчетливо (в том числе, в результате раскопов) обнаружили следы этой старой грунтовой дороги, более чем столетней давности. На искусственной дорожной выемке имеются поздние наслоения земли, растут трава, кусты и невысокие лиственные деревья. Ориентируясь на направление обнаруженных участков искусственной дорожной выемки, мы проследили ход старой дороги. Она идет на север и северо-восток по лощине, восточнее Перкальской скалы, и выводит на распаханное поле перед поселком Иноземцево (рис. 1, д; см. с. 170). При анализе «Заключения следственной комиссии» можно выделить 7 основных ориентиров и признаков подлинного места дуэли: 1) расстояние от города (в границах 1841 года) до места поединка составляет 4 версты; 2) место дуэли находится под подошвой Машука; 3) поединок проходил на дуэльной площадке, которая включала в себя непосредственно участок дороги в Николаевскую колонию и придорожную поляну справа от дороги; 4) справа от дороги имеется впадина, простирающаяся от самой вершины Машука; 5) по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора, отделившаяся от Машука (Перкальская скала); 6) участок дороги, непосредственно на котором и вдоль него проходила дуэль, имел прямолинейный участок длиной не менее 35 шагов (расстояние между дуэлянтами на исходных позициях); 7) этот участок дороги имел направление с юга на север. Путем изучения местности и сопоставления полученных данных с ориентирами и признаками, вытекающими из «Заключения следственной комиссии», мы определили подлинное место дуэли. Оно расположено приблизительно в 850 м восточнее официального места дуэли, в заросшей невысоким лесом лощине, являющейся продолжением Волчьей балки, севернее шоссе, в том участке, где старая дорога сменила свое восточное направление на северное (рис. 1, пункт 2; см. с. 170; рис. 6; см. с. 173). Во-первых, здесь расположен единственный участок старой дороги, идущий строго с юга на север, во-вторых, если рассматривать более отдаленные участки дороги после ее поворота, то тогда Волчья балка окажется не справа, а далеко позади от места поединка. Предполагаемая дуэльная площадка включает следы (искусственную выемку) старой дороги, идущей в направлении с юга на север, и примыкающий справа к дороге участок лиственного леса с небольшим уклоном в 8-10 градусов от южной (высокой) части площадки до северной (низкой) части ее. По документальным материалам, на месте нынешнего густого низкорослого лиственного леса была во времена дуэли поляна с двумя кустами. Лермонтов стоял на возвышенной части дуэльной площадки, спиной к югу (Машуку), лицом к северу (Шотландке), Мартынов находился в низкой части дуэльной площадки, спиной к северу, лицом к югу (Машуку). Во время дуэли сильный косой дождь, налетевший со стороны Бештау, т. е. с запада, в равной степени мешал обоим дуэлянтам, а секундантам, стоявшим на восточном краю дуэльной поляны, дождь должен был хлестать прямо в лицо, мешая следить за происходящим. И уклон площадки в 8-10 градусов, и расположение дуэлянтов, и направление косого дождя, и другие документальные свидетельства обстоятельств дуэли, согласуются с особенностями обнаруженного места поединка. Таким образом, по всем ориентирам и признакам найденный нами участок полностьюсоответствует «Заключению следственной комиссии об осмотре места дуэли М. Ю. Лермантова с H. С. Мартыновым» от 16 июля 1841 года.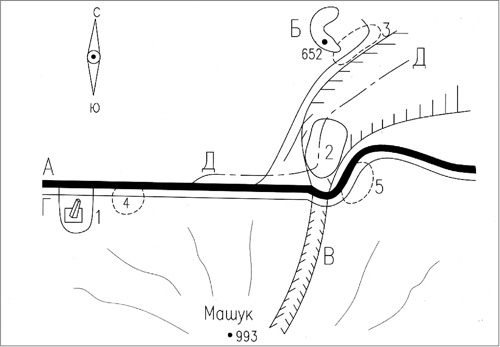 Рис. 1. Территория северо-западного и северного склонов горы Машук с предполагаемыми местами дуэли Лермонтова и Мартынова. На схеме: а — объездное шоссе вокруг Машука; б — Перкальская скала; в — Волчья балка; г — дорожка терренкура; д — следы старой дороги в Николаевскую колонию; 1 — официальное место дуэли; 2 — предполагаемое подлинное место дуэли; 3 — точка Кучерова-Стешица, 4 — точка Коваленко-Рябова, 5 — первая версия места дуэли.
Рис. 1. Территория северо-западного и северного склонов горы Машук с предполагаемыми местами дуэли Лермонтова и Мартынова. На схеме: а — объездное шоссе вокруг Машука; б — Перкальская скала; в — Волчья балка; г — дорожка терренкура; д — следы старой дороги в Николаевскую колонию; 1 — официальное место дуэли; 2 — предполагаемое подлинное место дуэли; 3 — точка Кучерова-Стешица, 4 — точка Коваленко-Рябова, 5 — первая версия места дуэли.
 Рис. 2. Участники второй уральской экспедиции в районе дуэли Лермонтова и Мартынова у Перкальской скалы. Сентябрь 2011 г. Здесь и далее — фото М. И. Давидова.
Рис. 2. Участники второй уральской экспедиции в районе дуэли Лермонтова и Мартынова у Перкальской скалы. Сентябрь 2011 г. Здесь и далее — фото М. И. Давидова.
 Рис. 3. Густой лиственный лес, разросшийся вокруг Перкальской скалы в районе дуэли Лермонтова и Мартынова. Прослеживается участок старой дороги. Вдали — северный склон Машука.
Рис. 3. Густой лиственный лес, разросшийся вокруг Перкальской скалы в районе дуэли Лермонтова и Мартынова. Прослеживается участок старой дороги. Вдали — северный склон Машука.
 Рис. 4. Автор статьи стоит на самой высокой точке Перкальской скалы. Здесь, по ошибочной версии, за камнем, прятался казак, выстреливший из винтовки в Лермонтова. За спиной М. И. Давидова — густой лиственный лес, в котором находится подлинное место дуэли. Далее — склон Машука.
Рис. 4. Автор статьи стоит на самой высокой точке Перкальской скалы. Здесь, по ошибочной версии, за камнем, прятался казак, выстреливший из винтовки в Лермонтова. За спиной М. И. Давидова — густой лиственный лес, в котором находится подлинное место дуэли. Далее — склон Машука.
 Рис. 5. Перкальская скала и дуэльная площадка возле нее (по версии И. Кучерова и В. Стешица).
Рис. 5. Перкальская скала и дуэльная площадка возле нее (по версии И. Кучерова и В. Стешица).
 Рис. 6. Здесь свершилась трагедия. Вид дуэльной площадки через 170 лет после поединка — 7 сентября 2011 года. Виден уклон площадки (фотография выполнена с низкой части предполагаемого места дуэли).
Рис. 6. Здесь свершилась трагедия. Вид дуэльной площадки через 170 лет после поединка — 7 сентября 2011 года. Виден уклон площадки (фотография выполнена с низкой части предполагаемого места дуэли).
 Рис. 7. В архиве музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске. Заведующая фундаментальной библиотекой Л. Н. Кочкарева и доцент М. И. Давидов. Экспедиция 2007 года.
Рис. 7. В архиве музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске. Заведующая фундаментальной библиотекой Л. Н. Кочкарева и доцент М. И. Давидов. Экспедиция 2007 года.
«НЕ ПОСТАВИТЬ ЛИ ЛУЧШЕ ТОЧКУ ПУЛИ В СВОЕМ КОНЦЕ…» (Тайны гибели Маяковского) Документальная повесть
 Осип и Лиля Брики, Владимир Маяковский. 1920-е гг.
Осип и Лиля Брики, Владимир Маяковский. 1920-е гг.
В 10 часов утра 14 апреля 1930 года в одной из комнат коммунальной квартиры дома № 3 в Лубянском проезде какое-то время слышались возбужденные голоса мужчины и женщины. Затем из дверей комнаты вынырнуло юное очаровательное создание, длинные прекрасные ножки которого сделали несколько быстрых шажков в направлении парадной двери квартиры. Стройная фигурка в шикарном модном платье, так контрастирующем со скромной обстановкой «коммуналки», уже готова была выпорхнуть из квартиры, как вдруг в оставленной ею комнате раздался выстрел. Ужас исказил черты прелестного лица. Женщина негромко вскрикнула и заметалась по коридору, страшась войти обратно, но через несколько мгновений ноги сами занесли ее в покинутую тесную комнатку. Прямо у двери на полу распростерлось тело молодого, мускулистого и сильного мужчины, вытянувшегося во весь свой громадный рост. В комнате еще стояло облачко дыма от выстрела. Мужчина лежал на ковре, широко раскинув руки и ноги. На груди его алело крошечное кровавое пятнышко. «Что вы сделали? Что вы сделали?» — истерично взвыла юная особа. Глаза мужчины были открыты, он смотрел прямо на нее и все силился приподнять голову. Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже неживые. Лицо и шея покраснели. Потом голова упала, и он стал постепенно бледнеть. Через 5 минут все было кончено. Так нелепо ушел из жизни «железный» пролетарский поэт Владимир Маяковский. В этот же день на всю страну было объявлено, что В. В. Маяковский покончил жизнь самоубийством. В страшное известие многие не могли поверить. Между прочим, 14 апреля — это 1 апреля по старому стилю, и некоторые, когда им сообщали, что Маяковский застрелился, смеялись, думая, что их разыгрывают. Сам способ ухода из жизни никак не вязался с обликом революционного бойца Маяковского — величайшего оптимиста и романтика, ненавидевшего «всяческую мертвечину, обожавшего всяческую жизнь». В факте самоубийства поэта комсомольская молодежь видела вопиющее противоречие со взглядами Маяковского, призывавшего в своих произведениях к жизни и любви к ней. Хорошо помнили, как 5 лет назад, когда в петле гостиницы «Англетер» закончил земной путь Сергей Есенин, Маяковский осуждал этот малодушный, по его мнению, поступок:
* * *
По факту смерти гражданина В. В. Маяковского было заведено уголовное дело № 02–29. Это уголовное дело не могли найти более 60 лет. Куда только не обращались ведущие литературоведы — исследователи биографии и творчества великого поэта, руководство Государственного музея В. В. Маяковского. Все было тщетно. В дальнейшем было установлено, что это дело хранилось в кремлевском архиве ЦК КПСС, в личном фонде Николая Ивановича Ежова, которому в 1935 году И. В. Сталин поручил разработать программу по увековечению памяти Маяковского, который, по крылатому выражению генсека, стал «лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи». Все материалы по Маяковскому, включая уголовное дело № 02–29, составили в фонде Н. И. Ежова отдельную папку — «Дело № 50», каждый листик которого стал предметом нашего изучения. Ныне уголовное дело № 02–29 «О самоубийстве Владимера Владимеровича Маяковского» (так в подлиннике!) хранится в Государственном музее В. В. Маяковского (ГММ) в Москве, и с ним может ознакомиться любой желающий исследователь биографии пролетарского поэта. Первым в серо-зеленой папке лежит пожелтевший протокол осмотра места происшествия. Осмотр проведен следователем Синевым в присутствии врача-судмедэксперта Рясенцева. Из протокола осмотра места происшествия следует: «Труп Маяковского лежит на полу, на спине. Лежит головою к входной двери (выделено нами. — Прим. авт.). Левая рука согнута в локтевом суставе, лежит на животе. Правая, полусогнутая — около бедра. Голова несколько повернута вправо, глаза открыты, зрачки расширены, рот полуоткрыт. Трупного окоченения нет. На груди на 3 см выше левого соска имеется рана округлой формы, диаметром около 2/3 см. Окружность раны в незначительной степени испачкана кровью. Выходного отверстия нет. С правой стороны на спине в области последних ребер под кожей прощупывается твердое инородное тело незначительное по размеру (пуля. — Прим. авт.). Труп одет в рубашку желтоватого цвета. На левой стороне груди, соответственно описанной ране, на рубашке имеется отверстие неправильной формы, диаметром около 1 см. Промежду ног трупа лежит револьвер системы „Маузер“ калибр 7,65 № 312045 (этот револьвер взят в ГПУ т. Гендиным). Ни одного патрона в револьвере не оказалось. С левой стороны трупа на расстоянии от туловища 1 м лежит пустая стреляная гильза от револьвера Маузер указанного калибра»[260]. В протоколе подробно описана комната Владимира Владимировича: «Комната, в которой находится труп, размером около 3 квадратных саженей. При входе в комнату напротив двери имеется одно окно, выходящее во двор дома. По левой стене — стол, на коем книги в сравнительном порядке, дальше — шкаф с книгами, а между столом и шкафом — сундук… По правой стене — диван и далее, около стены, что рядом с окном, письменный стол»[261]. При осмотре места происшествия следователь обратил внимание на то, что в комнате и на теле потерпевшего нет следов борьбы и сопротивления: мебель аккуратно расставлена, предметы и вещи не разбросаны, ковер перед диваном расстелен, рубашка не порвана. В ящике письменного стола и висящем на стуле пиджаке Владимира Владимировича следователем были обнаружены: 2500 рублей денег, золотые перстень и кольцо. Это исключало убийство с целью ограбления. Еще один лист из «Дела № 02–29»: «Рапорт… Судебно-медицинским экспертом установлено, что гр-н Маяковский покончил жизнь самоубийством, застрелившись из револьвера системы Маузер в сердце, после чего наступила моментальная смерть… Установлено, что мотивы самоубийства — отказ артистки Полонской сожительствовать с Маяковским…»[262]. Как известно, в 1938 году В. В. Полонская сдала в ГММ свои воспоминания, в которых по многим вопросам взаимоотношений с Маяковским пытается оправдаться. Уголовное дело, как догадывалась Полонская, было засекречено, поэтому детали самоубийства Маяковского никто не знал, и ее не могли обвинить во лжи. Маяковский из футуриста волей Сталина был возведен в лучшие советские пролетарские поэты, в народе Полонскую обвиняли, называли «Дантесом в юбке». Поэтому Вероника Витольдовна опасалась, что может быть объявлена «врагом народа», виновницей смерти пролетарского поэта. В воспоминаниях она пишет, что «любила Маяковского», который часто ссорился с ней, бывал де нередко груб, жесток и несправедлив к ней. Вечером 11 апреля они поссорились. На следующий день под вечер между ними, по инициативе Маяковского, произошло решительное объяснение: Владимир Владимирович составил план разговора из 16 пунктов и по каждому пункту объяснился с возлюбленной. «Потом мы оба смягчились, — пишет в воспоминаниях Вероника Витольдовна. — Владимир Владимирович сделался совсем ласковым. Я сказала, что буду его женой. Я это тогда твердо решила»[263]. Как известно, Владимир Маяковский все последние годы перед смертью пытался вырваться из неординарной, тройственной семьи с Бриками (Маяковский, Лиля Юрьевна и Осип Максимович Брики, так называемый «бриковский любовный коктейль» или «бриковский треугольник»). Л. Ю. и О. М. Брики с 1912 года официально состояли в браке и не собирались разводиться. Одновременно Лиля Юрьевна считалась гражданской женой Владимира Владимировича, хотя в последние годы сексуальных отношений между ними уже не было. Брики не хотели отпускать Владимира Владимировича из «семьи», из их тройственного союза, так как жили за счет издания его произведений. Маяковский же, который обладал сильной половой конституцией и нередко влюблялся в очень красивых женщин, остро желал создать обычную традиционную семью. Для «жениха» возраст у него был уже критический — почти 37 лет. Полюбив Веронику Полонскую, он с января 1930 года предлагал ей развестись со своим мужем М. М. Яншиным (в последующем — знаменитым артистом) и выйти замуж за него. Полонская же всячески оттягивала решение вопроса. С одной стороны, ей нравилось быть рядом со знаменитым человеком и неплохим сексуальным партнером, с другой стороны, муж ее, Яншин, был намного моложе поэта, жили они дружно, без конфликтов, понимали друг друга. Яншин, к тому же, не был ревнив, что устраивало красавицу Веронику, имевшую много поклонников и, кроме Маяковского, еще одного любовника — артиста МХАТа Б. Ливанова. Вечером 13 апреля, по воспоминаниям Полонской, Маяковский и она встретились на вечеринке у писателя В. П. Катаева. Владимир Владимирович, несмотря на то, что Вероника пришла с мужем, продолжал приставать к ней, объясняться. «Был очень груб, всячески оскорблял меня»[264], — жалуется она. Выяснение отношений между Маяковским и Полонской продолжалось, когда гости, простившись в 3 часа ночи с Катаевым, компанией шли по ночной Москве. Проводив Полонскую и мужа ее Яншина до их дома, Маяковский в 9 часов утра на такси приехал за Вероникой Витольдовной и привез ее в свой рабочий кабинет на Лубянке, где с 10 часов в течение приблизительно 15 минут они находились одни и продолжали выяснять отношения. Полонская сидела на диване, Владимир Владимирович располагался у ее ног, прямо на полу. Он сидел, становился на колени, плакал. Это видел книгоноша Ш. Локтев, который принес Маяковскому книги в разгар их беседы. Через несколько минут прозвучал роковой выстрел. В своих воспоминаниях В. В. Полонская утверждала, что Маяковский в комнате умолял ее бросить Яншина, развестись с ним и зарегистрировать брак с поэтом. Потом он запер де дверь на ключ и требовал, чтобы она навсегда осталась жить с ним в этой комнате, бросила театр и не ходила больше к Яншину. А дальше в мемуарах Вероника пишет следующее: «Я ответила, что люблю его. Буду с ним. Но не могу остаться здесь сейчас. Я знаю, что мой муж Яншин меня любит и не перенесет ухода в такой форме… Я пойду в театр. Потом домой. Скажу все Яншину. А вечером приду к нему совсем»[265]. Но, по свидетельству Полонской, как только она вышла за дверь и прошла несколько шагов по коридорчику, раздался выстрел. «Зачем же тогда поэт застрелился?»[266] — резонно задает вопрос журналист В. И. Скорятин. Действительно, Полонская, после многомесячных уговоров Маяковского, наконец-то согласилась стать его женой и перейти к нему жить, а он, вместо того, чтобы петь и плясать от счастья, делиться своей радостью с В. Каменским, Н. Асеевым и другими истинными друзьями, пускает себе пулю в сердце сразу после того, как «новобрачная» выходит за дверь? Полнейший абсурд! А ведь почти все историки литературы почему-то это утверждение Полонской принимают на веру, не затрудняя себя доказательствами и размышлениями. Но вот мы раскрываем вновь «Дело № 02–29» и продолжаем знакомиться с ним. Поскольку в воспоминаниях Полонская делает упор на то, что не могла де остаться в комнате поэта, «ничего не сказав Яншину», мы изучили показания самого Михаила Михайловича Яншина следователю И. Сырцову. Вспоминая о событиях начала 1930 года, произошедших задолго до трагического 14 апреля, Яншин собственноручно записал: «… вдруг Нора говорит мне однажды, что Владимир Владимирович предложил ей сначала жить с ним, а впоследствии уже предлагал развестись со мной и переехать к нему»[267]. Таким образом, показания Яншина сразу разоблачают Полонскую в том месте воспоминаний, где она утверждает, что не могла перейти к Маяковскому, не известив об их отношениях мужа. Оказывается, Яншин уже давно был в курсе дел: знал об отношениях Маяковского и Полонской, о желании поэта жениться на Веронике. А сейчас приведем выдержки из показаний самой гражданки В. В. Полонской следователю И. Сырцову. Цитируем: «Он (Маяковский) все время был навязчив, и чтобы я сказала ему окончательно о своем решении, что и произошло 13 апреля тек. года при встрече, то есть что я его не люблю, жить с ним не буду, также как и мужа бросить не намерена». Вторая цитата — об их разговоре 13 апреля: «Он меня спрашивал, как я решаю; я ему говорила, что по этому поводу имела разговор с мужем, который предложил мне, чтобы я прекратила с ним встречи. На это он отвечал: „а как же я?“ На это я ему сказала, что я его не люблю и жить с ним не буду, прося его, чтобы он оставил меня в покое». О последнем предсмертном разговоре с поэтом в комнате на Лубянке 14 апреля: «Просил меня, чтобы я с ним осталась жить… Я ему ответила, что ЭТО НЕВОЗМОЖНО, ТАК КАК Я ЕГО НЕ ЛЮБЛЮ» (выделено нами. — Прим. авт.). И, наконец: «Причина самоубийства Маяковского мне неизвестна, но, надо полагать, что главным образом послужил мой отказ во взаимности»[268]. Честно говоря, был в шоке, когда, читая материалы уголовного дела № 02–29, наткнулся на такие слова Вероники Витольдовны о поэте Маяковском, которого она, по воспоминаниям, якобы любила. Я был о ней лучшего мнения. Зато сразу стало понятно и объяснимо решение этого замечательного человека, уже предельно измотанного обстоятельствами и драматическими ситуациями, покончить с жизнью немедленно после ухода Полонской — легкомысленной, бездушной и жестокой молодой особы. Способна ли была Полонская в принципе на ложь, обман, недостойные поступки? Ее близкий знакомый, сатирик В. Ардов с пеной у рта защищал ее, утверждая, что она де и честная, и чуткая, и принципиальная, и вообще «прекрасный экземпляр человека». Однако наш анализ документов показывает, что Полонская нередко лгала и обманывала, совершала необдуманные и легкомысленные поступки. Например, есть свидетельство друга Маяковского Николая Асеева, утверждавшего, что когда Владимир Владимирович в последние дни жизни говорил, что не может без нее жить, Нора с удивительной легкостью отвечала ему: «Ну и не живите!»[269]. Она говорила Маяковскому, что занята в театре на репетиции, а сама в это время ходила в кино с Б. Ливановым или М. Яншиным. Она 13 апреля солгала Владимиру Владимировичу, что не пойдет в гости к В. П. Катаеву, и поэт поймал ее на лжи, зайдя к писателю. Следователю И. Сырцову Вероника солгала, заявив, что не жила половой жизнью с Маяковским, но соседи поэта по коммунальной квартире выдали ее, показав обратное. В дальнейшем же было установлено, что она, изменяя мужу, не только имела регулярные (часто ежедневные) интимные отношения с Маяковским, но и была беременна от поэта и даже делала аборт! По нашему мнению, несчастливая любовь Маяковского к Полонской, отказ ее выйти замуж за Владимира Владимировича, крах его надежд на создание семьи — главная, конкретная причина самоубийства великого российского поэта. Однако наш 20-летний анализ показывает, что причин для ухода поэта из жизни было несколько, то есть самоубийство Маяковского имело полиэтиологический характер. Кроме главной причины, были причины предрасполагающие: 1. Суицидомания[270]. 2. Расстройства нервно-психической сферы иного характера (врожденная психопатия, сложный невроз смешанного генеза осенью 1929 — весной 1930 года, именуемый маяковедами «неврастенией», явления простого — не патологического! — аффекта 13 и 14 апреля 1930 года). 3. Доведение до самоубийства или внушение его (Л. Ю. и О. М. Бриками, Бриковским окружением). Это версия В. Дядичева, К. Кедрова и их многочисленных сторонников. Кстати, В. В. Полонскую в «подруги» к Маяковскому выбрала Лиля Брик, оценив ее качества во время съемок своего фильма «Стеклянный глаз», а познакомил Веронику с Маяковским на московском ипподроме 13 мая 1929 года Осип Максимович Брик! Супруги понимали легкомысленный характер Полонской, прочность ее брака с Яншиным и предвидели, что Маяковскому не удастся создать семью с Вероникой (и посему Брики материально не проиграют), а еще одна драматическая ситуация может привести к реализации суицидомании. 4. Неудачная любовь к Татьяне Яковлевой. Прагматичная русская парижанка предпочла в декабре 1929 года другого, тем самым грубо унизив поэта, нанеся жестокий удар по его самолюбию. К 14 апреля 1930 года Яковлева в сознании Маяковского отодвинулась на второй план, но нанесенная ею тяжелая рана еще не затянулась. 5. Неблагоприятное состояние здоровья (затяжной ринофаринголаринготрахеобронхит[271], часто рецидивирующий грипп, ослабление иммунитета). Физическое нездоровье в 1929–1930 годах мешало поэту нормально жить и работать, вызывало психическую депрессию. 6. Неудачи в литературной и общественной деятельности. Это разрыв с лефовцами и трудности вхождения в РАПП, относительная неудача пьесы «Баня» и выставки «XX лет работы», оголтелая травля в печати.* * *
В годы перестройки и гласности, как грибы после дождя, стали появляться версии об убийстве В. В. Маяковского. В основе многих из них лежали несовпадения данных о расположении тела поэта после выстрела и марке оружия, обнаруженного возле тела, а также странные изменения на лице погибшего. Согласно воспоминаниям современников поэта, тело непонятным образом «перемещается» в «комнатенке-лодочке». Николай Денисовский, чьи воспоминания[272] мы приводили выше, утверждал, что Маяковский лежал головой к окну, ногами — к двери, а поэт Николай Асеев и соседка Маяковского по дому Регина Гуревич свидетельствовали о том, что тело лежало головой близко, почти вплотную, к двери. В материалах следствия, которые мы приводили[273], указано, что покойник лежал на спине, головой к двери. Журналист В. Скорятин сделал предположение[274], что тело умышленно передвинули чекисты (Я. Агранов и другие), набежавшие в комнату Маяковского после его гибели и курировавшие следствие. Представим ситуацию: после того, как Полонская вышла от Маяковского, в дверь постучал убийца. Маяковский открывает дверь, оказывается лицом к лицу с убийцей и возмущенно кричит. Последний стреляет в грудь поэта, выстрел опрокидывает Маяковского навзничь, и он падает на спину, ногами к двери. Валентин Скорятин считает: чтобы замести следы, чекисты, «виновные в убийстве поэта», изменили положение убитого, переложив его головой к двери. Однако все это домыслы. При выстреле в грудь, произведенном как самим самоубийцей, так и посторонним человеком, пострадавший мог упасть как вперед, так и назад. Как же тогда объяснить перемещение тела? Возможна аберрация памяти, ибо Денисовский и другие авторы воспоминаний писали их не по горячим следам. Находясь в мемориальной комнате В. В. Маяковского, я обратил внимание, какая теснота при входе в нее! Достаточно узкая дверь, слева к ней примыкает камин, справа — диван. Если мысленно представить рослого крупного человека, лежащего головой у самых дверей, то вход и выход из комнаты затруднен. Очевидно, тело могли переместить из этих соображений, чтобы оно не мешало в дверях. Это могли самовольно сделать соседи по коммунальной квартире, первыми прибежавшие в комнату. Такой факт вспоминает Н. И. Левина[275]: она, тогда маленькая девочка, видела перекладывание тела, сделанное по совету соседки из 11-й квартиры, опытной Райковской Лидии Дмитриевны. Известно, что при осмотре места происшествия следственная бригада для фотографирования перекладывала тело на диван, возможно с целью улучшения условий освещения (не было вспышки?). В таком положении тела на диване (я убедился в этом, осматривая саму комнату), свет из единственного окна должен был хорошо осветить лицо и простреленную грудь поэта. После фотографирования тело с дивана могли переложить произвольно, не на прежнее место, и часть мемуаристов увидели его уже в другом, не первоначальном, положении. Кроме того, пострадавшего могла переложить бригада «Скорой медицинской помощи» для улучшения условий осмотра и предполагаемого оказания помощи в случае обнаружения каких-либо признаков жизни. Допрашивая Полонскую, следователи и гэпэушники могли вернуть переложенное медиками или соседями тело в первоначальное положение. Как бы то ни было, перемещение тела в комнате ничего не дает в плане доказательства убийства Маяковского. Есть еще один факт, свидетельствующий, вроде бы, о возможном насильственном устранении поэта. В уже приведенном отрывке воспоминаний Е. Лавинской сказано, что мертвый Маяковский лежал с «широко раскрытым в отчаянном крике ртом»[276]. Художница особенно подчеркивала то обстоятельство, что больше эту фотографию она нигде не видела. Она подозревала Я. С. Агранова и других сотрудников ОГПУ в убийстве поэта и сокрытии улик, в том числе, в уничтожении этой фотографии. Размышляя о воспоминании художницы Лавинской, В. И. Скорятин[277] удивлен («самоубийца кричит перед выстрелом?») и делает вывод: лицо Маяковского выражает возмущение непрошеным вторжением к нему в комнату постороннего человека — убийцы! Однако фотография, которую видела Лавинская, никуда не исчезла! Я установил ее местонахождение. Она хранится в ГММ под инвентарным номером 8719, поступила в музей в 1956 году от П. А. Чумака (рис. 4; см. с. 211). К настоящему времени установлено, что это самая ранняя фотография скончавшегося Маяковского, выполненная во время осмотра места происшествия кадровым фотографом ОГПУ В. Поповым. Есть еще одна фотография мертвого Маяковского, сделанная в его комнате по Лубянскому проезду. Там рот у поэта закрыт. На обеих фотографиях тело Маяковского лежит на диване. Указание Е. Лавинской на то, что Маяковский сфотографирован на полу — огрехи памяти, ведь художница видела фотографию всего несколько секунд. На оригинальной фотографии, которую показывали Е. Лавинской, Маяковский лежит на спине, рот его действительно открыт, голова запрокинута, рубашка расстегнута (вероятно, после попытки оказания медицинской помощи). Однако при взгляде на фотографию у меня совершенно нет того ощущения ужаса, которое испытала, как она пишет, Лавинская, не знакомая с медициной вообще и судебной медициной в частности. Кстати, кричать перед смертью могут и самоубийцы. Из следственной практики известно много случаев, когда самоубийцы с криком выбрасываются из окон домов, прыгают с большой высоты; кричат после выстрела в голову и, обратите внимание, в сердце. Ни жильцы коммунальной квартиры № 12, ни соседи из других квартир дома не слышали крика Маяковского, а ведь у того был знаменитый бас-профундо, а мощность голоса позволяла выступать без микрофона в огромных аудиториях. Как же можно объяснить открытый рот у мертвого Маяковского? Известный судмедэксперт, профессор А. В. Маслов отвечает на это следующим образом: «После смерти человека тело расслабляется, мышцы на определенное время становятся мягкими, приходят как бы в состояние покоя. У покойника приоткрывается рот, отвисает нижняя челюсть, что, собственно, и отражено на первой фотографии мертвого Маяковского»[278]. Во времена перестройки, в марте 1989 года, популярный телеведущий программы «До и после полуночи» В. Молчанов показал телезрителям фотографию Маяковского, сделанную в день его кончины (это вторая фотография из упоминавшихся нами). На светлой рубашке слева явственно обозначено темное пятнышко — след выстрела. На правой стороне груди пропечаталось затемнение, и на виске — нечто похожее на ссадину. Ведущий программы В. Молчанов задал телезрителям вопрос: так самоубийство это или… Он не договорил, но всему 300-миллионному населению Советского Союза, прильнувшему в этот поздний час к голубым экранам, сразу стало ясно, что «Маяковского убили». Когда кому-нибудь сейчас доказываешь обратное, на тебя смотрят, словно на пещерного человека. Ленинградский поэт Борис Лихарев в траурные апрельские дни 1930 года стоял в почетном карауле у гроба поэта. Через несколько дней, вернувшись в Ленинград, он записал: «Лицо Маяковского с разбитой левой скулой и посеревшими губами… лежит вровень с моими плечами»[279]. В июне 1989 года в питерской телепрограмме «Пятое колесо» художник А. Давыдов показал посмертную маску, снятую с лица Маяковского скульптором К. Луцким 14 апреля 1930 года. По мнению художника, на маске ясно видно — у покойника сломан нос! Стало быть, высказал свою точку зрения Давыдов, поэт упал лицом вниз, а не на спину, как бывает, по его мнению, при выстреле в самого себя. Некоторые журналисты пошли еще дальше и заявили, что нос и скулу Маяковскому сломал убийца, когда рослый и сильный поэт пытался сопротивляться, пока не получил пулю в сердце. И. Ю. Булкин[280] считает, что сразу после ухода Полонской из комнаты, преступник ворвался к Маяковскому, который возмущенно закричал, не менее двух раз с очень большой силой ударил поэта по лицу, сломав ему нос и повредив скулу. Затем оглушенному поэту вложили в руку пистолет и сымитировали самоубийство. Как известно, отпечатки пальцев с оружия и предметов квартиры следователи не снимали, что было ошибкой. Как следует из следственного дела № 02–29, по данным осмотра места происшествия и наружного исследования трупа Маяковского, никаких повреждений на лице не было. Это зафиксировал в протоколе и удостоверил своей подписью, помимо следователя Синева и понятых, врач-судмедэксперт Рясенцев, осмотревший тело. Небольшие поверхностные повреждения возникли вечером 14 апреля, когда покойник уже находился в своей квартире в Гендриковом переулке. Свидетель этого, художник Денисовский позднее рассказывал: «Вдруг приехал такой скульптор Луцкий… И он начал снимать с него маску. И снял очень плохо. Он ободрал ему лицо»[281]. Возмущенный Денисовский пригласил известного скульптора С. Д. Меркурова, который уже по всем правилам, искусно снял маску (она в настоящее время экспонируется в зале ГММ). У научных работников — маяковедов я узнал обстоятельства дела. Скульптор К. Л. Луцкий, первый снимавший посмертную маску, очевидно из-за недостаточной смазки лица покойного вазелином, сорвал кожу со щеки и надломил переносицу. Таким образом, поверхностные повреждения на лице, которые уловил зоркий глаз Б. Лихарева, образовались в результате небрежного снятия гипсовой маски, а не вследствие нанесения ударов по лицу поэта гипотетическим убийцей, как утверждает И. Ю. Булкин. Вернемся к версии тележурналиста В. Молчанова. Поскольку на фотографии мертвого Маяковского, которую он показал телезрителям, было два следа огнестрельного ранения (на левой и правой сторонах груди), самоубийство как причина смерти автоматически отпадало. Ведь не мог же самоубийца выстрелить в себя дважды? Чтобы опровергнуть гипотезу Молчанова, нашли оригинал «сенсационного» снимка в ГММ. Оказалось, что на оригинальной фотографии никакого пятна на правой стороне груди нет, как нет и «следа» ссадины на виске! Но они имеются на фотокопии, которую услужливые дезинформаторы подсунули Молчанову. Так буквально из ничего родилась сенсация. Как могли появиться искажения на фотографии? Или был обычный фотомонтаж, или искажения изображения возникли вследствие технических огрехов при многократной пересъемке фотографии. То, что на теле имелась одна огнестрельная рана, следует из протокола осмотра места происшествия и цитированных воспоминаний Денисовского, переодевавшего мертвого поэта. Кроме того, в ГММ хранится рубашка, которая была на поэте в момент выстрела (инвентарный № М-671). Рубашка эта, судя по отметке фирмы, изготовлена в Париже (поэт носил исключительно заграничные вещи), бежево-розового цвета, сшита из хлопчатобумажной ткани. Спинка ее рассечена уступообразно ножницами, что согласуется с воспоминаниями Денисовского, разрезавшего ее, чтобы снять с покойника. На левой стороне переда рубашки имеется одно сквозное повреждение округлой формы размерами 6x8 мм, вокруг которого на рубашке пятно засохшейся крови диаметром около 6 см. При осмотре (это может проверить любой сомневающийся!) на рубашке имеется только одно огнестрельное отверстие! Таким образом, сразу же опровергается версия о следах двух выстрелов на рубашке. Из какого оружия стрелял в себя Маяковский? Данные современников поэта значительно различаются между собой. В «Красной газете» указан наган, В. Катанян и В. Катаев говорят о маузере, Н. Левина называет револьвер, Н. Денисовский и П. Лавут пишут о браунинге. Кто же из них прав? Истина состоит в том, что все они говорят об одном и том же короткоствольном пистолете, который лежал на полу между ног поэта, однако, будучи дилетантами по этому вопросу, по разному его называют! Вновь обращаемся в ГММ и открываем папку с материалами следственного дела Маяковского. В акте осмотра места происшествия назван пистолет системы «Маузер» № 312045 калибра 7,65, который найден возле тела. По материалам дела оказалось, что Маяковский, очень любивший оружие и всегда его носивший (он страдал навязчивым неврозом с фобиями нападения на него, заражения и т. п.), имел в разное время разрешения на револьвер «Веледок», два пистолета «Браунинг», пистолеты «Баярд» и «Маузер». Разрешение на «Маузер» было действительно по 1 декабря 1928 года, к сожалению, номер пистолета в удостоверении не указан. К моменту изучения документов, касающихся оружия Маяковского, нам была известна точка зрения В. И. Скорятина. Журналист утверждал, что к дню трагедии «маузера на руках у Маяковского не было». Поэтому, по его мнению, нахождение маузера возле тела поэта доказывает, что стрелял кто-то другой, что это было убийство. Масла в огонь подлило то обстоятельство, что среди вещественных доказательств к следственному делу была приложена кобура, в которой находился не маузер № 312045, а браунинг № 268979 (рис. 5; см. с. 211). По мнению В. Скорятина, в апреле 1930 года у Маяковского были на руках только браунинг № 268979 и баярд, а маузер уже был сдан. По логике, Маяковский не мог застрелить себя из оружия, которого не имел. Следовательно, «некто» убил поэта из маузера и впопыхах оставил пистолет на месте преступления. Затем маузер изъяли из дела, чтобы скрыть истинного преступника, и приложили к делу в качестве вещдока личный браунинг самоубийцы. Вроде бы все логично. Однако научные сотрудники ГММ объяснили мне, что в природе не существует ни одного документа, подтверждающего, что указанные единицы оружия были поэтом когда-либо сданы. По научным исследованиям маяковедов, не установлено ни одного эпизода в биографии поэта, когда бы он сдавал оружие. То есть, получив разрешение на то или иное оружие, по истечении срока действия удостоверения он оружие обратно не сдавал, а продолжал хранить у себя. Есть свидетельства современников поэта, доказывающие, что у Маяковского в 1930 года был на руках маузер. Но тогда непонятна цель совершенной во время следствия подмены оружия. Попробуем разобраться в этом. Большинство маяковедов считают, что маузер был подарен Владимиру Владимировичу видным харьковским чекистом В. М. Горожаниным. Из материалов дела известно, что маузер изъял с места происшествия С. Г. Гендин —начальник контрразведывательного отдела ОГПУ. По нашему мнению, Гендин «прикрыл» Горожанина и, вместе с ним, — все ведомство ОГПУ. Ведь вышестоящее начальство могло придраться к тому, что сотрудник ОГПУ зачем-то в мирное время подарил гражданскому человеку оружие, из которого тот в итоге застрелился. Кроме того, удостоверение было просрочено, а ОГПУ не проконтролировало своевременную сдачу оружия. Погибший был известен на всю страну, и огрехи ОГПУ по данному вопросу могли иметь большой резонанс. Поэтому, вместо забранного Гендиным маузера, в качестве вещдока вскоре подложили браунинг, на который Маяковский имел законное, «не просроченное», удостоверение. В 1995-м в Федеральном центре судебных экспертиз была проведена научная экспертиза браунинга модели 1900 года № 268979 калибра 7,65, пули и гильзы, которые в качестве вещдоков имелись в уголовном деле № 02–29. Химический анализ налета в канале ствола браунинга позволил сделать вывод: «Из представленного на исследование пистолета „Браунинг“ модели 1900 года после последней чистки выстрел не производился»[282]. Это означало, что 14 апреля 1930 года смертельный выстрел был произведен не из этого пистолета. Известно, что каждая марка оружия оставляет на пуле и гильзе свои характерные, специфические следы. Была исследована пуля, извлеченная из тела Маяковского на вскрытии и приложенная к делу (рис. 6; см. с. 212). При исследовании оказалось, что эта пуля является частью 7,65 мм патрона браунинга образца 1900 года, но «калибр пули, количество следов, ширина, угол наклона и правосторонняя направленность следов свидетельствуют, что исследуемая пуля была выстрелена не из пистолета „Браунинг“ модели 1900 г. № 268979, а из пистолета „Маузер“ модели 1914 г.»[283]. При исследовании гильзы, подобранной на полу комнаты Маяковского, установлено, что исследуемая гильза патрона браунинга также была стреляна в маузере модели 1914 года. Результаты экспериментальной стрельбы окончательно подтвердили, что пуля патрона браунинга была выстрелена не из браунинга № 268979, а из маузера калибра 7,65. Оказывается, гильза производства известной патронной фирмы «Густав Геншов и К°» одинаково подходила и к маузеру, и к браунингу. Маяковский зарядил маузер патроном от браунинга. Таким образом, результаты проведенных исследований в Федеральном центре судебных экспертиз подтвердили, что Маяковский застрелился из маузера калибра 7,65, что полностью совпадает с записью в протоколе осмотра места происшествия. Сбылись «пророческие» слова Маяковского: «Ваше слово, товарищ Маузер!» Наиболее популярной и цитируемой версией убийства Маяковского является версия В. И. Скорятина: «Представим, Полонская, выйдя из комнаты Маяковского, быстро спускается по лестнице. Дверь в комнату поэта открывается. На пороге — некто. Увидев в его руках оружие, Маяковский возмущенно кричит. Выстрел. Поэт падает. Убийца подходит к столу. Оставляет на нем письмо. Кладет на пол оружие. И прячется затем в ванной или туалете. И после того, как на шум прибежали соседи, черным ходом попадает на лестницу. С Мясницкой, свернув за угол, выходит на Лубянский проезд. А из ЦК уже спешат Кольцов, Третьяков. И он случайно сталкивается с ними у подворотни. Втроем они пересекают двор, поднимаются в коммуналку, входят в комнату, где лежит Маяковский»[284]. Фамилия убийцы — Агранов, так как маяковедами давно установлено, что одними из первых после рокового выстрела в коммунальной квартире появились М. Кольцов, С. Третьяков и Я. Агранов, пришедшие все вместе. Яков Саулович Агранов — начальник секретного отдела ОГПУ, один из лучших друзей Л. Ю. и О. М. Бриков, знакомый с Маяковским. На совести Агранова — сотни загубленных невиновных людей. Важнейшее значение в версии Скорятина имеет наличие черного хода в коммунальной квартире. Обратимся к плану квартиры (рис. 7; см. с. 212). Как известно, в конце 1960-х годов жильцов дома № 3 по Лубянскому проезду переселили в отдельные квартиры, а здание затем перестроили, превратив в Государственный музей В. В. Маяковского. Сохранили в первозданном виде, как своеобразные достопримечательности музея, только лестницу, ведущую до 4-го этажа, лестничную клетку перед входом в квартиру № 12, переднюю и комнату Маяковского. Перегородки всех остальных комнат и кухни в квартире был снесены, произведена значительная перепланировка с созданием здесь зала музея. Как мы выяснили, на плане строителей черного хода не было! Но мы поверили В. И. Скорятину, который всех убеждал, что при жизни Маяковского черный ход существовал. Это была дверь, через которую прямо из кухни можно было выйти на другую лестницу и затем — во двор с другой стороны здания (ныне это приблизительно то место, где расположен вход в ГММ). Скорятин уверяет, что о наличии здесь ранее черного хода ему подсказали бывшие жильцы дома Н. Левина и Л. Татарийская. Затем дверь черного хода заложили кирпичом. Для того, чтобы разобраться с версией Скорятина, в ноябре 2007 года я специально выезжал в Москву и еще раз тщательно рассматривал в ГММ ту часть здания, которая сохранилась со времен Маяковского практически в неизмененном виде. Первая нестыковка в версии Скорятина видна сразу. От парадного входа в ГММ я вышел на Мясницкую, повернул за угол, выйдя на Лубянский проезд, и дошел до длинной, узкой подворотни-арки, то есть до того места, где Агранов должен был столкнуться с Кольцовым и Третьяковым. Этот путь занял у меня всего 3 минуты. А сейчас мысленно представьте, сколько времени прошло от момента гибели Маяковского до появления в коммунальной квартире «троицы» (Кольцов — Третьяков — Агранов)? В 11-м часу П. Лавут — импресарио поэта — на Гендриковом переулке узнал о трагедии (его догнала на переулке домработница квартиры Маяковского-Бриков, которой горестную весть сообщили по телефону). Лавут проехал немалое расстояние от Таганки до Лубянки и, увидев Маяковского мертвым, позвонил в ЦК ВКП(б). Оттуда прибежали Кольцов и Третьяков. По крайней мере, все это заняло не меньше часа. Действительно, убийца (Агранов или таинственный «некто») теоретически мог спрятаться в туалете или ванной, которые сейчас не сохранились, но видны на плане коммунальной квартиры. В. В. Полонская свидетельствовала, что услышала выстрел у парадной двери. Предположим, Полонская в воспоминаниях имела ввиду не парадную дверь квартиры, а дверь подъезда на 1-м этаже. Если бы она спустилась с 4-го этажа, где жил поэт, до первого по парадной лестнице, то «некто» успел бы пробежать путь от ванной или туалета, где скрывался, открыть дверь комнаты Маяковского, выстрелить в него, положить на пол оружие, на стол — заготовленное предсмертное письмо и проделать обратный путь до своего убежища. Однако могла ли женщина, спешившая на репетицию, от парадной двери 1-го этажа услышать слабый звук выстрела («хлопок» из маузера), прозвучавший на 4-м (!) этаже за двумя плотными дверьми (дверь в квартиру и дверь в «комнатенку-лодочку»)? Очень сомнительно, ведь даже находившиеся на кухне коммунальной квартиры (около четырех с половиной метров от комнаты поэта) соседи Скобина и Кривцов слышали негромкий звук («какой-то хлопок», «как из пугача»). Но даже если Полонская и услышала хлопок, похожий на выстрел, то почему она должна была думать, что этот звук донесся из комнаты Маяковского? Стоя на 1-м этаже у этой, специально сохраненной в ГММ, глухой, полутемной лестницы (рис. 8; см. с. 213), я размышлял над такими вопросами. Далее. Полонская вспоминает, что когда она вбежала в комнату Маяковского, то в ней «еще стояло облачко дыма от выстрела»[285]. Могла ли женщина в повседневной, не спортивной, одежде (согласно показаниям Н. Скобиной — в модных туфлях, длинном пальто, шляпе), услышав хлопок, пробежать по полутемной, неудобной лестнице с 1-го до 4-го этажа, открыть своим ключом дверь коммунальной квартиры, затем распахнуть дверь незапертой на ключ комнаты Маяковского и успеть увидеть маленькое облачко от бездымного пороха? Теоретически это никак невозможно. А практически? Как быстро Полонская могла добежать до «комнатенки-лодочки»? Подойдя у гардероба к студенческой группе, ждущей начала экскурсии, я рассказал о сути дела и попросил помочь мне в «следственном эксперименте». Это вызвало живой интерес у студентов. Мы выбрали 20-летнюю девушку на невысоких каблуках в длинном женском модном пальто и отправились к лестнице. Мнимая современная «Полонская» пробежала путь от первого этажа до двери «комнатенки-лодочки» Маяковского, с имитацией открывания ключом двери коммунальной квартиры, за 48 секунд. Это очень большой промежуток времени. Теперь абсолютно ясно, какую дверь имела в виду Полонская, когда писала в показаниях и воспоминаниях, что «прошла несколько шагов до парадной двери». Это — дверь коммунальной квартиры № 12. Но в таком случае разваливается вся версия Скорятина. С удивлением я осматриваю площадь маленькой передней, три стены которой сохранены до сих пор. Комната Маяковского — первая к парадной двери. Беру рулетку и, с разрешения работников ГММ, измеряю расстояние от закрытой двери комнаты Маяковского до парадной двери коммунальной квартиры — всего лишь 3 м 12 см! От парадной двери — вся малюсенькая передняя буквально как на ладони. Держа в руках старый план дома 1920-1960-х годов, вместе со служащими ГММ мысленно прикидываем, где раньше были туалет, ванная и кухня. Убеждаюсь, что теснота ужасная, все расположено рядом, все обозревается! По плану квартиры № 12, которая была здесь во времена Маяковского, расстояние от двери комнаты поэта составляет: до двери в туалет — 3,3 м; ванной — 5 м; начала кухни — 4,5 м. Причем из кухни, где находились в момент так называемого «убийства» Н. Скобина и девочка Левина, отлично видно часть общего коридора, куда открываются двери ванной и туалета; половина площади передней и даже край двери в комнату Маяковского. И все построение версии Валентина Скорятина разом рушится, словно карточный домик! Сопоставляю план квартиры № 12, увиденное в сохраненной части квартиры, воспоминания Полонской и показания Скобиной и Кривцова. Становится ясно, что Полонская прошла эти 3 м до парадной двери квартиры, услышала выстрел, в замешательстве заметалась перед дверью Маяковского, что длилось всего несколько секунд, приоткрыла дверь, а затем, стоя на пороге или у порога комнаты, крикнула: «Спасите, помогите, Владимир Владимирович застрелился!» и вместе с подбежавшими соседями Скобиной, Кривцовым и девочкой Левиной вбежала в комнату Маяковского. От момента выстрела все это длилось не более 5-10 секунд. Мифический преступник (Агранов или «некто») никак не мог за это время выполнить свое «злодеяние» и, тем более, вернуться обратно в убежище. Это — если учитывать только временные характеристики. А если иметь в виду и пространственные условия — размеры и планировку квартиры — совершение убийства по версии Скорятина также абсолютно нереально. Преступник теоретически еще мог за спиной Полонской, направляющейся к парадной двери, заскочить в комнату и выстрелить в Маяковского. Но, выскочив из комнаты обратно в переднюю, он обязательно должен был наткнуться на Полонскую и бежавших к передней соседей. Проскочить в «убежище» мимо них было невозможно. Однако ни актриса, ни молодые соседи Маяковского никого не видели. Кроме того, как мог преступник незамеченным попасть и свободно расхаживать по коммунальной квартире, прятаться в туалете? Стал ли бы преступник, тем более, такой опытный человек, как Агранов, в таких сложных условиях планировать и совершать убийство: тесная квартира с большим количеством жильцов, оба пути отхода после совершения преступления отрезаны (через парадную дверь должна уходить Полонская, а черный ход отрезан громко разговаривающими и балагурящими на кухне соседями)? В частных беседах я уяснил: из научных сотрудников ГММ, а это — все знающие и опытные маяковеды, никто не верит в убийство поэта! В заключение хотелось бы привести замечательные слова директора ГММ С. Е. Стрижневой, которые касаются абсолютно всех версий убийства Маяковского: «Сторонники гипотезы об убийстве поэта должны задаться вопросами, почему „тщательно готовя акцию устранения“, ее разработчики остановились на таком „трудном“ способе устранения, как самоубийство? Зачем надо было убивать Маяковского в коммунальной квартире, в присутствии соседей. Можно было инсценировать смерть без эффектных выстрелов с подменой оружия, писанием подложного письма и многочисленными свидетелями»[286].* * *
Окончательный вывод о том, что Маяковский застрелился сам, сделан в результате современного исследования сохранившейся рубашки поэта, в которой он находился в момент выстрела. Несмотря на то, что это исследование выполнено еще в 1991 году, оно или замалчивается, или подвергается сомнению фанатиками версии убийства. Поэтому считаю своим долгом поподробнее остановиться на нем. Экспертное исследование было выполнено в НИИ судебной медицины комиссией в составе профессоров А. В. Маслова (судебно-медицинского эксперта высшей категории), Э. Г. Сафронского (специалиста по судебно-баллистической экспертизе) и И. П. Кудешевой (эксперта по исследованию следов выстрела). Все трое являлись наиболее крупными специалистами в нашей стране в своей области. Чтобы избежать необъективности, экспертам не было сообщено, чью рубашку они исследуют. Вначале идентифицировали полученную из ГММ рубашку с рубашкой, которая запечатлена на посмертных фотографиях Маяковского. На специально увеличенных фотографиях тела Маяковского, сделанных на месте происшествия, на рубашке хорошо различимы рисунок ткани, фактура, форма и локализация пятен крови, огнестрельного повреждения. Полученную из ГММ рубашку сфотографировали в том же ракурсе, с тем же увеличением и произвели фотосовмещение. Абсолютно все детали совпали, то есть научными методами было установлено, что именно эта рубашка была на Маяковском в момент выстрела. Экспертам предстояла трудная работа — найти на рубашке следы выстрела более чем 60-летней давности и установить его дистанцию. В судебной медицине и криминалистике принято различать три дистанции: выстрел в упор, выстрел с близкого расстояния и выстрел с дальнего расстояния. Если будет установлено, что 14 апреля 1930 года в комнате Маяковского прозвучал выстрел с дальней дистанции, значит, кто-то стрелял в поэта. Были обнаружены характерные для выстрела в упор (рис. 9; см. с. 213) линейные повреждения крестообразной формы (они возникают от действия отражаемых от тела газов в момент разрушения ткани снарядом). Неполностью сгоревших следов пороха, копоти и следов опаления как в самом повреждении, так и на участке ткани, прилегающем к нему, обнаружено не было. Это также характерно для выстрела в упор. Большое значение имело использование современного диффузно-контактного метода. Для того, чтобы результаты были доказательными и наглядными, эксперты выполняют оттиски-контактограммы, на которых проявляется распределение продуктов выстрела, в частности металла, вокруг повреждения. При выстреле из канала ствола вылетает раскаленное облако, струя, которая сопровождает пулю, окутывает ее. На некотором расстоянии они летят вместе. А затем пуля начинает опережать это облако и улетает дальше, а струя тормозится. Если выстрел произведен с дальней дистанции, то облако не долетает до объекта, если было небольшое расстояние между преградой (в данном случае рубашкой) и оружием, то тогда газо-пороховое облако оседает на этой рубашке. При использовании высокоэффективного диффузно-контактного метода определения сурьмы были получены точные и достоверные результаты. Метод был внедрен в 1987 году профессором С. А. Николаевой. Сурьма является компонентом капсюльного состава. Важно, что она мало распространена в природе. Было установлено, что вокруг повреждения на рубашке располагается обширная зона отложения сурьмы, имеющая очень характерную для выстрела в упор топографию. Отложение сурьмы носило секторальный характер — признак того, что дульный срез был прижат к рубашке под углом, так называемый боковой упор. Интенсивная металлизация в левой части — признак того, что выстрел был произведен справа налево, почти в горизонтальной плоскости, с небольшим наклоном книзу. Обнаружение следов выстрела в боковой упор (дульный срез прижат к поверхности не по всей окружности, а лишь частью ее), отсутствие следов борьбы и самообороны характерны для выстрела, произведенного собственной рукой! По проведенному исследованию комиссия экспертов в «Заключении» сделала следующие выводы: «1. Повреждение на рубашке В. В. Маяковского является входным огнестрельным, образованным при выстреле с дистанции боковой упор в направлении спереди назад и несколько справа налево почти в горизонтальной плоскости». (Это однозначно означает, что человек стрелял в себя сам). «2. Судя по особенностям повреждения и наличию малых по размерам линейных разрывов ткани, отходящих от основного повреждения на рубашке, а также по отсутствию выходного повреждения, на месте происшествия было применено короткоствольное оружие (например, пистолет) и был использован маломощный патрон». (Это полностью соответствует результатам экспертизы, проведенной в последующем, 1995 году, в Федеральном центре судебных экспертиз, доказавшей, что Маяковский застрелил себя из пистолета системы «Маузер» модели 1914 года, заряженного пулей от браунинга калибра 7,65 мм). «3. Небольшие размеры пропитанного кровью участка, расположенного вокруг входного огнестрельного повреждения, свидетельствуют об образовании его вследствие одномоментного выброса крови из раны, а отсутствие вертикальных потеков крови указывает на то, что сразу после получения ранения В. В. Маяковский находился в горизонтальном положении, лежа на спине». (Это означает, что Маяковский не падал лицом вниз, на грудь, и не мог разбить лица при падении; выводами заключения закончен спор о положении тела Маяковского после выстрела. Он лежал действительно на спине на полу, как и указано в протоколе следователя Синева). «4. Форма и малые размеры помарок крови, расположенных ниже повреждения, и особенность их расположения по дуге свидетельствуют о том, что они возникли в результате падения мелких капель крови с небольшой высоты на рубашку в процессе перемещения вниз правой руки, обрызганной кровью, или с оружия, находившегося в той же руке»[287]. (Еще одно свидетельство в пользу самоубийства и доказательство того, что Маяковский произвел выстрел правой рукой, а не левой, как ошибочно считали некоторые после вскрытия). Журналисты спрашивали ведущего эксперта, профессора А. В. Маслова сразу после обнародования результатов исследования: «Бывает и имитация самоубийств; может быть, самоубийство Маяковского сымитировали?»[288]. Александр Васильевич на этот и подобные вопросы устно и в печати отвечал следующим образом: «В экспертной практике очень редко, но встречаются такие случаи. Можно подойти и выстрелить в упор. Можно инсценировать один, два, пять признаков. Но весь комплекс признаков фальсифицировать невозможно. Здесь слишком много устойчивых совпадающих признаков: распределение крови, сурьмы»[289]. На первый взгляд кажется, что капли крови на рубашке могли возникнуть как следы кровотечения из раны — пояснял далее А. В. Маслов. Но они не связаны с основным источником пропитывания — пятном крови на рубашке поэта, округлой формы, не имеют вокруг себя брызг. Следовательно, капли крови падали с небольшой высоты с какого-то окровавленного предмета — руки, оружия (на них кровь попала вследствие одномоментного выброса из раны). Эксперты тщательно изучили расположение капель крови — по дуге, то есть после выстрела рука, державшая оружие, опускалась книзу, а не отдергивалась от тела, как бывает при выстреле из оружия, произведенного посторонней рукой. «Кажется, что можно, если все продумать, накапать крови на рубашку, — продолжал профессор Маслов. — Даже если допустить, что чекист Агранов (а он действительно знал свое дело) был убийцей и нанес капли крови после выстрела, скажем из пипетки, хотя по восстановленному хронометражу событий у него на это просто не было времени, необходимо было достичь полного совпадения локализации капель крови и расположения следов сурьмы. Но никто не мог в 1930 году предположить, что спустя 60 лет рубашку будут изучать на распределение сурьмы методом, открытым лишь в 1987-м. В 1930 году криминалистам не была известна реакция на сурьму и было неизвестно, как она располагается при производстве выстрела»[290]. Именно сопоставление расположения сурьмы и капель крови, падавших с малой высоты, и стало вершиной этого исследования; позволило ответить на самые сложные вопросы. Таким образом, факт самоубийства В. В. Маяковского доказан научно. Литературный мир и общественность должны признать это! Потуги Б. Горба, И. Булкина и других современных версификаторов насильственного устранения поэта выглядят, как жалкое размахивание кулаками после драки. Рассказывают, что 83-летняя старушка Вероника Витольдовна Полонская плакала, когда ей сообщили о результатах исследования. Ведь все эти годы А. И. Колосков и многие другие литераторы, историки и любители литературы считали, что именно она собственноручно убила поэта. Быть может, она плакала от облегчения, что с нее, наконец-то, снято обвинение в убийстве, а может вспоминала те далекие времена, когда она проявила легкомысленность и бессердечие…* * *
Мы не осветили еще один интересный и важный вопрос — об аутопсии. Судебно-медицинское вскрытие тела было произведено в ночь с 16 на 17 апреля в одной из комнат клуба ФОСП (Федерации объединений советских писателей) на улице Воровского, где с 15 апреля проходило прощание с покойным. На вскрытии настоял оргсекретарь ФОСП В. А. Сутырин, так как по Москве поползли упорные слухи, что Маяковский покончил жизнь самоубийством из-за сифилиса. На 17 апреля были назначены похороны и кремация. Владимира Александровича осенило, что если назавтра тело будет кремировано, то сплетня о люэсе Маяковского может остаться навсегда. Вскрытие проводил авторитетнейший специалист патологической анатомии профессор В. Т. Талалаев со своими помощниками. Сохранилась фотография этой печальной процедуры (рис. 10; см. с. 213): идет начало аутопсии — осмотр области головы и шеи; хорошо видно темное пятнышко на груди слева — огнестрельная рана сердца. Партийно-литературного чиновника Сутырина прежде всего волновал вопрос идеологический — есть ли у великого борца социалистической революции «язва капитализма»? Поэтому Владимир Александрович так оценил аутопсию: «Результаты вскрытия показали, что злонамеренные сплетни не имели под собой никаких оснований. Все это было записано в акте, и на следующий день я сообщил это родным»[291]. Чекиста Якова Агранова больше волновал вопрос судебно-криминалистический, и он с нетерпением ждал окончания аутопсии. Художник Н. Денисовский, находившийся ночью в клубе ФОСП, сообщал такие подробности: «После вскрытия вдруг приходит Агранов и спрашивает, был ли Владимир Владимирович левшой. Оказалось, что пуля прошла с левой стороны и застрелиться он мог только левой рукой. Все мы подтвердили, что он был левшой и правшой… На ладони у Агранова лежала злосчастная маленькая пуля, которую вынули из сердца»[292]. Действительно, Маяковский прекрасно владел и левой, и правой рукой. Но современные исследования показали, что Владимир Владимирович застрелился правой рукой. В уголовном деле № 02–29 «Акта вскрытия» я не обнаружил. Нет его и в архивах ГММ. Оказалось, что маяковеды его не могут найти до сих пор. Основная версия такова: акт вскрытия хранился вместе с другими подобными документами в архиве кафедры патологической анатомии, который размещался в подвале Патологоанатомического института медицинского факультета МГУ (с июня 1930 года — Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова). В дальнейшем произошла авария водопровода, все документы залило водой и они превратились в бумажную «кашу». Все же, мне кажется, нужно продолжить поиски акта вскрытия в других архивах ММА им. И. М. Сеченова, МГУ, бюро судебно-медицинских экспертиз, а также в архивах ФСБ. Возможно, на профильных кафедрах (патологической анатомии, судебной медицины) московских медицинских вузов хранятся какие-то выписки из этого акта, воспоминания участников аутопсии и другие подобные документы, имеющие первостепенный интерес. Поскольку акт вскрытия до сих пор еще не обнаружен, сложным является вопрос о характере раневого канала. Однако мы имеем протокол осмотра трупа врачом Рясенцевым, а также ценные воспоминания М. Я. Презента и Н. Ф. Денисовского, которые получили сведения от Я. С. Агранова и других лиц, имеющих полную информацию об аутопсии. Абсолютно ясно то, что входное огнестрельное (пулевое) отверстие, диаметром всего лишь 0,67 см, располагалось по левой срединно-ключичной линии на 3 см выше левого соска. Огнестрельное ранение Маяковского являлось слепым, то есть выходного отверстия не было. Однако доктор Рясенцев «с правой стороны на спине в области последних ребер под кожей» отчетливо прощупал «твердое инородное тело, незначительное по размеру». «Последние ребра на спине» — это ребра XI и XII. Для Рясенцева и следователя Синева было несомненным то, что указанное инородное тело является пулей. Таким образом, пуля застряла в подкожной клетчатке правой поясничной области на уровне XI и XII ребер. По расположению огнестрельной раны, для врача скорой медицинской помощи Агамалова, фельдшеров Ногайцева и Константинова, доктора-судмедэксперта Рясенцева, следователей и представителей ОГПУ не было сомнений в том, что Маяковский имел огнестрельное ранение сердца. В милицейском рапорте, основанном в наибольшей степени на мнении врача Рясенцева, указано, что у гражданина Маяковского имелось огнестрельное ранение сердца, от чего наступила «моментальная смерть», то есть, по медицинским представлениям, клиническая смерть в течение 5 минут после ранения. По архивным документам станции «Скорой помощи» на Сухаревской площади, В. И. Скорятин установил, что медицинская бригада прибыла очень быстро: через 6 минут после выстрела и через 5 минут после вызова. Однако реанимационные мероприятия не проводились, медицинская бригада лишь осмотрела смертельно раненного и зафиксировала смерть. В «Следственном деле В. В. Маяковского» я натолкнулся на дневник М. Я. Презента «О Маяковском». Михаил Яковлевич жил в Кремле и в 1930 году являлся литературным секретарем Демьяна Бедного, знал многих влиятельных лиц и в своем дневнике из первых уст записал важные сведения об обстоятельствах гибели поэта. Почти вся информация подтверждается другими документами, а следовательно дневнику Презента можно доверять. Так вот, М. Я. Презент записал в дневнике: «Маяковский был левша. Пуля пробила сердце, легкие, почку… Говорят, что прострелив сверху вниз все внутренности, он еще имел силы подняться, но снова упал»[293]. Таким образом, ориентировочный ход раневого канала был следующим: пистолетная пуля вошла в левую половину грудной клетки по срединно-ключичной линии, поразила сердце и левое легкое, а затем ушла вниз, кзади и вправо и, поранив правую почку, застряла в подкожной клетчатке правой поясничной области. Таким образом, раневой канал имел нисходящее направление. При таком ходе раневого канала, по законам элементарной логики, возникает предположение, что Маяковский держал пистолет в левой руке. Так, к примеру, считали Я. С. Агранов и другие сотрудники ОГПУ, курировавшие следственное дело Маяковского. Однако современная судебно-медицинская экспертиза сохранившихся вещественных доказательств, в частности, рубашки поэта, с применением новых высокоточных и эффективных методик, например, диффузно-контактного метода определения сурьмы, убедительно и достоверно показала, что Маяковский застрелил себя правой рукой. Очевидно, произошел рикошет от ребер, скорее всего, от нижнего края III ребра, что и придало пуле нисходящее направление. Маяковский, таким образом, получил сквозное огнестрельное ранение сердца, а также (предположительно) левого легкого, диафрагмы, верхнего полюса правой почки и мягких тканей правого забрюшинного пространства. Летальный исход наступил от сквозного огнестрельного ранения сердца с острой тампонадой сердца и его остановкой.* * *
Уходя из жизни, поэт оставил нам документ — предсмертное письмо. Оно как бы документально удостоверяет намерение поэта покончить с собой. Версификаторы насильственного устранения Маяковского объявляют письмо то фальшивкой, то вообще в природе не существующим. А между тем, оно есть и хранится в ГММ. Внимательно рассматриваю письмо. Написано оно простым карандашом, почти без знаков препинания и с орфографическими ошибками, размашистым почерком, очень крупными буквами, на двух сложенных листах (трех страницах) писчей бумаги в линейку. Сдвоенный лист этой бумаги видимо вырван поэтом из какой-то канцелярской книги, а может быть — красивой большой тетради и имеет в развернутом виде размеры 20x32 см: «Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет… Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская… Как говорят — „инцидент исперчен“, любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский 12/IV 30 г.»[294] Мой многолетний анализ содержания и структуры письма и последних 4-х дней жизни поэта позволяет сделать вывод, что 12 апреля Маяковский написал лишь основную смысловую, содержательную часть письма, которая заканчивается словами «Счастливо оставаться», подписью и датой. Эта часть предсмертного письма заняла ровно две страницы. А дальше, на третьей странице, идут «дописки», не имеющие уже главного смыслового значения и добавленные к основной части письма уже 13 апреля и/или рано утром 14 апреля! Именно к этим допискам, как правило, придираются отдельные литераторы, обвиняя поэта в несерьезности, мелочности письма. В любом случае, основная, наиболее важная часть письма написана 12 апреля, и затем поэт, колеблясь, оттягивая роковой выстрел, ходил с готовым письмом еще два дня. Вспомнил о Вапповцах, Ермилове и сделал дописки в письмо; у него был долг перед фининспектором, поэтому он сделал в заключение финансовые распоряжения. Разговоры о «мелочности, ничтожности» письма я считаю надуманными. Ким Ляско удивляется: «О чем думает человек, приговоривший себя к смерти!.. Не о душе, не о том, каким он предстанет перед Верховным Судией, а о каких-то мелочах и пустяках…»[295]. Вот и журналист В. И. Скорятин не верил, что «такое вот суетное письмо вышло из-под пера поэта»[296]. Валентин Иваныч изначально, еще до сбора фактов, был на 200 % уверен, что Маяковского убили. А следовательно, письмо писал совсем не он. Его, мол, сочинили враги поэта, гэпэушное окружение Бриков. Написали 12 апреля, но не сумели убить поэта ни 12-го, ни 13-го. Единомышленники Скорятина поэтому называют предсмертное письмо «просроченным мандатом на убийство». Особенно В. Скорятину не понравился… карандаш Маяковского. Валентин Иваныч никак не мог поверить, что прощальное письмо можно написать карандашом, имея такую замечательную авторучку «Паркер». «Известно, что Маяковский с величайшим пиететом относился к своим авторучкам, — строит свою гипотезу Скорятин. — Пользоваться „стилом“ он не разрешал никому и ни при каких обстоятельствах. Заполучить ручку поэта даже на короткое время было невозможно. Да и подделать почерк „чужой“ авторучкой нелегко… Все эти сложности устраняются, если воспользоваться карандашом. А уж сам почерк — сущий пустяк для профессионалов из ведомства Я. Агранова»[297]. Но почерковеды хорошо знают, что подделать почерк карандашом так же трудно, как и авторучкой! В ГММ у ведущих специалистов я поинтересовался, только ли авторучкой писал поэт? Оказалось, наоборот, большинство творческих рукописей поэта написано карандашом! Поэтому написание последнего письма именно карандашом вполне естественно, и в этом нет ничего странного и необычного. Однако, в связи с сомнениями некоторых современных исследователей в подлинности прощального письма В. В. Маяковского, дирекция ГММ направила его на почерковедческую экспертизу Она была проведена во Всероссийском НИИ судебных экспертиз с участием ведущих российских специалистов судебно-почерковедческой экспертизы Ю. Н. Погибко и других. В качестве сравнительного материала использовались подлинные образцы почерка Маяковского (стихотворения, записи). Вывод исследования был категоричен: «Рукописный текст предсмертного письма от имени Маяковского В. В., датированный 12.04.30 г. — выполнен самим Маяковским Владимиром Владимировичем»[298]. Таким образом, в результате подлинного научного исследования абсолютно точно установлено, что прощальное письмо выполнено самим Маяковским. Но почему письмо датировано именно 12-м числом апреля? «Историки должны по минутам просчитать день 12 апреля, когда была написана записка, ставшая предсмертной. Тайна кроется не в 14-м дне апреля, а в 12-м»[299], — пишет профессор А. В. Маслов. Обращая свои взоры лишь на 12 апреля и не находя в череде этого дня что-то знаковое для провокации суицида, исследователи заходили в тупик. Однако наш анализ[300] показывает, что роковое событие, развернувшее цепочку суицидальных устремлений Маяковского, произошло еще на один день раньше — 11 апреля 1930 года. Об этом событии лишь в 1938-м записала в своих воспоминаниях Вероника Полонская, но о нем поклонники поэта узнали по существу совсем недавно, когда были открыты для доступа спецхраны ГММ. В сокращенном виде воспоминания В. В. Полонской были опубликованы в 1987 году, а в достаточно полном виде — только в 2005-м в книге «Следственное дело В. В. Маяковского». В оригинале воспоминаний Вероники Витольдовны записано: «…Между нами произошла очень бурная сцена. Мы оба были очень взволнованы и не владели собой. Я почувствовала, что наши отношения дошли до предела. Я просила его оставить меня, и мы на этом расстались во взаимной вражде. Это было 11 апреля»[301]. Утром 12 апреля Маяковский и Полонская не встречались. Вообще, для них обоих было неясно, будут ли они еще когда-нибудь встречаться. Днем 12 апреля Полонскую вызвали к телефону: «12 апреля у меня был дневной спектакль. В антракте меня вызывают по телефону. Говорит Владимир Владимирович. Очень взволнованный, он сообщает, что сидит у себя на Лубянке, что ему очень плохо… Только я могу ему помочь, говорит он. Вот он сидит за столом, его окружают предметы — чернильница, лампа, карандаши, книги и прочее. Есть я — нужна чернильница, нужна лампа, нужны книги. Меня нет — и все исчезает, все становится ненужным… Владимир Владимирович сказал: „Да, Нора, я упомянул Вас в письме к правительству, так как считаю Вас своей семьей. Вы не будете протестовать против этого?“ Я ничего не поняла тогда… ответила: „Упоминайте где хотите!..“»[302]. Совершенно ясно, что к моменту телефонного разговора Маяковский или только что написал, или продолжал писать предсмертное письмо! Среди нескольких причин самоубийства Маяковского, несомненно, главная — «крушение любовной лодки», неудачная, несчастная любовь. И Владимир Владимирович прямо, без утайки, называет эту причину в прощальном письме. И ему надо верить! Такие сильные и страстные натуры, как Маяковский, открыто, не таясь, показывают свои намерения. Да, Владимир Маяковский, когда в 1990-х годах с него были сброшены идеологические советские покрывала, оказался не только железным революционным бойцом, но и самым настоящим романтическим Дон Жуаном. И это неплохо. Плохо, что, по образному выражению Кима Ляско, чересчур много женщин сажал он в любовную лодку, среди которых попадались и замужние, которые сопротивлялись. И лодка оказалась перегруженной, не выдержала, села на мель. Нужно ли было из-за этого стреляться? «Нет!» — считают Михаил Булгаков и многие другие здравомыслящие граждане. Но Маяковский был особенный человек, не похожий на всех. Он всегда ставил на карту все, вплоть до жизни! В своей жизни Маяковский любил 13 женщин. Вероника Полонская была 13-й, роковой, последней и самой страстной любовью Маяковского. Идея во что бы то ни стало жениться на ней стала навязчивой. Пожар любви заживо сжигал поэта. Вспоминаются строчки любвеобильного Маяковского: Рис. 1. Владимир Владимирович Маяковский. Фото пермского журналиста П. Половодова. 1928 г.
Рис. 1. Владимир Владимирович Маяковский. Фото пермского журналиста П. Половодова. 1928 г.
 Рис. 2. Вероника Витольдовна Полонская.
Рис. 2. Вероника Витольдовна Полонская.
 Рис. 3. Комната В. В. Маяковского в коммунальной квартире дома № 3 по Лубянскому проезду. Вид из двери, нижний ракурс. Перед диваном лежит ковер, на котором был обнаружен поэт с простреленной грудью. Фото М. И. Давидова, 2007 г.
Рис. 3. Комната В. В. Маяковского в коммунальной квартире дома № 3 по Лубянскому проезду. Вид из двери, нижний ракурс. Перед диваном лежит ковер, на котором был обнаружен поэт с простреленной грудью. Фото М. И. Давидова, 2007 г.
 Рис. 4. Первая посмертная фотография В. В. Маяковского, выполненная в его комнате по Лубянскому проезду фотографом В. Поповым.
Рис. 4. Первая посмертная фотография В. В. Маяковского, выполненная в его комнате по Лубянскому проезду фотографом В. Поповым.
 Рис. 5. Личный браунинг Маяковского, приложенный к уголовному делу № 02–29 вместо исчезнувшего маузера, из которого произведен выстрел. Фото В. Скорятина.
Рис. 5. Личный браунинг Маяковского, приложенный к уголовному делу № 02–29 вместо исчезнувшего маузера, из которого произведен выстрел. Фото В. Скорятина.
 Рис. 6. Пуля, извлеченная из тела Маяковского, с гильзой, подобранной на полу комнаты поэта.
Рис. 6. Пуля, извлеченная из тела Маяковского, с гильзой, подобранной на полу комнаты поэта.
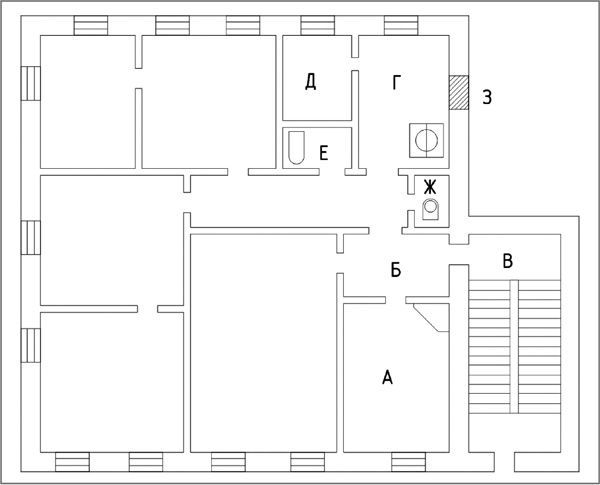 Рис. 7. План коммунальной квартиры в Лубянском проезде, где жил поэт, по состоянию на 1930 год. На схеме: а — комната Маяковского; б — передняя; в — парадная дверь в квартиру; г — кухня; д — комната Кривцова; е — ванная; ж — туалет; з — черный ход.
Рис. 7. План коммунальной квартиры в Лубянском проезде, где жил поэт, по состоянию на 1930 год. На схеме: а — комната Маяковского; б — передняя; в — парадная дверь в квартиру; г — кухня; д — комната Кривцова; е — ванная; ж — туалет; з — черный ход.
 Рис. 8. Историческая лестница в подъезде дома № 3 по Лубянскому проезду, по которой тысячи раз поднимался поэт В. В. Маяковский.
Рис. 8. Историческая лестница в подъезде дома № 3 по Лубянскому проезду, по которой тысячи раз поднимался поэт В. В. Маяковский.
 Рис. 9. Общий вид входного огнестрельного повреждения на рубашке Маяковского. Фото из заключения специалистов (по А. В. Маслову, Э. Г. Сафронскому, И. П. Кудешевой).
Рис. 9. Общий вид входного огнестрельного повреждения на рубашке Маяковского. Фото из заключения специалистов (по А. В. Маслову, Э. Г. Сафронскому, И. П. Кудешевой).
 Рис. 10. Вскрытие тела В. В. Маяковского в ночь с 16 на 17 апреля 1930 года. Слева — профессор В. Т. Талалаев.
Рис. 10. Вскрытие тела В. В. Маяковского в ночь с 16 на 17 апреля 1930 года. Слева — профессор В. Т. Талалаев.
Михаил Иванович ДАВИДОВ

Родился в 1954 году в Ординском районе Молотовской области/Пермский край. Окончил Пермский государственный медицинский институт (1977). Работал врачом военно-строительного отряда космодрома Байконур, трудился хирургом, урологом. В настоящее время — доцент Пермской государственной медицинской академии. Кандидат медицинских наук. Около 40 лет изучает историю отечественной литературы. Автор документальных повестей «Дело № 37», «Дуэль Пушкина», «Тайна смерти Гоголя», «Бунт души», «Не поставить ли лучше точку пули в конце…» и более 50 статей о жизни Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого, Маяковского. Публиковался в альманахе писателей Пермского края «Литературная Пермь», в журналах «Москва», «Урал», «Уральский следопыт», «Наука и жизнь», «Охотничьи просторы» и других. Автор 5 медицинских книг и 650 научно-медицинских статей, выступал с докладами на 14 международных конференциях в Париже, Милане, Гаване, Женеве и других городах. Имя М. И. Давидова включено в Биографическую энциклопедию «Who is Who в России» (2010), в энциклопедию «Отечественная медико-техническая наука» (2013). Член Пермской краевой общественной (профессиональной) организации Союза писателей России (2015). Живет в городе Перми.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Дело № 37. — Журнал «Москва». - 2003. - № 7. — С.1 85-211; № 8. — С. 181–204 (о дуэли Лермонтова). Дуэль и смерть А.С. Пушкина. — Урал. 2006. — № 1. — С. 193–220. Сердечная и огнестрельная раны Пушкина. — Пермь: Прометей, 2007. — 52 с. Убийство или самоубийство? — Наука и жизнь. — 2010. — № 11. — С. 98–107 (о гибели Маяковского). «Не поставить ли лучше точку пули в своем конце…» — Урал. — 2012. — № 11. — С. 207–228 (о гибели Маяковского). Скорбный лист. — Дилетант. — 2013. — № 2 (14). — С. 22–26 (о смерти А. С. Пушкина). Лермонтов и Мартынов: трагическое противостояние «злого» гения и «доброго» злодея. В кн.: Трагическое противостояние. — Пермь: Пермский писатель, 2014. — С. 101–194. На старой грунтовой дороге: Уральские следопыты уточнили место дуэли М. Ю. Лермонтова. — Уральский следопыт. — 2014. — № 10. — С. 36–39. Можно ли было спасти Лермонтова? — Медицинская газета. — 2014, 24 октября. — № 80. — С. 14–15. Выстрел у подножия Машука. — Врачебное сословие. — 2006. — № 1. — С. 34–38.* * *
Издание книги «Тайны гибели российских поэтов» (документальные повести, статьи, исследования) писателя Михаила Ивановича Давидова и подготовка в рамках проекта «Пермская библиотека» (www.kulturaperm.ru) его электронной версии осуществлены при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (href="http://www.mk.permkrai.ru/" rel="nofollow noopener noreferrer">www.mk.permkrai.ru) и при содействии Пермской краевой общественной (профессиональной) организации Союза писателей России. На обложке, титульном листе: «Лермонтов М. Ю.», гипс, 53x30x38, 1961 г. — работа члена Союза художников РФ Анатолия Григорьева; «Пушкин А. С.», гипс, 75x60x60, 1961 г.; «Маяковский В. В.», гипс, 75x60x60, 1961 г. — работы члена Союза художников РФ, скульптора-фронтовика Леонида Дружинина. На форзаце: «Крестовый перевал 2», холст, масло, 110x75, 1997 г. — работа члена Союза художников РФ, художника-фронтовика Ивана Бакулина.Примечания
1
М. И. Давидов. Ранение на дуэли гениального русского поэта А. С. Пушкина // Хирургия. — 2000. — № 5. — С. 64–69. М. И. Давидов. Дуэль и смерть А. С. Пушкина глазами современного хирурга // Урал. — 2006. — № 1. — С. 193–220. (обратно)2
Н. А. Добролюбов. О разврате Николая Павловича и его приближенных любимцев // Голос Минувшего. — 1922. — № 1. — С. 65. (обратно)3
П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. — М.: Книга, 1987. — Части 1–2. (обратно)4
М. А. Цявловский. Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым. — М., 1925. — С. 117–120. (обратно)5
П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. — М.: Книга, 1987. — Части 1–2. (обратно)6
С. Панчулидзев. Сборник биографий кавалергардов, 1826–1908. — СПб, 1908. — С. 76. (обратно)7
А. В. Трубецкой. Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу. — СПб, 1887. - 10 с. (обратно)8
А. В. Трубецкой. Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу. — СПб, 1887. - 10 с. (обратно)9
П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. — М.: Книга, 1987. — Части 1–2. (обратно)10
Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. (обратно)11
Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военносудное дело 1837 г. — М.: Русслит., 1992. — 160 с. (обратно)12
Пистолеты были проданы на аукционе в Париже и ныне хранятся в частном музее почты в Лимрэ (Франция). (обратно)13
П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. — М.: Книга, 1987. — Части 1–2. (обратно)14
Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военносудное дело 1837 г. — М.: Русслит., 1992. — 160 с. (обратно)15
Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. (обратно)16
Б. В. Петровский. Ранение на дуэли и смерть А. С. Пушкина // Клин. мед. — 1983. — Т. 61, № 4. — С. 109–117. (обратно)17
Б. В. Петровский. Ранение на дуэли и смерть А. С. Пушкина // Клин. мед. — 1983. — Т. 61, № 4. — С. 109–117. (обратно)18
В. А. Шаак. Ранение А. С. Пушкина в современном хирургическом освещении // Вестн. хир. — 1937. — Т. 52, кн. 137. — Вып. 7. (обратно)19
С. С. Юдин. Ранение и смерть Пушкина // Правда. — 1937, 8 февраля. — № 7004. (обратно)20
А. Русаков. О ранении и смерти А. С. Пушкина через 160 лет // Медицинская газета. — 1997, 12 февраля. — С. 16. М. И. Хелиус. Хирургия. — СПб: Изд-во мин. вн. дел, 1839. — Часть 1. — 336 с. (обратно)21
М. И. Хелиус. Хирургия. — СПб: Изд-во мин. вн. дел, 1839. — Часть 1. — 336 с. (обратно)22
В. И. Даль. Смерть А. С. Пушкина // Московская медицинская газета. — 1860, 3 декабря. — № 49. — С. 1. (обратно)23
Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. (обратно)24
М. И. Хелиус. Хирургия. — СПб: Изд-во мин. вн. дел, 1839. — Часть 1. — 336 с. (обратно)25
Г. И. Родзевич. История последней болезни поэта А. С. Пушкина // Волгарь. — 1899. — № 142. (обратно)26
Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. (обратно)27
С. А. Громов. Изложение судебной медицины для академического и практического употребления. — СПб, 1832. — С. 46–121. (обратно)28
В. И. Даль. Смерть А. С. Пушкина // Московская медицинская газета. — 1860, 3 декабря. — № 49. — С. 1. (обратно)29
Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. (обратно)30
Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. В. А. Шаак. Ранение А. С. Пушкина в современном хирургическом освещении // Вестн. хир. — 1937. — Т. 52, кн. 137. — Вып. 7. С. С. Юдин. Ранение и смерть Пушкина // Правда. — 1937, 8 февраля. — № 7004. М. И. Хелиус. Хирургия. — СПб: Изд-во мин. вн. дел, 1839. — Часть 1. — 336 с. (обратно)31
Б. В. Петровский. Ранение на дуэли и смерть А. С. Пушкина // Клин. мед. — 1983. — Т. 61, № 4. — С. 109–117. (обратно)32
Исследование хода раневого канала А. С. Пушкина на трупах и компьютерных томограммах выполнено мною впервые в мире. — Прим. авт. (обратно)33
М. И. Давидов. Ранение на дуэли гениального русского поэта А. С. Пушкина // Хирургия. — 2000. — № 5. — С. 64–69. (обратно)34
В. И. Даль. Смерть А. С. Пушкина // Московская медицинская газета. — 1860, 3 декабря. — № 49. — С. 1. (обратно)35
А. М. Заблудовский. Русская хирургия первой половины XIX века // Новый хирургический архив. — 1937. — № 6. — С. 3–24. (обратно)36
В. А. Шаак. Ранение А. С. Пушкина в современном хирургическом освещении // Вестн. хир. — 1937. — Т. 52, кн. 137. — Вып. 7. (обратно)37
А. Д. Адрианов. Ранение и смерть А. С. Пушкина // Из истории медицины. — Рига: Изд-во акад. наук Латв. ССР, 1963. — Вып. 5. — С. 207–221. (обратно)38
Б. В. Петровский. Ранение на дуэли и смерть А. С. Пушкина // Клин. мед. — 1983. — Т. 61, № 4. — С. 109–117. (обратно)39
Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. (обратно)40
М. С. Рабинович. Ранение и смерть гениального русского поэта А. С. Пушкина. — Омск, 1949. (обратно)41
С. С. Юдин. Ранение и смерть Пушкина // Правда. — 1937, 8 февраля. — № 7004. (обратно)42
И. С. Брейдо. Ранение и смерть Пушкина // Клиническая хирургия. — 1987. - № 1. — С. 73–75. (обратно)43
За брюшной полостью. (обратно)44
Б. В. Петровский. Ранение на дуэли и смерть А. С. Пушкина // Клин. мед. — 1983. — Т. 61, № 4. — С. 109–117. (обратно)45
С током крови по кровеносным сосудам. (обратно)46
И. С. Брейдо. Ранение и смерть Пушкина // Клиническая хирургия. — 1987. - № 1. — С. 73–75. (обратно)47
Б. В. Петровский. Ранение на дуэли и смерть А. С. Пушкина // Клин. мед. — 1983. — Т. 61, № 4. — С. 109–117. (обратно)48
В. И. Даль. Смерть А. С. Пушкина // Московская медицинская газета. — 1860, 3 декабря. — № 49. — С. 1. (обратно)49
Б. В. Петровский. Ранение на дуэли и смерть А. С. Пушкина // Клин. мед. — 1983. — Т. 61, № 4. — С. 109–117. (обратно)50
Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. (обратно)51
Е. И. Андреевский. Воспаление брюшины, перешедшее в нарыв // Труды Общества Санкт-Петербургских врачей. — СПб, 1840. — Т. 7. — Часть 2. - 41 с. (обратно)52
И. С. Брейдо. Ранение и смерть Пушкина // Клиническая хирургия. — 1987. - № 1. — С. 73–75. (обратно)53
И. Д. Аникин. Ранение и смерть Пушкина по сведениям современников// Вестн. хир. — 1967. — № 1. — С. 131–137. (обратно)54
Н. Н. Бурденко, А. А. Арендт. Была ли смертельна рана Пушкина // Литературная газета. — 1937, 5 февраля. — № 7. (обратно)55
А. М. Заблудовский. Русская хирургия первой половины XIX века // Новый хирургический архив. — 1937. — № 6. — С. 3–24. (обратно)56
В. А. Шаак. Ранение А. С. Пушкина в современном хирургическом освещении // Вестн. хир. — 1937. — Т. 52, кн. 137. — Вып. 7. (обратно)57
С. С. Юдин. Ранение и смерть Пушкина // Правда. — 1937, 8 февраля. — № 7004. (обратно)58
А. Д. Адрианов. Ранение и смерть А. С. Пушкина // Из истории медицины. — Рига: Изд-во акад. наук Латв. ССР, 1963. — Вып. 5. — С. 207–221. (обратно)59
Ш. И. Удерман. Избранные очерки истории отечественной хирургии XIX столетия. — Л.: Медицина, 1970. — С. 208–261. (обратно)60
А. Русаков. О ранении и смерти А. С. Пушкина через 160 лет // Медицинская газета. — 1997, 12 февраля. — С. 16. (обратно)61
Е. К. Гуманенко. Огнестрельные ранения мирного времени // Вестн. хир. — 1998. — Т. 157. - № 5. — С. 62–67. (обратно)62
А. С. Ермолов, М. М. Абакумов, А. Н. Погодина, Е. С. Владимирова. Специализированная хирургическая помощь при огнестрельных ранениях груди и живота мирного времени // Хирургия. — 1998. - № 10. — С. 7–11. (обратно)63
М. И. Давидов. Скорбный лист // Дилетант. — 2013. — № 2. — С. 22–26. (обратно)64
А. И. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым // Русский архив. — 1872. — № 1. — С. 212. (обратно)65
В. А. Захаров. Загадка последней дуэли. — М., 2000; В. А. Очман. В чужом пиру… Михаил Лермонтов и Николай Мартынов. — М.: Гелиос, 2005. — 208 с. (обратно)66
И. П. Забелла. Из моих воспоминаний // Отдел рукописей Гос. публ. библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Фонд С. Н. Шубинского. (обратно)67
Н. А. Елагин. — ГБЛ, фонд 90, картон 5, № 29. (обратно)68
К. Паустовский. Повести и рассказы. — Л.: Худож. лит., 1985. — С. 228. (обратно)69
Здесь и далее даты приведены по старому стилю. (обратно)70
Настоящая фамилия Михаила Юрьевича — Лермантов, а литературные произведения он подписывал через «о» — Лермонтов. По последней фамилии он и вошел во всемирную историю и литературу. (обратно)71
П. А. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество. — М.: Современник, 1987. — С. 43. (Далее сокращенно — Висковатов). (обратно)72
И. А. Арсеньев. Слово живое о неживых // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. — М.: Худож. лит., 1989. — С. 56. (Далее сокращенно — Л. в восп.). (обратно)73
И. И. Панаев. Из литературных воспоминаний // Л. в восп. — С. 306–307. (обратно)74
А. X. Бенкендорф. Докладная записка о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта» с резолюцией Николая I // Л. в восп. — С. 486. (обратно)75
«Вадим». (обратно)76
И. С. Тургенев. Из литературных и житейских воспоминаний // Л. в восп. — С. 296. (обратно)77
А. Ф. Тиран. Из записок // Л. в восп. — С. 150. (обратно)78
К. А. Бороздин. Из моих воспоминаний // Л. в восп. — С. 353–354. (обратно)79
В. И. Анненкова. Из воспоминаний // Л. в восп. — С. 164. (обратно)80
И. А. Арсеньев. Слово живое о неживых // Л. в восп. — С. 56–57. (обратно)81
Н. М. Сатин. Отрывки из воспоминаний // Л. в восп. — С. 250. (обратно)82
А. В. Мещерский. Из моей старины. Воспоминания // Л. в восп. — С. 376. (обратно)83
Н. М. Смирнов. Из памятных заметок // Л. в восп. — С. 292. (обратно)84
И. И. Панаев. Из литературных воспоминаний // Л. в восп. — С. 306. (обратно)85
А. Ф. Тиран. Из записок // Л. в восп. — С. 151. (обратно)86
РО ИРЛИ, ф. 524, оп. 4, № 26, тетрадь 1, л. 11 об. (обратно)87
Записки неизвестного гусара о Лермонтове // Звезда. — 1936. — № 5. — С. 183. (обратно)88
Е. А. Сушкова. Из записок // Л. в восп. — С. 111–112. (обратно)89
К. А. Бороздин. Из моих воспоминаний // Л. в восп. — С. 356–357. (обратно)90
Бретер (фр. bretteur) — человек, ищущий малейшего повода для вызова на дуэль. (обратно)91
Предполагают, что прозвище «Монго» Столыпин получил или от клички своей собаки, или от названия французского сочинения «Путешествие Монгопарка». (обратно)92
Ремонтёр — должностное лицо, занимающееся приобретением лошадей для войсковых частей. (обратно)93
П. И. Магденко. Воспоминания о Лермонтове // Л. в восп. — С. 389–390. (обратно)94
А. И. Арнольди. Из записок // Л. в восп. — С. 270. (обратно)95
Э. А. Шан-Гирей. Воспоминание о Лермонтове // Л. в восп. — С. 430–431. (обратно)96
Н. П. Раевский. Рассказ о дуэли Лермонтова // Л. в восп. — С. 415. (обратно)97
Захаров В. Последняя дуэль // Смена. — 1994. — № 4. — С. 24–53. (обратно)98
Висковатов. — С. 357. (обратно)99
Висковатов. — С. 357. (обратно)100
Захаров В. Последняя дуэль // Смена. — 1994. — № 4. — С. 24–53. (обратно)101
Т. А. Иванова. Лермонтов на Кавказе. — М., 1968. — С. 205. (обратно)102
Свирепый (зверский) человек (фр.). (обратно)103
А. Ф. Тиран. Из записок // Л. в восп. — С. 149–150. (обратно)104
Н. С. Мартынов. Моя исповедь //Л. в восп. — С. 493. (обратно)105
Н. С. Мартынов. Отрывки из автобиографических записок // Л. в восп. — С. 490. (обратно)106
Цит.: А. Д. Суворин. Дневник. — М.: Петроград, 1923. — С. 206. (обратно)107
Письмо доктора Пирожкова из Ярославля // Нива. — 1885. — № 20. С. 474. (обратно)108
А. В. Мещерский. Из моей старины. Воспоминания // Л. в восп. — С. 374. (обратно)109
Висковатов. — С. 351. (обратно)110
РГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1. стол 4, св. 1288. 3 № 296. (обратно)111
Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Окружного пятигорского суда // Русский архив. — 1893. — Кн. 8. — С. 602–603. (обратно)112
Костенецкий Я. И. // Русский архив. — 1887. — Т. 1, кн. 1. — С. 114–115. (обратно)113
Висковатов. — С. 351. (обратно)114
По-черкесски (фр.). (обратно)115
Кинжалом (фр.). (обратно)116
Н. П. Раевский. Рассказ о дуэли Лермонтова // Л. в восп. — С. 416. (обратно)117
К. Любомирский. Письмо из Ставрополя в Одессу К. Н. и В. Н. Смольяниновым // Л. в восп. — С. 463. (обратно)118
П. Т. Полеводин. Из письма // Л. в восп. — С. 449. (обратно)119
«Дикарь с большим кинжалом», «горец с большим кинжалом», «господин кинжал» (фр.). (обратно)120
Пикироваться (фр. piquer) — говорить друг другу колкости. (обратно)121
Э. А. Шан-Гирей. Воспоминания // Л. в восп. — С. 437. (обратно)122
Русская армия (фр.). (обратно)123
Н. А. Кузминский. Дуэль Лермонтова с Мартыновым // Петербургская газета. — 1887, 13 июля. — С. 4. (обратно)124
Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке Мартынова с Лермонтовым // Русский архив. — 1893. — Кн. 8. — С. 597. (обратно)125
Висковатов. — С. 362–363. (обратно)126
Увеселительных прогулках (фр.). (обратно)127
Н. П. Раевский. Рассказ о дуэли Лермонтова // Л. в восп. — С. 416. (обратно)128
Е. Г. Быховец. Из письма // Л. в восп. — С. 446–447. (обратно)129
Висковатов. — С. 352–353. (обратно)130
«Кинжал», въезжающий в Пятигорск (фр.). (обратно)131
А. И. Арнольди. Лермонтов в Пятигорске в 1841 году // Л. в восп. — С. 271–272. (обратно)132
Висковатов. — С. 353. (обратно)133
Э. А. Шан-Гирей. Еще по поводу воспоминаний Раевского о Лермонтове // Нива. — 1885. — № 27. — С. 646. (обратно)134
Висковатов. — С. 352. (обратно)135
В. Захаров. Последняя дуэль // Смена. — 1994. — № 4. — С. 24–53. (обратно)136
Н. Кастрикин. «Стреляйте, или я вас разведу!» // Литературная газета. — 1995, 19 апреля. — № 16. — С. 6. (обратно)137
С. Н. Мартынов. История дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым // Русское обозрение. — 1898. — № 1. — С. 315–317. (обратно)138
Из письма Н. С. Мартынова к отцу от 5 октября 1837 г. // Русский архив. — 1893. — Кн. 8. — С. 606–607. (обратно)139
Перевод из французского письма к Н. С. Мартынову его матери // Русский архив. — 1893. — Кн. 8 — С. 608–609. (обратно)140
Имеются в виду Наталья и Юлия Соломоновны. (обратно)141
Д. Оболенский. Из бумаг Н. С. Мартынова // Русский архив. — 1893. — Кн. 8. — С. 612. (обратно)142
А. Ф. Тиран. Из записок // Звезда. — 1936. — № 5. — С. 186–188. (обратно)143
Ф. Ф. Маурер // Петербургская газета. — 1916, 5 июля. — С. 2. (обратно)144
Э. Герштейн. Судьба Лермонтова. — М.: Худож. лит., 1986. — С. 280. (обратно)145
Висковатов. — С. 383–384. (обратно)146
Д. А. Столыпин. Воспоминания // Л. в восп. — С. 204. (обратно)147
П. Бартенев. Цит.: П. Е. Щеголев. Лермонтов. — М.: Аграф, 1999. — С. 288–289. (обратно)148
К. Большаков. Бегство пленных, или история страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова. — М.: Гос. изд. худож. лит., 1932. — С. 174. (обратно)149
Д. Оболенский. Из бумаг Н. С. Мартынова // Русский архив. — 1893. — Кн. 8. — С. 612. (обратно)150
Цит. по: Э. Герштейн. Отклики современников на смерть Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: Статьи и материалы. — М.: Соцэкгиз, 1939. — С. 66–67. (обратно)151
Д. Оболенский. Из бумаг Н. С. Мартынова // Русский архив. — 1893. — Кн. 8. — С. 612. (обратно)152
А. П. Смольянинов. Из дневника // Л. в восп. — С. 455–456. (обратно)153
Висковатов. — С. 261. (обратно)154
П. Бартенев Цит.: П. Е. Щеголев. Лермонтов. — М.: Аграф, 1999. — С. 491. (обратно)155
А. Н. Нарцов. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. — Тамбов, 1904. — Часть 2. — С. 111–140. (обратно)156
Э. Г. Быховец. Из письма // Л. в восп. — С. 446–447. (обратно)157
Сообщение Л. А. Сидери о кончине М. Ю. Лермонтова. Цит.: П. Е. Щеголев. Лермонтов. — М.: Аграф, 1999. — С. 503. (обратно)158
Э. А. Шан-Гирей. Воспоминание о Лермонтове // Л. в восп. — С. 430–436. (обратно)159
Г. А. Крылова. Клингенберг // Лермонтовская энциклопедия / Под ред. В. А. Мануйлова. — М.: Сов. энциклопедия, 1981. — С. 223. (обратно)160
Р. Баландин. Убийство Михаила Лермонтова // Чудеса и приключения. — 1997. - № 2. — С. 57. (обратно)161
Причину ссоры (фр.). (обратно)162
В. И. Чиляев. Воспоминания // Л. в восп. — С. 408–409. (обратно)163
И. А. Арсеньев. Слово живое о неживых // Исторический вестник. — 1887. — Кн. 2. — С. 354. (обратно)164
Цит.: П. Е. Щеголев. Лермонтов. — М.: Аграф, 1999. — С. 496. (обратно)165
Висковатов. — С. 364. (обратно)166
Висковатов. — С. 357. (обратно)167
Висковатов. — С. 366. (обратно)168
П. К. Мартьянов. Дела и люди века. — СПб., 1893. — Т. 2. — С. 76–86. (обратно)169
Горец с большим кинжалом (фр.). (обратно)170
Э. А. Шан-Гирей. Воспоминание о Лермонтове // Л. в восп. — С. 432–433. (обратно)171
Военно-судное дело. — ИРЛИ, ф. 524. Оп. 3, № 16, л. 31–33 об. (обратно)172
В лермонтоведении отсутствует единая точка зрения по вопросу о том, кто на чьей стороне был из секундантов. Мы привели главную и наиболее распространенную версию, совпадающую с нашим анализом. (обратно)173
Н. П. Раевский. Рассказ о дуэли Лермонтова // Л. в восп. — С. 422. (обратно)174
Н. А. Кузминский. Дуэль Лермонтова с Мартыновым // Петербургская газета. — 1887, 13 июля. — С. 4. (обратно)175
А. И. Арнольди. Лермонтов в Пятигорске в 1841 году // Л. в восп. — С. 274. (обратно)176
Н. П. Раевский. Рассказ о дуэли Лермонтова // Л. в восп. — С. 422. (обратно)177
По свидетельствам и письмам негласных свидетелей поединка, называющих разные цифры от 6 до 10 шагов. В мемуарах Васильчикова указано 10 шагов. (обратно)178
Висковатов. — С. 380. (обратно)179
А. С. Траскин. Из письма к П. Х. Граббе // Л. в восп. — С. 444. (обратно)180
Н. П. Раевский. Рассказ о дуэли Лермонтова // Л. в восп. — С. 424. (обратно)181
А. И. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым // Л. в восп. — С. 471. (обратно)182
Л. М. Аринштейн, В. А. Мануйлов. Дуэль Лермонтова с Н. С. Мартыновым // Лермонтовская энциклопедия. — М.: Сов. энциклопедия, 1981.-С. 153. (обратно)183
Висковатов. — С. 372. (обратно)184
А. И. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым // Л. в восп. — С. 472. (обратно)185
П. Мартьянов. Рассказы X. Саникидзе о М. Ю. Лермонтове // Исторический вестник. — 1895. — № 1. — С. 600. (обратно)186
С. П. Шиловцев. Рана Лермонтова // Вопросы хирургии войны и абдоминальной хирургии. — Горький, 1946. — С. 69–72. (обратно)187
А. Чарыков. К воспоминаниям о М. Ю. Лермонтове // Л. в восп. — С. 320. (обратно)188
Цит. по: В. А. Мануйлов. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. — М.; Л., 1964. — С. 169–170. (обратно)189
В. И. Чиляев. Воспоминания // Л. в восп. — С. 410. (обратно)190
Цит. по: Висковатов. — С. 377–378. (обратно)191
Военно-судное дело. — ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 16. (обратно)192
Н. П. Раевский. Рассказ о дуэли Лермонтова // Л. в восп. — С. 429. (обратно)193
Н. С. Мартынов. Ответы на вопросные пункты Следственной комиссии по делу о поединке Мартынова с Лермонтовым // Русский архив. — 1893. — Кн. 8. — С. 596. (обратно)194
Черновая бумага (фр.). (обратно)195
В предыдущей записке Мартынов высказывал претензии к секундантам, что они его недостаточно обеляют. (обратно)196
Письмо двух секундантов (Глебова и князя А. И. Васильчикова) к Н. С. Мартынову // Русский архив. — 1885. — Кн. 1. — № 3. — С. 461–462. (обратно)197
Из бумаг Мартынова // Русский архив. 1893. Кн. 8. С. 600. (обратно)198
Цит. по: М. Ю. Лермонтов: Статьи и материалы. — М.: Соцэкгиз, 1939. — С. 57. (обратно)199
Конфирмация (от лат. confirmatio — утверждение) — утверждение высшей властью государства судебного приговора. (обратно)200
Военно-судное дело. — ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 16, л. 130 об. (обратно)201
Э. А. Шан-Гирей. Воспоминание о Лермонтове // Л. в восп. — С. 435. (обратно)202
Раевский Н. П. Рассказ о дуэли Лермонтова // Л. в восп. — С. 428. (обратно)203
Письмо А. Я. Булгакова к П. А. Вяземскому / / Литературное наследство. — 1948. — Т. 45–46. — С. 712. (обратно)204
Военно-судное дело. — ИРЛИ, ф. 524, оп. 3, № 16, л. 167. (обратно)205
А. С. Андреевский. Пятигорск // Одесский вестник. — 1841. — № 63. (обратно)206
В. Г. Белинский. ПСС. — М. — Л., 1953. 3 Т. 5. — С. 455. (обратно)207
М. А. Погодин. П. Ермолов // Русский вестник. — 1864. — Кн. 8. — С. 229. (обратно)208
Перевод из французского письма П. X. Граббе к А. С. Траскину. Цит. по: Висковатов. — С. 385. (обратно)209
Ю. Ф. Самарин. Из дневника // Л. в восп. — С. 381. (обратно)210
Сестра известного революционера Михаила Бакунина. (обратно)211
Т. А. Бакунина. Из письма к Н. А. Бакунину // Л. в восп. — С. 457. (обратно)212
П. Т. Полеводин. Из письма // Л. в восп. — С. 451. (обратно)213
А. Я. Булгаков. Из дневника // Л. в восп. — С. 459. (обратно)214
А. П. Смольянинов. Из дневника // Л. в восп. — С. 454–455. (обратно)215
ЦГАОР, ф. 851, оп. 1, № 18, л. 106–107 об. (обратно)216
Висковатов. — С. 386. (обратно)217
В. М. Голицын. Воспоминания («Старая Москва»). Часть 2. — С. 56. — ЦГАЛИ, ф. 1337. (обратно)218
Р. Баландин. Убийство Михаила Лермонтова // Чудеса и приключения. — 1997. - № 2. — С. 57. (обратно)219
Н. С. Мартынов. Моя исповедь // Л. в восп. — С. 491. (обратно)220
Статья была подготовлена мной для журнала «Москва» в 2006 году, но после беседы с главным редактором Леонидом Бородиным было совместно решено не вступать в полемику с защитниками Мартынова, чтобы лишний раз не привлекать внимания к убийце Лермонтова. (обратно)221
«Дело № 37» — первый вариант документальной повести «Лермонтов и Мартынов: трагическое противостояние». (обратно)222
Из дневника московского почт-директора А. Я. Булгакова // Литературное наследство. — Т. 45–46. — М., 1948. — С. 710. (обратно)223
А. В. Очман. В чужом пиру… Михаил Лермонтов и Николай Мартынов. — М.: Гелиос, 2006. — 205 с. (Далее сокращенно — Очман). (обратно)224
М. И. Давидов. Дело № 37. — Журнал «Москва», 2003. — № 8. — С. 189–191. (обратно)225
Очман. С. 70. (обратно)226
А. И. Васильчиков. Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым // Русский архив. — 1872. — № 1. — С. 211–212. (обратно)227
П. А. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество. — М.: Современник, 1987. — С. 369–370. (Далее сокращенно — Висковатов). (обратно)228
П. К. Мартьянов. Дела и люди века. — Т. 2. — СПб, 1893. — С. 93. (обратно)229
Письмо впервые опубликовано в журнале «Русская литература». 1974. - № 1. — С. 115–125. (обратно)230
Литературное наследство. — 1952. — № 58. — С. 490. (обратно)231
Нива. — 1880. - № 20. — С. 475. (обратно)232
Н. П. Раевский Рассказ о дуэли Лермонтова // Нива. — 1885. — № 7. — С. 167–168. (обратно)233
О смерти Лермонтова // Возрождение (Париж). — 1939. — № 4153. (обратно)234
В. А. Захаров. Загадка последней дуэли. — М.: Рус. панорама, 2000. — 352 с. (Далее сокращенно — Захаров). (обратно)235
М. И. Давидов. Дело № 37. — Журнал «Москва». — 2003. — № 7. — С. 185–188. (обратно)236
Очман. — С. 74. (обратно)237
Л. П. Семенов. Васильчиков о дуэли и смерти Лермонтова // Ученые записки Северо-Осетинского гос. пед. ун-та. — 1940. — Т. 2, вып. 1. — С. 77–84; и другие. (обратно)238
Э. Г. Герштейн. Судьба Лермонтова. — М.: Худож. лит., 1986. — 351 с. (обратно)239
Висковатов. — С. 380. (обратно)240
М. А. Фурман. Вокруг дуэли М. Ю. Лермонтова // Хроника необычного расследования. — М.: Юрид. лит., 1989. — С. 109–117. (обратно)241
Очман. — С. 76. (обратно)242
П. Т. Полеводин. Из письма // М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. — М.: Худож. лит., 1989. — С. 451 (Далее сокращенно — Л. в восп.). (обратно)243
А. Я. Булгаков. Из дневника// Л. в восп. — С. 459. (обратно)244
Висковатов. — С. 386. (обратно)245
В. М. Голицын. Воспоминания («Старая Москва»). — ЦГАЛИ, ф. 1337. — Часть 2. С. 56. (обратно)246
Захаров. — С. 180. (обратно)247
Очман. — С. 91. (обратно)248
М. И. Давидов. У волчьей балки // Уральский следопыт. — 2009. — № 7. — С. 60–65. (обратно)249
ИРЛИ, ф. 524, он. 3, № 16, л. 31. (обратно)250
Материалы следствия. В кн.: Тайны гибели Лермонтова. — М.: Гелиос АРВ, 2006. — С. 77–78. (обратно)251
В. В. Полонская родилась 16 июня 1908 года. (обратно)252
Н. Ф. Денисовский. Наша юность связана с Маяковским. — ГММ. Рукопись. Инв. № 22633. (обратно)253
К. Зелинский. Легенды о Маяковском // «В том, что умираю, не вините никого»?.. Следственное дело В. В. Маяковского. Документы. Воспоминания современников. — М.: Эллис Лак, 2005. — 556 с. (Далее сокращенно — Следств. дело М.). (обратно)254
Е. А. Лавинская Воспоминания о личных встречах с Маяковским. — ГММ. Рукопись. Инв. № 13276. — 113 с. (обратно)255
Н. Ф. Денисовский. Наша юность связана с Маяковским. — ГММ. Рукопись. Инв. № 22633. (обратно)256
Н. Ф. Денисовский // Научная библиотека МГУ. — Ф. п. 776. (обратно)257
Ю. К. Олеша. Ни дня без строчки. В кн.: Избранное. — Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. — С. 306–307. (обратно)258
И. Н. Боголепова, Н. Н. Боголепов. Мозг В. В. Маяковского // Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1997. — Т. 97. - № 5. — С. 47–50. (обратно)259
И. Н. Боголепова, Н. Н. Боголепов. Мозг В. В. Маяковского // Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1997. — Т. 97. - № 5. — С. 47–50. (обратно)260
Материалы уголовного дела № 02–29. — КП ГММ № 32599 (дело № 50, документ № 10, л. 37–38). (обратно)261
Материалы уголовного дела № 02–29. — КП ГММ № 32599 (дело № 50, документ № 10, л. 37–38). (обратно)262
Материалы уголовного дела № 02–29. — КП ГММ № 32599 (дело № 50, документ № 10, л. 37–38). (обратно)263
В. В. Полонская. Воспоминания. — ГММ. Рукопись. Инв. № 22637. - 184 с. (обратно)264
В. В. Полонская. Воспоминания. — ГММ. Рукопись. Инв. № 22637. - 184 с. (обратно)265
В. В. Полонская. Воспоминания. — ГММ. Рукопись. Инв. № 22637. - 184 с. (обратно)266
В. Скорятин. Сказано еще не все // Журналист. — 1994. — № 10. — С. 36–44. (обратно)267
Протокол допроса Яншина М. М. // Материалы уголовного дела № 02–29. — КП ГММ № 32599 (12) (дело № 50, документ № 10, л. 52–56). (обратно)268
Протокол допроса Полонской В. В. // Материалы уголовного дела № 02–29. — КП ГММ № 32599 (5) (дело № 50, документ № 10, л. 40–42). (обратно)269
Н. Асеев. Беседа с Г. И. Поляковым 24 сентября 1936 г. // Следств. дело — М. — С. 464. (обратно)270
См.: М. И. Давидов. «Кто над виском нажал курок?»// Медицинский вестник. — 2008. — № 38. — С. 23. (обратно)271
Хронический катар дыхательных путей. (обратно)272
Н. Ф. Денисовский. Наша юность связана с Маяковским. — ГММ. Рукопись. Инв. № 22633. (обратно)273
Материалы уголовного дела № 02–29. — КП ГММ № 32599 (дело № 50, документ № 10, л. 37–38). (обратно)274
В. Скорятин. Послесловие к смерти // Журналист. — 1990. — № 5. — С. 52–62. (обратно)275
Цит.: Там же. С. 53. (обратно)276
Е. А. ЛавинскаяВоспоминания о личных встречах с Маяковским. — ГММ. Рукопись. Инв. № 13276. — 113 с. (обратно)277
В. Скорятин. Послесловие к смерти // Журналист. — 1990. — № 5. — С. 52–62. (обратно)278
А. В. Маслов. Автограф смерти // Медицинский вестник. — 2001. - № 14. — С. 15. (обратно)279
Б. Лихарев. В Москве / «Владимир Маяковский» // Однодневная газета Ленинградского отдела ФОСП. — 1930. — 24 апреля. — С. 4. (обратно)280
И. Ю. Булкин. Тайны смерти великих людей. — М.: Рипол классик, 2001. — С. 193–196. (обратно)281
Н. Ф. Денисовский // Научная библиотека МГУ. — Ф. п. 776. (обратно)282
Заключение Российского Федерального центра судебной экспертизы об исследовании пистолета «Браунинг» № 268979, пули и гильзы. — ГММ. Инв. № Н.В.5709. (обратно)283
Заключение Российского Федерального центра судебной экспертизы об исследовании пистолета «Браунинг» № 268979, пули и гильзы. — ГММ. Инв. № Н.В.5709. (обратно)284
Скорятин. Послесловие к смерти // Журналист. — 1990. — № 5. — С. 52–62. (обратно)285
В. В. Полонская. Воспоминания. — ГММ. Рукопись. Инв. № 22637. - 184 с. (обратно)286
С. Е. Стрижнева. «И, пожалуйста, не сплетничайте…». Предисловие к книге «Следств. дело М.». — С. 26. (обратно)287
Заключение специалистов по материалам о смерти В. В. Маяковского. — ГММ. Инв. № 31294. — 12 л. (обратно)288
А. В. Маслов. Выстрел (беседа с журналистом П. Семеновым) // СПИД-инфо. — 1992. - № 3. — С. 9. (обратно)289
А. В. Маслов. Автограф смерти // Медицинский вестник. — 2001. - № 14. — С. 15. (обратно)290
А. В. Маслов. Автограф смерти // Медицинский вестник. — 2001. - № 14. — С. 15. (обратно)291
В. Сутырин. Воспоминания // Следств. дело М. — С. 615. (обратно)292
Н. Денисовский. Воспоминания. — ГММ. Инв. № 22633, В-76. (обратно)293
М. Я. Презент. О Маяковском. Из «Дневника». — КП ГММ № 32609 (дело № 50, документ № 20, л. 95-139). (обратно)294
Подлинник предсмертного письма В. В. Маяковского. — ГММ. Инв. № 9442. (обратно)295
К. Ляско. Маяковский как персонаж театра абсурда // Библиография. — 1995. — № 4. — С. 23–33. (обратно)296
В. Скорятин. Послесловие к смерти // Журналист. — 1990. — № 5. — С. 52–62. (обратно)297
В. Скорятин. Послесловие к смерти // Журналист. — 1990. — № 5. — С. 52–62. (обратно)298
Заключение НИИ судебных экспертиз об исследовании предсмертного письма В. В. Маяковского. — ГММ. Инв. № 31263. — 6 л. (обратно)299
А. В. Маслов. Загадки смерти? // Знак вопроса. — 1996. — № 4 — С. 36. (обратно)300
М. И. Давидов. «Не поставить ли лучше точку пули в своем конце…» // Урал. — 2012. - № 11. — С. 207–228. (обратно)301
В. В. Полонская. Воспоминания. — ГММ. Рукопись. Инв. № 22637. - 184 с. (обратно)302
В. Скорятин. Сказано еще не все // Журналист. — 1994. — № 10. — С. 36–44.
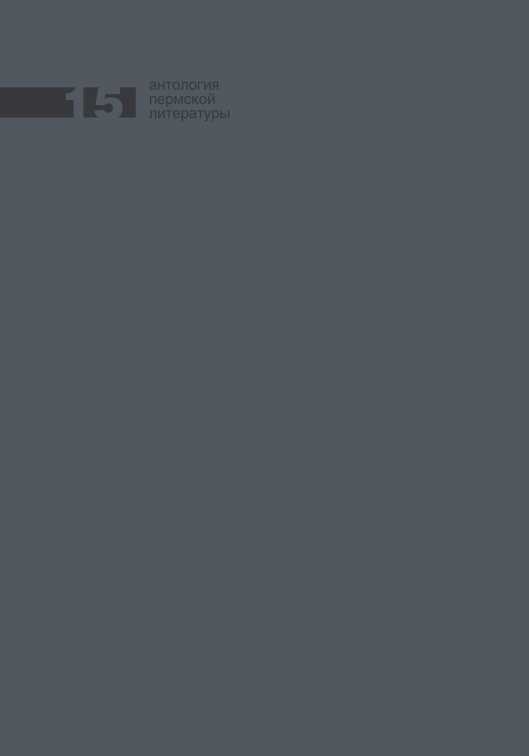 (обратно)
(обратно)

Последние комментарии
1 день 12 часов назад
1 день 16 часов назад
1 день 18 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 21 часов назад