Разум [Рудольф Слобода] (fb2) читать постранично
- Разум (пер. Нина Михайловна Шульгина) 1.45 Мб, 292с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Рудольф Слобода
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (109) »
Разум
Тернистый путь самосознания, или Горе от ума по-словацки
В ряду активно действующих творцов современной словацкой литературы Рудольф Слобода (род. в 1938 г.) давно уже занимает достойное, хотя и весьма особое, стабильно «дискуссионное» место. Начиная с романа «Нарцисс» (1965) до последней, на сегодняшний день пятнадцатой по счету, книги — повести «Уршула» (1987), — произведения Слободы неизменно вызывали живую и, как правило, противоречивую реакцию критики. Многочисленные недоразумения, оправданные, а чаще неоправданные претензии, диаметрально противоположные оценки изначально сопровождали творчество этого самобытного, несомненно талантливого, но далеко не однозначного писателя. Репутация «неустоявшегося» и в какой-то мере непредсказуемого автора до последнего времени препятствовала переводам произведений Слободы и на русский язык. Между тем, по тонкому замечанию словацкого поэта Ш. Стражая, внимательного читателя и истолкователя Слободы, никакой прихотливой непредсказуемости в его творчестве нет: «Слобода, в сущности, всю жизнь создает некий единый развивающийся текст, причем как бы об одном и том же, но сам факт, что мы не в состоянии коротко, без околичностей определить, «о чем» Слобода пишет, уже в чем-то существенном характеризует его прозу». Нас не должна смущать внешняя парадоксальность этого суждения. Дело в том, что творчество Слободы и в самом деле трудно поддается «простодушной» идейно-тематической характеристике. В каждом крупном произведении писателя, будь то, к примеру, романы «Нарцисс» или «Бритва» (1967), «Второй человек» (1981) или «Разум» (1982), есть, разумеется, свой сюжет, своя фабула, в них действуют разные герои и героини, но внутренняя проблематика, общий круг главных, «конечных» вопросов, волнующих автора, остается более или менее постоянным. В центре внимания Слободы, независимо от внешних обстоятельств и поворотов действия, неизменно оказывается внутренний мир личности, причем не как некое определившееся и логически развивающееся целое, а прежде всего как мир формирующийся, постоянно находящийся в движении, часто противоречивый и сложный, густо замешенный как на здравом смысле, так и на предрассудках, вобравший в себя конкретный житейский опыт, но одновременно и массу иллюзий, расхожих «поведенческих» стереотипов и прочих атрибутов обыденного сознания… Основные контуры и координаты этого зыбкого душевного пространства были намечены, а лучше сказать, нащупаны, эмпирически выведены и творчески апробированы писателем уже в первом крупном произведении, романе «Нарцисс». Редкий дебют в словацкой литературе последних десятилетий сопровождался столь бурным обсуждением, вызвал так много восторгов и в то же время тревожных вопросов, как эта книга — с относительно незатейливым сюжетом и «вечной», если не сказать, банальной, темой взросления молодого человека своего времени. Чем же привлек к себе всеобщее внимание рассказ о незадавшейся судьбе Урбана Хро́мого, в недавнем прошлом благополучного студента философского факультета, внезапно прервавшего учебу в университете и завербовавшегося работать в Остраве сначала на шахте, затем на металлургическом заводе? Прежде всего резкой необычностью художественного освещения ситуации. Вероятно, здесь следует пояснить, что в самом факте обращения к подобному повороту в биографии молодого человека — уходу со студенческой скамьи на производство — не могло быть в ту пору ничего сенсационного. Литература уже успела нещадно поэксплуатировать — без особых, впрочем, художественных завоеваний — тему «перековки», нравственной и гражданственной «закалки» всевозможных нестойких индивидуумов в процессе конкретного, физического труда на всех фронтах социалистического строительства. К моменту выхода романа «Нарцисс» эта тема, породившая в пятидесятые годы целый поток схематичных и дидактических по преимуществу произведений, была, таким образом, не только исчерпана, но и, казалось бы, надолго девальвирована. И вот начинающий автор, словно не догадываясь об очевидных последствиях, вновь обращается к явно скомпрометированному материалу. Если бы не предельная искренность интонации, не лихорадочная, местами просто спонтанная напряженность повествования, книгу Слободы можно было бы истолковать как заведомую полемику с канонами «производственного романа», поскольку Урбан Хромы не вынес из своей школы физического труда ничего, кроме отвращения к себе и к тем занятиям, которым он отдал два с лишним года жизни: «Никто его не похвалит. Напротив, все кричат ему, что он зря ушел из вуза, если вообще заходит об этом разговор. И Урбан объясняет им свой шаг всякий раз по-разному, и никогда — правдиво. Разнорабочий! И это идеал? Нет, ему не- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (109) »



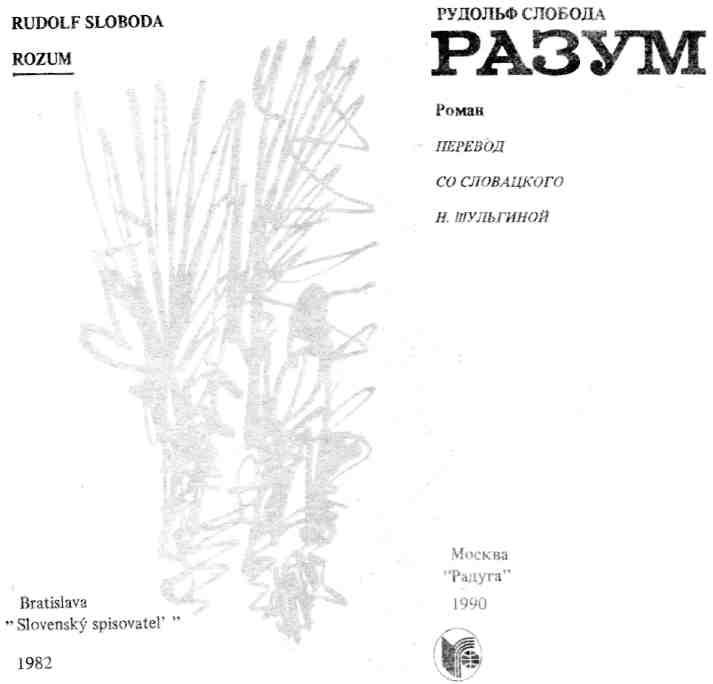
Последние комментарии
15 часов 22 минут назад
15 часов 32 минут назад
3 дней 10 часов назад
4 дней 2 часов назад
4 дней 11 часов назад
4 дней 11 часов назад